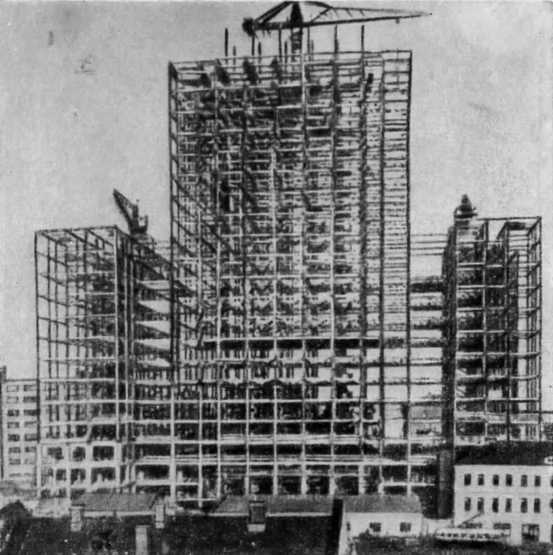Все это была важная и нужная работа. Особый счет нам предъявляли восстановители разрушенных мостов.
За несколько лет мы накопили в дипломных проектах богатейший и очень интересный для нас материал. Помню, что особенно оригинальными были два детально разработанных проекта мощных подъемников. Их практический смысл был бесспорен. С помощью этих фермоподъемников взорванные пролетные строения мостов поднимались на прежнюю высоту. А таких мостов в то время в стране было еще немало.
Было бы преступно держать под спудом собранный материал, не обработать, не обнародовать. Мы засели за работу и довели ее до конца, несмотря на все трудности и сложность задачи, в сравнительно короткий срок. Транспорт получил обширное трехтомное руководство по восстановлению взорванных мостов. Этим я в большой мере обязан моим сотрудникам — инженерам А. А. Московенко, Г. М. Тубянскому, В. Н. Тацитову, А. М. Дамскому, В. Г. Леонтовичу, В. Н. Ярину, Н. И. Галко, А. И. Гончаревичу, Н. Д. Жудину и другим. Большинство из них — мои недавние ученики. В составлении многих чертежей для атласа активно участвовали студенты Киевского политехнического института, работавшие с полной самоотверженностью и за более чем скромное вознаграждение. Из числа этих студентов назову Казючица, Манасевича, Герасимова, Полухтовича, Дунаева, Яцыну, Кильчинского, Линовича, Новосельского, Бондаренко, Трея, Шолохова, Сучкова, Телуха, Нешта и Эрлиха. Каждая из этих фамилий вызывает у меня в памяти воспоминания о молодых людях, для которых мостостроение было не случайно избранной профессией, а настоящим жизненным призванием. Многие из них сейчас сами ведают кафедрами в высших учебных заведениях, передают свой опыт и знания молодому поколению. В этой преемственности — неиссякаемая сила жизни.
Скажу попутно: я всегда любил работать с молодежью, свободной от косности и рутинерства, часто свойственных так называемым признанным специалистам тех времен. На протяжении десятков лет моими неизменными помощниками в работе над проектами и соавторами учебников были студенты и молодые инженеры. С каждым годом разница в возрасте между нами увеличивалась: я старился, а в чертежных и аудиториях все так же цвела и бурлила молодость. В молодежи меня всегда привлекали ее любовь к труду, искание новых, еще не изведанных путей, готовность дерзать и смело рисковать.
Но вернемся к трехтомному руководству, о котором я начал рассказывать.
Работая над ним, я и на этот раз следовал своему старому испытанному правилу — не полагаться только на себя, на свой опыт, на свои знания. В руководстве был обобщен опыт многих бывших и нынешних моих студентов-дипломантов, сюда вошло все ценное из того, что я отыскал при изучении архивов управления Юго-Западных железных дорог, строительных организаций, железнодорожных батальонов. В том, что сделали они, я часто находил отражение и развитие своих идей, но уже проверенных жизнью, реализованных. Да, жизнь учила, что только при таком взаимном обогащении возможно дальнейшее развитие любой отрасли техники.
На той же основе родились и другие мои труды того периода: «Разборные железные мосты», новое расширенное издание таблиц для расчета мостов, пособие для составления эскизных проектов мостов с атласом чертежей каменных устоев и быков и другие. Я считал недопустимым переиздавать свои старые книги, не оглядываясь на то, как за это время ушли вперед и жизнь и наука. Поэтому, выпуская совместно с моим талантливым и любимым учеником Б. Н. Горбуновым новое издание курса «Железных мостов», мы не только расширили его, но основательно переработали в нем все изжитое, устаревшее и обогатили всем новым и передовым.
В дореволюционное время при проектировании мостов основное внимание уделяли прочности мостовых конструкций и не задумывались над трудоемкостью и условиями изготовления этих конструкций на заводе. Удобство клепки узлов, упрощение их сборки на заводе и затем на монтаже не интересовали проектировщика. Между тем неудачное расположение монтажных стыков, неудобные заклепочные соединения в узлах значительно затрудняли и удорожали производство. К чему это приводило на практике, можно показать на следующем типичном случае. На Сибирской железной дороге во время сильных морозов строился большой мост через Енисей. Постановка некоторых заклепок в опорных узлах ферм была связана с большими трудностями. Рабочий с поддержкой вынужден был пролезать через узкий люк внутрь узловой коробки, закрытой со всех сторон. В ней было настолько тесно, что рабочему приходилось сбрасывать с себя всю теплую одежду. На дворе стоял свирепый мороз, и чтобы рабочий не коченел, пока продолжалась клепка, его поили водкой.
С такими варварскими методами труда, с таким пренебрежением к человеку, граничащим с преступлением, надо было покончить. И в новом изданий нашего курса железных мостов мы излагали и отстаивали совершенно новый метод рационального проектирования, основанный на разложении мостовых конструкций на укрупненные монтажные элементы, полностью изготовляемые на заводе. В результате постройка моста могла теперь обойтись дешевле и требовала значительно меньше времени. Превосходство этого нового метода сразу же стало настолько очевидным, что он быстро завоевал признание и, как говорится, вошел в жизнь. Его горячо приветствовали рабочие. И это понятно: труд их намного облегчался и упрощался. А мы с радостью сознавали, что наш учебник сыграл не последнюю роль в утверждении и победе передового метода. Он распространился не только на практике, но и в студенческих дипломных работах и в нашем и в других институтах.
Я добивался всеми возможными способами, чтобы для моих студентов создание проекта будущего моста представлялось не отвлеченной умозрительной задачей, а чтобы они уже сейчас, в годы учения, умели видеть мост в работе, в действии, под разной нагрузкой, чтобы имели наглядное представление о разных системах ферм, различных видах балок. С этой целью я, в частности, построил для своей кафедры мостов в Киевском политехническом институте крупную модель моста для экспериментального изучения разных вопросов. Две стальные фермы этой модели имели пролет в 15 метров, рассчитана она была на стотонный груз, приложенный посредине пролета. Модель была так сконструирована, что имелась возможность измерять напряжения и деформации при любом положении нагрузки, создавать различные системы решеток ферм, а соединения поперечных балок с фермами делать самыми разнообразными.
Без преувеличения могу сказать, что мысль создать эту, необычную в институтской практике, модель была счастливой мыслью. Знания студентов стали более прочными и глубокими, и, готовя свой дипломный проект моста, они не раз и не два проверяли свои идеи и расчеты на этой модели и, как у нас шутя говорили, часто «советовались с ней». А многочисленные измерения, проведенные на модели студентами, помогли уяснить много важных тем и технических вопросов, важных для науки и для практики.
Молодая Советская республика все заметнее набирала силы, все смелее шагала вперед. Чтобы почувствовать это, стоило взглянуть хотя бы на строительство мостов. Только у нас на Днепре, в районе Киева, хватало работы для моей кафедры, для всех наших дипломантов. В период с 1925 по 1927 год в Киеве на очереди стоял вопрос о новых мостах через Днепр, как железнодорожных, так и гужевых. Допоздна кипела работа у нас в чертежной. Здесь студенты вместе со мной решали сложные задачи. В два-три года мы спроектировали ряд вариантов городского моста от Почтовой площади около пароходных пристаней на Труханов остров и другие.
Но мы не довольствовались работой только на «свой» Днепр и старались принять активное участие в строительстве мостов и в других концах страны. Когда в Нижнем Новгороде был объявлен конкурс на составление проекта большого городского моста через Оку, мы немедленно отозвались. Для участия в этом конкурсе я образовал бригаду из двух молодых и энергичных инженеров-мостовиков и одного архитектора, которая под моим руководством разработала проект моста в двух вариантах.
Патон Евгений Оскарович
ВОСПОМИНАНИЯ
(Литературная запись Юрия Буряковского)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МЕСТО В ЖИЗНИ
1 ВЫБОР ПУТИ
Я родился в 1870 году в семье русского консула в Ницце, бывшего гвардейского полковника Оскара Петровича Патона. Это был год, когда разразилась франко-прусская война. Где-то вдали от Средиземного моря в бессмысленной бойне за чужие интересы гибли сотни тысяч простых людей, а здесь, под лазурным небом прекрасного юга, безмятежно шумело море, цвели оливы и апельсины, магнолии и миндаль, раскачивались могучие кроны эвкалиптов, круглый год стояла теплынь и круглый год благоухали великолепные цветы…
Тут, в Ницце, в главном городе департамента Приморские Альпы, на самом модном и изысканном курорте французской и всей прочей европейской знати, все вокруг располагало к праздности, лени, прожиганию жизни. С детских лет я видел на улицах и набережных Ниццы толпы разодетых бездельников, богачей и кутил всех национальностей, напропалую соривших деньгами и жаждавших необычных развлечений и «острых ощущений». Блеск и роскошь окружающей жизни как бы говорили: чтобы так жить — нужны деньги, много денег, а для их добывания нет запретных средств и путей. Учись у немногих счастливцев находить свое место под солнцем, не брезгай ничем, помни, что в этом мире человек человеку волк! Уже в зрелые годы мне приходилось встречать в Ницце среди приезжих и таких своих соотечественников, которые больше всего боялись, что их примут за русских, и во всем старались походить на «европейцев».
В стенах нашего дома шла другая жизнь.
Уже много лет мой отец жил на чужбине и часто признавался домашним в острой тоске по родине. Он опасался, как бы его дети, родившиеся за границей, не выросли иностранцами, людьми без роду и племени, как бы не схватили они прилипчивую отвратительную болезнь, гораздо более опасную, чем все известные хвори: страсть к наживе, к праздному ничегонеделанию. Он считал очень полезным родной воздух и часто на лето отсылал нас вместе с матерью в Россию. Впоследствии, в мои студенческие годы, отец был искренне доволен тем, что я отбывал в России воинскую повинность.
Я и любил и побаивался отца. Это был суровый, немногословный человек, скупой на внешние проявления чувств, но в действительности отзывчивый и сердечный. В семье царила строгая дисциплина. Нас, детей, в семье было семеро — пять братьев и две сестры. Больше всего отец не терпел лени и праздности. Девочкам еще давались поблажки, но с мальчиков в семье спрашивали по всей строгости. Отец требовал, чтобы дома все говорили между собой по-русски, но он же настоял, чтобы все мы, кроме родного языка, изучили еще французский, английский и немецкий. За это я был благодарен отцу и через десятки лет.
До поступления в гимназию я, как и все братья и сестры, занимался дома с приходящими учителями. Уроки давались мне легко, хотелось скорее покончить с ними — ведь рядом играло под солнцем вечно живое, вечно изменчивое, ласковое и в то же время загадочное, таинственное море. Воспоминания о детстве для меня на всю жизнь связаны с морем, с шумом прибоя, с редкой красоты восходами и закатами солнца.
Как и полагалось мальчику, родившемуся под шум прибоя, я помышлял только о морской службе и во сне и наяву видел себя с подзорной трубой в руках на капитанском мостике океанского огромного корабля. Мать моя, Екатерина Дмитриевна, добродушно посмеивалась, когда я делился с ней своими детскими мечтаниями. Еще бы, все мальчуганы здесь будущие храбрые флотоводцы и бесстрашные покорители морей и океанов! О чем еще помышлять мальчику в такие годы в приморском городе? Я целовал руку матери и убегал к своим игрушечным яхтам и фрегатам…
Мог ли я знать тогда, что мать уже давно избрала для меня более прозаическое, но и более блестящее, с ее точки зрения, будущее?
С годами я стал замечать, что иногда при моем появлении в гостиной мать и отец обрывают подозрительно громкий разговор и поспешно отсылают меня из комнаты. Но однажды спор все же разгорелся в моем присутствии.
Мать хотела видеть своих детей в будущем «самостоятельными людьми», на которых работали бы другие. Конечно, она желала детям добра, но на то, в чем заключается это добро, у нее были свои взгляды.
Служить где-то чиновником, годами ждать прибавки жалованья? Нет, такой удел не для ее детей. Даже страшно подумать о таком прозябании. Дочери выйдут замуж, сделают хорошие партии, а сыновья… Сыновья должны стать гвардейскими офицерами, людьми при дворе, помещиками. В общем она стояла за аристократическую карьеру.
— Пойми же, — твердила мать отцу, — наш святой долг перед детьми — заранее обеспечить им преуспевание и высокое положение.
Отцу мало улыбались подобные планы. Роль помещика ему всегда претила, а его имение в Новгородской губернии было уже не раз заложено и перезаложено. Прослужив до сорока лет в армии, он, военный инженер, хорошо знал, что такое «царская служба» в тогдашней России. Отец тоже хотел видеть своих детей независимыми, но чтобы независимость эта основывалась не на паразитизме, а на своем собственном месте в жизни, завоеванном честным трудом.
Мать, не без оснований, считала, что материальные дела семьи можно было бы легко поправить, если бы не строптивый и гордый характер отца, его нежелание и неумение ладить с петербургским начальством, с министром, с двором. Она полагала, что стоило бы отцу умерить свою гордыню, и тогда бы нашлось для него кое-что получше, чем место консула в курортном городе. А вместе с повышением в должности пришли бы и деньги, столько денег, чтобы можно было привести в порядок дела в захиревшем и разоренном имении. И если муж не может, не хочет переломить себя, почему дети должны страдать из-за этого?
Мать сумела частично настоять на своем: всех нас — пятерых мальчиков — записали в пажеский корпус. Правда, победа ее была неполной, только двоих из нас, самых старших, отец действительно отправил в Петербург в пажеский корпус. Но зато хоть за них мать теперь была спокойна: она считала, что это верный путь к блестящей карьере. Меня же и остальных братьев отец отдал в гимназию.
Учились мы в Штутгарте. Отец полагал, что в немецких гимназиях преподавание поставлено основательнее, чем во французских. Вместе с нами в Штутгарт пришлось переехать и матери. В реальной гимназии, куда меня определили сразу в седьмой класс, директором был математик, и основное внимание уделялось точным наукам. Мне приходилось много и упорно работать, чтобы догнать своих соучеников. Немало крови испортила мне латынь, которую в гимназии начинали изучать с четвертого класса. Но я уже умел сидеть за рабочим столом столько, сколько нужно было, чтобы потом не краснеть перед собой и товарищами, и одолел латынь.
Мать недолго пробыла с нами в Штутгарте: ей пришлось по делам уехать в Россию, что-то улаживать и как-то распутывать бесконечные неурядицы с имением.
Переехать в пансионат для иностранцев я и мои братья отказались. Скучный педантизм воспитателей, жизнь по ранжиру и кондуиту, придирки «педелей» к каждому пустяку были нам не по нраву. Мы предпочитали свободу.
В воскресные дни и в праздник троицы, пешком или на велосипедах, мы забирались в Шварцвальдские леса. Какое это было наслаждение — бродить в горных лесах, устраивать ночевки на каменистом берегу ворчливой речки, раскладывать костер и чувствовать себя независимым, свободным, вольной птицей!
Лежа на спине, лицом к крупным летним звездам, я далеко уносился в мечтах.
Еще год — и прощай школьная скамья! Спасибо отцу за то, что спас меня от карьеры старших братьев. Кем же я стану? Конечно, инженером-строителем, это давно и твердо решено. Отец даже не знает, наверно, что я навсегда запомнил его рассказы об известных русских инженерах, из которых он многих знал лично. Строить, создавать. на радость людям, — что может быть прекраснее и увлекательнее? Мне вспоминались нищие деревушки Белоруссии, где я бывал несколько раз, ее горбатые разбитые дороги, захолустные, бедные города. Ох, как там нужны люди, смелые, энергичные, знающие!
Мягко лучился над Шварцвальдом свет далеких звезд, весело трещал костер, и в такую минуту я казался самому себе богатырем, которому все по плечу. Скорее бы только вырасти, скорее бы в жизнь, скорее получить высшее образование…
Но мне не удалось через год проститься со школой. Отца перевели консулом в Бреславль, туда же переехала с ним часть нашей семьи, в том числе и я. На этот раз в школе директором был заядлый лингвист, и в ней процветали языки. К их знанию предъявлялись драконовские требования.
— Я лучше потеряю год, — объявил я отцу, — но догоню товарищей. Учиться как-нибудь не хочу. Без отличного знания языков настоящего инженера из меня не выйдет.
Отец внимательно посмотрел на меня:
— Инженера? Ты об этом мечтаешь?
— Нет, Женя, — вмешалась мать, — дорога старших братьев — это и твоя дорога. Мы с отцом уже побеспокоимся, чтобы ты не знал в жизни нужды.
— А я, как ты давно знаешь, за то, чтобы мальчики сами выбирали себе дорогу, лишь бы из них был прок, — ответил вместо меня отец. — И тебя, Евгений, неволить не стану, — продолжал он, обращаясь ко мне. — Запомни одно — хочу, чтобы из тебя вышел серьезный человек, чтобы ты нужен был еще кому-нибудь, кроме самого себя и своих родителей.
Я благодарно сжал отцовскую руку.
— Я очень рад, что мне не нужно будет поступать против вашей воли.
Отныне передо мною открывалась возможность самому прокладывать себе путь.
Но раньше нужно было закончить гимназию.
На карманные деньги, которые мне выдавал отец, я нанял репетитора по языкам. На моей книжной полке появились английские, немецкие и французские классики в оригиналах. Все реже приходилось обращаться к словарям, и скоро я сравнялся в знаниях с остальными питомцами гимназии. Я закончил ее осенью 1888 года одним из первых учеников.
— Теперь я знаю, что дает самую большую радость, — в минуту откровенности говорил я отцу. — Это умение поставить себе пусть маленькую, но самостоятельную цель и упорно добиваться ее достижения.
— Пусть это будет всегда твоим правилом, Евгений, — ответил мне отец. — Вырастешь, появятся и большие цели.
В последнем классе гимназии я удивлялся тому, что некоторые из моих товарищей до сих пор колеблются в выборе будущей профессии. Что касается меня, то мой выбор был сделан твердо: я буду строить мосты.
— Почему же именно мосты? — спрашивали меня товарищи.
Я охотно отвечал на этот вопрос.
— Есть две причины. Первая — личная. Мне нравятся точные науки не сами по себе, а возможность их применения на практике. Абстрактные числа и формулы — не для меня. Другое дело — увидеть эти формулы и ряды цифр воплощенными в строительных конструкциях. А мосты — один из самых интересных видов таких конструкций.
— Хорошо. А какая же вторая причина? — допытывались товарищи.
— А вот какая. В России, на моей родине, сейчас идет большое строительство железных дорог. Взгляните на карту. Тысячи больших и малых рек! К тому времени, когда я закончу институт, каждый знающий мостовик будет у нас в России очень нужным человеком. Теперь понятно?
— Да, понятно. Счастливый ты человек, Женя!
С этим я был вполне согласен. Знать, чего ты хочешь достичь в жизни, — большое счастье.
2. С МЫСЛЬЮ О РОДИНЕ
Осенью 1888 года я поступил на инженерно-строительный факультет Дрезденского политехнического института. Я был тогда рослым, плечистым и физически сильным юношей с большим запасом энергии и сил.
На первом же курсе я выработал твердые правила жизни и поведения и дал самому себе слово не отступать от них. Я не делил лекций на важные и второстепенные и не позволял себе пропускать ни одной из них, вел подробные записи-конспекты. Многие студенты пренебрегали графическими работами («скука, возня!»), я старался выполнять их строго по расписанию. Чтобы побывать лишний раз с экскурсией на заводе или каком-либо строительстве, я охотно отказывался от любого удовольствия. С большим увлечением работал в студенческом инженерном кружке. Читал я запоем и дома и в публичной Дрезденской библиотеке. Я старался не ограничиваться рамками учебных программ, расширять свои знания. Вежливо, но твердо отклонял приглашения принять участие в студенческих попойках.
Меня мало беспокоили косые взгляды некоторых сокурсников. Скоро мне стали передавать такие их отзывы о моей персоне:
— Чудак какой-то… Видно, одолела его тоска и преждевременная старость. А ведь в жизни немецких буршей столько удовольствий! На первом, а то и на втором курсе сам бог велел не слишком утруждать себя.
С не меньшим удивлением, чем они ко мне, присматривался к немецким буршам и я. Живя во Франции, я столько слышал о немецкой аккуратности и добросовестности. Но эти достоинства я находил далеко не у всех студентов.
«Что же это такое? — раздумывал я. — Глупые, скандальные дуэли, возведенные в доблесть… Выпивки, дебоши до утра, кичливые манеры, прусская петушиная гордость своим «корпоративным духом».
И я решил про себя: «Черт с ними, я здесь, чтобы учиться, а эти шалопаи, если это так уж им нравится, пусть дырявят друг друга своими опереточными шпагами».
Вернувшись с первых студенческих каникул, я как-то разговорился с одним из таких студентов. Я рассказал ему, что во время вакаций ездил в Россию, усердно трудился там все лето и сдал в Новозыбковской гимназии экзамен на русский аттестат зрелости.
— Нашли чем заниматься! И зачем это вам? Что там, поволочиться не за кем было?
Я молча отвернулся и отошел в сторону. Не объяснять же было этому повесе, что впереди у меня заветная цель — диплом русского инженера. Я вынужден пока жить и учиться за границей, но как только закончу образование, вернусь на родину и к немецкому диплому постараюсь присоединить диплом русский.
Званием русского инженера я гордился заранее, хотя все, что мне внушали в Германии о русской науке, должно было бы умалить это звание в моих глазах. Если верить тогдашним немецким техническим журналам, то получалось, что русская наука — это провинциальная глухомань, а мостовики на моей родине отстали от Европы на добрую сотню лет. В России, дескать, инженерная мысль пребывает в самом младенческом состоянии. Если же изредка она и создает в железнодорожном строительстве что-нибудь стоящее, то все это не свое, не оригинальное, а заимствованное у премудрых иностранных учителей. Русским мостовикам отводилась незавидная роль подражателей, да и то довольно ленивых. Подобная же ирония сквозила и в лекциях дрезденских профессоров. Послушать их, так могло показаться, что на немецкой границе с Россией чуть ли не обрываются рельсовые пути.
С каждым годом я все меньше принимал на веру все эти высокомерные статьи и речи. Правда, в России позже, чем в некоторых других странах, развернулось крупное железнодорожное строительство. Но, начав его позже других, Россия не только быстро догнала Европу, но и во многом опередила ее. До меня доходили только отрывочные, случайные сведения, но и они начисто опровергали утверждения немецких и английских журналов.
Еще от своего отца я впервые услышал о замечательном русском инженере Станиславе Валериановиче Кербедзе, которого отец хорошо знал по совместной службе. Построенный Кербедзом в 1850 году в Петербурге Николаевский мост через Неву с разводной частью для пропуска судов был не только одним из самых замечательных и красивых сооружений того времени, но и первым таким большим мостом с чугунным арками.
— А через два года, — рассказывал мне отец, — Кербедз, проектируя мост для Варшавской железной дороги, впервые не только в России, но и во всей Европе, применил железные решетчатые фермы значительного пролета на мосте в Дирмау на Висле. В дальнейшем Кербедз не раз оказывался победителем в соревновании с иностранными инженерами — проектировщиками мостов, его смелая мысль опережала их в теории и в практике.
Вскоре я узнал и о Дмитрии Ивановиче Журавском и о Николае Аполлоновиче Белелюбском. Из тех смутных сведений о первом из них, которые дошли до меня в то время, я понял самое главное: русский инженер Журавский впервые в мире, в середине XIX века, подвел серьезную теоретическую основу под практику строительства железнодорожных мостов, создал первый научный метод расчета ферм. И не только раз работал теорию, но и блестяще применил ее при постройке всех мостов Петербургско-Московской железной дороги. Прославленные иностранные специалисты не раз потом обращались к теоретическим трудам и практическому опыту талантливого русского инженера и ученого и многое заимствовали у него.
О Н. А. Белелюбском я знал тогда только как об авторе проекта Сызранского балочного железнодорожного моста через Волгу. Но уже один этот мост поразил мое воображение. Его тринадцать пролетов с фермами многораскосной системы имели общую протяженность в полтора километра! Во всей Европе не было ему равного по длине. Это выдающееся инженерное сооружение свидетельствовало о смелости мысли его создателя, о высоком уровне теоретических знаний.
В одном из технических журналов мне как-то попалась статья о неудачных попытках французского правительства проложить железную дорогу через Сахару. В разговорах и писаниях о значении такого пути не было недостатка. И все же проект, предложенный одним французским инженером, более десяти лет пролежал под спудом. Наконец в 1870 году после долгих споров и колебаний была снаряжена разведывательная экспедиция в Сахару. Но очень скоро ей пришлось оттуда убраться восвояси: несколько инженеров заплатили своей жизнью за попытку проникнуть в глубь страны. После недружелюбного приема, оказанного строителям местными жителями, интерес к Транссахарской дороге снова надолго остыл.
Помню до сих пор, что, дочитав статью до конца, я в простоте душевной изумился. Как же можно было умолчать о том, что в мировой практике уже имеется удачный пример, замечательный опыт прокладки железной дороги через песчаную пустыню — опыт русских инженеров?! С 1880 года строители Закаспийской линии упорно и ожесточенно боролись с сыпучими песками, которые разрушали результаты их труда и заносили только что уложенное полотно. Они боролись с бешеными ветрами, сметавшими насыпи, с бурным течением Аму-Дарьи, размывающей мостовые устои.
И все же дорога была построена, поезда двинулись через пески от Каспия до самого Самарканда. И обо всем этом в статье ни слова!
Больше всего мне хотелось самому встретиться с людьми, которые пополнили бы мои скудные сведения об отечественном мостостроении. Но в Дрездене редко появлялись русские инженеры, а мостовики и того реже. И вдруг счастливый случай свел меня с неоценимым человеком. В Дрезден по личным делам приехал профессор Петербургского института инженеров путей сообщения Валериан Иванович Курдюмов. Профессор собирался венчаться в русской церкви в Дрездене, знакомых в городе, кроме родных невесты, не было, и в поисках шаферов он обратился за помощью в «Русский кружок». Здесь Курдюмову — думаю, не без умысла — указали на меня. Я, конечно, с превеликой охотой согласился сопровождать русского профессора в церковь. Чтобы завязать с ним близкое знакомство, я, пожалуй, предпринял бы тогда путешествие и в сотню километров! От земляков я узнал о том, что Курдюмов занимается важнейшей проблемой: изучением поведения грунтов под давлением мостовых опор и железнодорожных насыпей. Работа В. И. Курдюмова «О сопротивлении естественных оснований» принесла автору известность в научном мире России.
Рискуя навлечь на себя неудовольствие молодой жены профессора, я напросился в гости к Курдюмовым и стал мучить профессора своими вопросами. Я не боялся показаться назойливым, — Курдюмов, надо полагать, знает, что такой случай для русского студента в Германии представляется не часто. Валериан Иванович не только не рассердился, но даже постарался еще больше разжечь мой интерес к отечественной науке.
Притихнув, боясь проронить хоть слово, слушал я рассказ Курдюмова о грандиозном строительстве Великого Сибирского пути, о необычайно дерзких и увлекательных задачах, о непрерывной героической борьбе с природными трудностями и силами стихии. Вот куда бы мне попасть! А потом Курдюмов стал говорить о своем институте… Я узнал о том, что и Кербедз, и Журавский, и Белелюбский, и сам Курдюмов вышли из его стен, что многие знаменитые мужи науки с благодарностью вспоминают годы, проведенные в его аудиториях и лабораториях.
— Вот где бы вам поучиться, мой молодой друг! — сказал Курдюмов, прощаясь со мной. — Ну, ничего, кончайте тут и поскорее приезжайте в Россию. Работы там сейчас непочатый край.
Всю дорогу домой я думал об этих словах. С тех пор они прочно засели у меня в голове.
Последние студенческие каникулы я снова провел в родовом имении матери в Белоруссии. Все запуталось там и шло прахом. Несколько лет подряд мать закладывала и перезакладывала имение, но все глубже увязала в долгах. В полном отчаянии она твердила мне:
— Я слабая женщина, Евгений, и у меня уже нет сил для этой вечной борьбы. Попытайся хоть ты что-нибудь сделать.
Я честно пытался помочь матери, ездил в банки, советовался со знающими людьми, но слишком чуждыми и непонятными были для меня все эти хитроумные финансовые комбинации, закладные, купчие, вычисления процентов на проценты. И, ничего не добившись, я сложил оружие.
— Да, это очень грустно, что имению грозит продажа с молотка, — говорил я матери, — но что я могу поделать?
Совсем другое было у меня на уме. Я бомбардировал русское министерство путей сообщения письмами, в которых просил допустить меня к защите диплома в Петербургском институте путей сообщения. Я знал, что это «против правил», но все же настаивал, чтобы исключение было сделано на том основании, что я, как сын консула, вынужден был жить и учиться за границей.
Я ясно видел, что мое равнодушие к положению дел в имении очень огорчает мать. Она обвиняла меня в легкомыслии. Должен же я, наконец, понять, что она старается не для себя! Много ли ей с отцом нужно теперь, когда дети выросли и становятся самостоятельными? Она хочет оставить мне в наследство поместье, свободное от долгов и закладов, она печется о моем благополучии и благополучии моей будущей семьи.
Молча, расстроившись до слез, выслушала мать мой ответ на все эти сетования и обиды.
— Поверьте, мама, самое драгоценное наследство, которое могут родители ославить детям, — это привычку и любовь к труду, к специальности, избранной на всю жизнь. Это куда ценнее всяких материальных благ. У меня как будто такая привычка есть. Значит, вы за меня не бойтесь, не пропаду в жизни. А имение это мне, если говорить откровенно, ни к чему. Одни волнения и неприятности. — Я старался шуткой смягчить резкость своих слов. — Можно считать, мамочка, что мне даже повезло.
Мать ничего не ответила. В ее глазах это было большим несчастьем — такая непрактичность в житейских делах. Она жаловалась на меня другим:
— Влюблен в свои мосты — и ничего больше знать не хочет! Что ждет его впереди? Наивный мальчик, на что он надеется? Любовь к труду… Это так мало.
Но скоро мы с матерью помирились, и она стала не так уже безнадежно смотреть на мое будущее. Сразу же после окончания Дрезденского института я получил несколько предложений. В самом институте меня пригласили занять место ассистента при кафедре статики сооружений и мостов. Это сулило в будущем профессуру. Я колебался. Немного страшил столь быстрый переход от роли студента к роли преподавателя. Но мне напомнили, как однажды я несколько недель не без успеха заменял на лекциях заболевшего профессора, — и я согласился. Проектное бюро по строительству нового дрезденского вокзала предоставило мне должность конструктора. Отец посоветовал принять и это предложение: не следует замыкаться только в преподавательской скорлупе. Отец всегда одобрял сделанный мной выбор профессии, ведь это была и его профессия в прошлом. Смягчилась, утешилась и мать и уже поговаривала о том, что, может быть, в самом деле ее представления о том, как надо сейчас жить на белом свете, устарели.
Я в ту пору чувствовал в себе много сил, мне казалось, что им нет предела, что на свои крепкие, молодые плечи я могу грузить сколько угодно. Я начал работать на кафедре и довольно быстро освоился со своим новым положением в институте. Участие в проектировании большого вокзала открывало неоценимую возможность с первых же самостоятельных шагов практикой, жизнью проверить, закрепить знания, полученные на студенческой скамье. На крупнейшем мостостроительном заводе Гутехофнунгсхютте в Стекраде мне в январе 1895 года доверили рабочий проект шоссейного моста и другие конструкторские работы по мостам.
С большим увлечением трудился я над первым своим рабочим проектом, не считал зазорным искать советов и учился у всех: у старых инженеров, у конструкторов, у опытных заводских мастеров. Я внимательно присматривался ко всему, всюду искал то полезное, что можно почерпнуть из практики, и упорно думал все о том же — о переезде в Петербург, о русском дипломе. Дрезденские знакомые, которые, видимо, считали меня не по летам молчаливым и замкнутым, вряд ли поверили бы в то, что я умел мечтать. А я мечтал! Мечтал горячо и видел в своем воображении далекие беспредельные просторы России, нескончаемые, уходящие к горизонту стальные нити рельсов и ажурные красавцы мосты, соединяющие берега могучих и полноводных русских рек. Тяжело, очень тяжело было ощущать свою оторванность от родины. Должна же была так неудачно сложиться моя жизнь с самого ее начала!
Когда я уже окончательно потерял надежду на ответ из русского министерства путей сообщения, долгожданное письмо, наконец, пришло. Первые его строки вызвали у меня бурную радость, последующие — смятение и растерянность.
В письме сообщалось: согласие на просьбу господина Е. О. Патона, причем в виде особого исключения, может быть дано, однако при условии, если он соблаговолит поступить на пятый курс Петербургского института инженеров путей сообщения, сдать экзамены по всем предметам и составить пять выпускных проектов. В противном случае министерство, к сожалению, вынуждено будет и т. д. и т. д.
Я с изумлением перечёл письмо несколько раз. Нелепое, ничем не обоснованное требование! Но протестовать или оспаривать бесполезно… Теперь мне предстояло второй раз в жизни сделать ответственный выбор, принять решение, которое навсегда определило бы мое будущее.
— Итак, Германия или Россия?
Здесь, в Дрездене, меня уже немного знают, здесь мне обеспечено быстрое продвижение, может быть, профессура. Об этом твердят все мои «доброжелатели». Они настойчиво внушают:
— Не одними возможностями для карьеры и житейскими благами должна прельщать Германия молодого инженера. Где еще он найдет такой простор для научных дерзаний? Где еще есть в Европе такая передовая школа в мостостроении и такие первоклассные учителя для начинающего инженера и педагога?
Они, эти непрошеные советчики, ничего не говорили прямо, они как бы деликатничали и щадили мое национальное самолюбие. Но и без того было ясно, что намекают они на мнимую отсталость моей родины в строительстве мостов, на ими же выдуманную легенду: «Россия и впредь останется страной большаков, проселков и полевых трактов».
Я мог бы ответить им, что любая страна гордилась бы Кербедзом, Журавским, Белелюбским. Я мог бы напомнить о том, что начатое недавно, невиданное по размаху строительство Великого Сибирского пути полностью опровергает пророчества о вечном царстве крестьянской телеги в России. Но я не ввязывался в подобные споры, — пусть сама жизнь рассудит нас.
Совсем другое смущало и волновало меня.
— Потерять год? Снова сесть за учебники, снова стать студентом? И это после того, как я сам вел занятия в институте, проектировал мост, принимал участие в строительстве большого вокзала?
Я рвался к живому, горячему делу на родине, а тут предстояло опять составлять студенческие проекты, штудировать дисциплины, которых даже не было в программе немецкого института.
Здесь, в Дрездене, — отчетливая перспектива, там, в Петербурге, — еще один год трудной и напряженной студенческой жизни, год, который стоит трех иных, и — пока полная неясность на будущее.
Все это верно, все это так, но зато впереди Петербург, Россия! Не об этом ли я мечтал столько лет? Что ж, ради этого стоит пойти на все. Отец был полностью согласен со мной.
И я принял решение. Прощай, Германия, ничем тебе не удержать меня, мое место — в России.
В августе 1895 года я выехал в Петербург.
3. РУССКИЙ ДИПЛОМ
Взят еще один барьер, очень высокий и очень трудный. Мне самому не верится: неужели только десять месяцев назад я покинул Дрезден и отправился на родину, отправился навсегда?
Актовый зал Петербургского института инженеров путей сообщения… Торжественная обстановка, на возвышении сидят маститые профессора — крупнейшие русские мостовики. Только что закончил свою речь перед нами, выпускниками института, его директор Михаил Николаевич Герсеванов. Ему шестьдесят шесть лет, но глаза его глядят из-под пенсне молодо, энергично, голос звучит взволнованно. Я смотрю на высокий лоб директора, на закругленную седую бороду и пышные усы и пробую представить себе Герсеванова тридцатилетним, таким, каким он приехал на Кавказ и начал там строительство шоссейных военно-стратегических дорог.
Двадцать лет жизни отдал Михаил Николаевич этому любимому своему детищу, четверть века руководил прокладкой дорог в неимоверно сложных и опасных условиях, борясь с бесконечными страшными обвалами скал и разливами необузданных горных рек.
В этом упорном и цельном человеке прекрасно сочетались смелая мысль строителя и глубокие знания ученого. И горные дороги Герсеванова прославились на весь мир своей прочностью.
«Да, это не кабинетный ученый», — думал я. И когда он призывал нас, «своих новых молодых товарищей», дерзать, быть пытливыми и настойчивыми, он имел на это моральное право, вся его жизнь была примером тому.
С бьющимся сердцем принимал я из рук Герсеванова диплом и серебряный значок русского инженера.
Когда-то, почти полвека назад, на этом же месте стоял будущий знаменитый мостовик Дмитрий Журавский и, быть может, тоже чувствовал, как от волнения у него дрожат руки. Отсюда, из этих стен, начинался его блистательный путь в русской науке. А потом Россия услыхала имя другого славного питомца института — Николая Белелюбского. Здесь в двадцать восемь лет он стал профессором, здесь создал единственную в своем роде великолепную механическую лабораторию для исследования строительных материалов, здесь имел кафедру.
Для меня все это были люди-маяки, по которым нужно равнять, выверять свой путь.
После окончания торжественной части — шумные взаимные поздравления. Ведь через несколько дней или недель мы, сегодняшние именинники, сменим скромные студенческие тужурки на солидные мундиры инженеров-путейцев.
Сквозь какой-то радужный туман я слышу слова известного мостостроителя, профессора института Л. Д. Проскурякова. Лавр Дмитриевич крепко жмет мне руку:
— Ваш дипломный проект моста, господин Патон, выделяется среди других своей новизной. Я с удовольствием присутствовал при его защите в комиссии министерства. Дай вам бог всяческой удачи.
Я ликую: меня отметил сам Проскуряков! Это что-нибудь да значит. Плохо понимаю, что говорю в ответ, благодарю как-то неуклюже, чужими, стертыми словами. Я слишком взволнован. Проскуряков это понимает, улыбается. А за несколько минут перед этим так же крепко пожал мне руку старый знакомый по Дрездену профессор В. И. Курдюмов. Он очень, очень рад тому, что у меня хватило характера и упорства осуществить свое давнишнее желание. Он еще тогда, в Дрездене, верил в нашу скорую петербургскую встречу. Правда это или нет, но слышать это приятно…
Проскуряков впоследствии рассказывал мне, что в тот памятный день он говорил обо мне с профессором гидравлики и инспектором института Филиппом Емельяновичем Максименко. Оказалось, что Максименко кое-что слышал обо мне от своего ассистента, под руководством которого я готовил дипломный проект по турбинам.
Оба профессора, вероятно, не подозревали тогда, какую значительную роль им вскоре будет суждено сыграть в моей жизни.
Год, который завершился этим торжественным вечером, был для меня особым. Я всегда отличался выносливостью и усидчивостью, но перед окончанием института я впервые узнал вкус брома, познакомился с расстройством нервов. За восемь месяцев пришлось подготовиться к сдаче экзаменов по двенадцати предметам и выполнить пять серьезных выпускных проектов. Добро бы еще, если бы все эти дисциплины были знакомы по Дрездену. Но ведь курс паровых машин, водяных турбин, паровозов и прочее пришлось изучать впервые. За один год была выполнена работа, на которую в обычных условиях тратится два-три года. Я начал с проекта моста — самого ответственного из всех дипломных проектов, тем более что мосты я уже проектировал в Германии.
Точно к сроку проект был готов. Я отказался в нем от устаревшего аналитического метода расчета, громоздкого и сложного, и применил способ расчета по инфлюэнтным линиям[1]. Меня очень волновало, как посмотрят на это старые мостовики. Однако и Л. Д. Проскуряков и Л. Ф. Николаи, незадолго перед этим назначенный профессором института, поставили это мне в заслугу.
К 1 января 1896 года рядом с пухлой рукописью проекта моста с консольными фермами лежали все остальные проекты. Пять проектов — за четыре месяца. Это были месяцы, запомнившиеся на всю жизнь. Из чертежной я обычно уходил одним из последних. И странно было видеть, что в то время, когда проектирование у меня и у других студентов уже шло к концу, несколько выпускников в коридорах и разных углах чертежной все еще вели дискуссии о том, как и с какого конца подойти к проекту.
Я никак не мог понять, на что они надеются, к чему готовят себя. Разве мало хороших примеров видят они вокруг себя в Петербурге, в самом институте или в истории русской науки? Взять бы этих лентяев за руку и повести хотя бы в музей института. Подвести бы их к хранящейся там модели железного моста Ивана Кулибина и предложить подумать над тем, что этот русский гений еще в начале века, с 1801 года, работал над тремя вариантами металлического моста и дал не только несколько проектов, но и разработал технологию изготовления отдельных узлов и конструкций металлического моста, сборки и установки их.
А ведь Кулибину не довелось учиться пять лет в стенах замечательного института и слушать лекции первоклассных профессоров… Или пригласить бы этих господ на берег Невы, на то место, где я стоял не раз, любуясь чудесным созданием Станислава Валериановича Кербедза. Пусть бы послушали рассказ о том, как юноша из бедной крестьянской семьи сумел блестяще закончить тот же институт, что сейчас заканчивают они, и огромным, напряженным трудом, на протяжении шестидесяти лет, завоевал по праву звание «Нестора русских инженеров»!
Но никто не ждал и не просил моих советов, и я хранил эти мысли про себя. Зато, выходя иногда из чертежной в коридор размяться и отдохнуть, я сам невольно становился слушателем.
С какой циничной откровенностью несколько этих господ с холеными усиками излагали свои планы на будущее! Один из них — блондин с горделивым видом и надменным взглядом — вслух мечтал о выгодном местечке в правлении железной дороги, о доходной должности начальника дистанции, о работе подрядчика. Он прямо намекал на всесильного родича с крупными связями. Человек был просто загипнотизирован внушительными цифрами окладов и наградных, больше его ничего не занимало. Другой — толстяк с модной бородкой клинышком и пенсне на шнурке, захлебываясь, передавал чей-то рассказ о том, как ловкие строители дорог умеют «делать деньги из воздуха». Противно было слушать эти разглагольствования, но я понимал, что пора мне узнать темные стороны жизни такими, какие они есть. Ведь, переступив порог института, мне неизбежно придется встретиться в повседневном быту не только с честными и талантливыми инженерами, но и с ловцами длинного рубля.
Приводился, например, такой способ наживы, облюбованный некоторыми подрядчиками. При постройке Сибирской железной дороги один из них заключил договор с управлением дороги на сборку и монтаж нескольких больших мостов. Металл для них должна была поставлять дорога. В случае просрочки поставок были обусловлены крупные неустойки в пользу подрядчика. И получалось так, что металлургические заводы иногда опаздывали с отправкой металла. Делалось это умышленно. Лица, от которых на заводах зависели сроки выполнения заказов дороги, получали от подрядчика солидные взятки. На этих операциях грели руки обе стороны…
Слушая подобные рассказы, я снова и снова задумывался над своим будущим. И мои родственники намекали, что при своих связях могли бы подыскать мне «теплое» и выгодное местечко. Но что это значит? Стать дельцом-прощелыгой или в лучшем случае поступить на легкую, необременительную службу и выслуживать чин за чином? Нет, ради этого не стоило начинать, такая проторенная дорожка не для меня.
Я знал, что среди студентов института — и на выпускном и на младших курсах — есть немало людей, у которых те же взгляды, что и у меня, на призвание русского инженера. Они учились с большим упорством, вместе со мной последними покидали чертежную, а утром часто приходили с глазами, воспаленными от домашних ночных занятий. Один из таких молодых людей учился на четвертом курсе. Он известен был во всем институте своей огромной работоспособностью и усидчивостью. Человек с ясно выраженным и большим дарованием конструктора и отличной памятью, он все же не надеялся на одни способности и тщательно штудировал каждую интересную книгу по избранной специальности. Знания его были прочны и глубоки. Пытливый ум студента жаждал до всего «дойти самому». Это был Григорий Петрович Передерий, ставший впоследствии одним из самых выдающихся русских и советских мостостроителей и воспитателем нескольких поколений инженеров транспорта.
Мне близки были люди такого склада, люди, любящие труд, жадно стремящиеся к знанию, люди, для которых жизнь не паркет, устланный коврами, а торная, кремнистая, но полная творческих радостей дорога.
Сейчас, после окончания института, надо было уже не просто размышлять над выбором своего места, своего пути в жизни, а сделать совершенно конкретный и определенный выбор. Я хотел жить полной творческой жизнью, а не прозябать, хотел трудиться, создавать сам нечто новое, все попробовать, как говорится, «на зубок». Для этого надо начинать снизу, с самого маленького.
Еще в юношеские годы передо мной открывались две дороги — праздность и труд. Я избрал труд. Значит, и мысли не может быть теперь о том, чтобы свернуть с этого пути.
4. ПЕРВЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ
Встреча с весьма известным в то время профессором Ясинским окончательно решила дело. Имя Ясинского — талантливого математика — было очень популярно в Петербурге, на его лекциях всегда было полно. Все знали, что Ясинский тяжело болен, чахотка сводила его в могилу. В сырую погоду он ездил на лекции в закрытом экипаже, его редко выпускали из дому без калош и зонта. И этот смертельно больной человек обладал неукротимой энергией и работоспособностью. Занятия одной лишь математикой не удовлетворяли его, вторая половина души Ясинского принадлежала инженерному делу. Без живой, горячей работы он просто не смог бы жить. Свои занятия со студентами Ясинский совмещал со службой в управлении Николаевской железной дороги, а его столь нашумевшая диссертация носила название «О продольном изгибе». От настойчивых советов близких и друзей поберечь здоровье, перестать сжигать себя на работе и ограничиться только преподаванием Ясинский отделывался шутками или просто отмалчивался.
Мне этот человек казался красивым, благородным примером того, как надо жить на земле. И когда Ясинский предложил мне работать вместе с ним на железной дороге, я согласился не колеблясь. У меня-то хватит сил и здоровья на двоих, а рядом с таким человеком придет и вера в себя!
Это была пора, когда в России развернулось бурное строительство железных дорог. За десять лет, с 1890 года по 1900 год, было построено свыше двадцати тысяч верст новых железнодорожных путей. Все дальше на восток протягивались стальные нити Великого Сибирского пути, работы велись одновременно на многих участках, на бурных и широких реках Сибири воздвигались большие, многопролетные железные и деревянные мосты, их общая протяженность составляла около сорока километров. Строителям, путейцам и мостовикам приходилось побеждать огромные трудности, жизнь на каждом шагу выдвигала перед учеными и практиками все новые и новые, все более сложные задачи, и они неизменно решали эти задачи. Вот кому я страстно, всей душой завидовал. Огромную работу для Сибирской магистрали вел глава русской мостостроительной школы, человек неисчерпаемой энергии, инициативы и глубоких теоретических знаний, человек, о котором я уже столько слыхал, Н. А. Белелюбский. Через реки Иртыш, Уда, Чулым и другие по проектам Николая Аполлоновича строились мосты с большими пролетами.
Меня уже сейчас величали Евгением Оскаровичем, «коллегой», я проектировал железные стропила, в том числе пилообразные перекрытия железнодорожных мастерских оригинальной системы, предложенной профессором Ясинским. Нужны, конечно, и стропила, и перекрытия, но, никому не признаваясь в этом, я испытывал чувство неудовлетворенности. Одного этого все же мало… Мосты! — вот к чему лежала моя душа, вот область техники, в которой мне хотелось трудиться и проявить себя.
И, словно подслушав мои мечтания, первый шаг к их осуществлению мне помог сделать Проскуряков. Он предложил мне спроектировать путепровод для станции Москва Ярославской железной дороги. Это уже было нечто более основательное, здесь открывался большой простор для личного
творчества, для самостоятельных поисков.
Теперь я буквально жил этим проектом. Ужасно медленно двигались стрелки стенных часов в техническом отделе дороги. Хотелось скорее попасть домой к своей чертежной доске, к расчетам. И здесь, на службе, и по пути домой я думал все о том же: о своем проекте. От успеха или неудачи в этом скромном начинании зависит многое. Не только другие — я сам проверял себя.
Через несколько недель, недель, полных раздумий и исканий, работа была закончена. Передо мной лежал проект путепровода с ездой понизу, с неразрезными трехпролетными фермами на промежуточных опорах в виде качающихся колонн с шаровыми шарнирами. Я перечитывал описательную часть, критически рассматривал чертежи своего первенца, строго, очень строго судил себя. Мне казалось, что с заданием я справился прилично. Проезжая часть была спроектирована оригинально, без поперечных и продольных балок, она состояла из сплошного клепаного волнистого настила. Это сокращало до минимума строительную высоту путепровода и высоту земляных насыпей на подходах.
Волновало только одно — как посмотрит Инженерный совет министерства путей сообщения на применение карающихся колонн и волнистого настила. Ведь и то и другое было тогда технической новинкой. Не возьмут ли их под обстрел авторитеты?
Все сошло, к моей радости, благополучно. Проект не вызвал возражений ни в целом, ни в деталях и был утвержден. Но до окончательной победы технической идеи, положенной в его основу, было еще далеко. Несколько лет спустя такие же качающиеся колонны были запроектированы для путепровода на одной из железных дорог Петербурга, по которой изредка проходили императорские поезда. И вот при рассмотрении проекта в том же Инженерном совете против подобных колонн ополчился докладчик совета.
— Такие колонны недопустимы, — наотрез заявил он. — На них может налететь… подвода с большим грузом и выбить колонну из шарнира.
Остальные члены совета присоединились к осторожному докладчику. Еще бы: ведь тут, по этой дороге, проезжает сам российский император! Так и были приняты неуклюжие опоры прямоугольного сечения без шарниров. И только через несколько лет я взял реванш. Колонны предложенного мной типа нашли широкое применение при постройке Московской окружной дороги. Эту историю я запомнил крепко: значит не легко, не сразу пробивает себе путь новое!
Мои первые работы обратили на себя внимание. От городских и земских управ начали поступать в частном порядке заказы на проекты городских и шоссейных мостов. Пусть это не так увлекательно, как проектировать большие железнодорожные мосты, но и эта работа принесет опыт и даст пользу, — решил я и ушел с головой в работу над этими проектами. Выполнял я их в предельно короткий срок, быстрота эта достигалась применением рациональных методов проектирования.
Наблюдая за тем, как работают иные мои маститые коллеги, я просто недоумевал. Как-то я задал вопрос своим сослуживцам по управлению дороги;
— Откуда у некоторых старых инженеров эта привычка тратить столько времени на бесполезные кропотливые расчеты таких данных, которые должны выбираться, исходя из практических соображений. Зачем, например, тратить недели на трафаретные и ненужные расчеты простейших ферм со сплошной стенкой?
Я горячился, не понимая, что на меня смотрят, как на ребенка, которому вдруг открылись какие-то темные, неизвестные стороны жизни.
— Знаете что, голубчик, бросьте-ка воевать с ветряными мельницами. Мы уже давно оставили это малопродуктивное занятие, — вот что я услышал в ответ. — И поймите, что своей быстротой вы можете нажить себе недругов. По разумению тех, кто вас так возмущает, работать слишком быстро — значит подорвать доверие к своей компетентности, а заодно и снизить гонорар. Ясно?
Да, теперь все было ясно. Чем больше в проекте таблиц, расчетов и формул, тем больше можно «сорвать» с заказчика.
Вскоре я сделал несколько попыток атаковать министерство путей сообщения. Меня встретили с замороженными улыбками, любезно и учтиво, но просили зайти завтра-послезавтра. Потом «завтра» незаметно превратилось в «когда-нибудь» и «со временем что-нибудь найдется». Я все понял и прекратил свои визиты. Не проситель же я и не куска хлеба ищу! Я хотел проектировать, строить большие, красивые и прочные железнодорожные мосты, продолжать дело своих выдающихся учителей и предшественников и тех, кто сегодня идет по их пути, а меня выпроваживали, словно бедного, назойливого родственника. От отца я унаследовал любовь к независимости, гордость, несовместимую с заискиванием перед начальством. И унижаться перед чиновниками из министерства я, конечно, не стал.
Почему же в министерстве так боятся пропустить на «инженерный Олимп» молодежь? Ответ на этот вопрос я нашел, когда немного ближе познакомился с нравами в так называемых высших министерских сферах.
В министерстве в ту пору небольшая группа из нескольких старых инженеров имела полную монополию на проектирование многих мостов для вновь строящихся дорог. «Подготовка» проектов была поставлена на широкую ногу. Группа эта располагала ассортиментом готовых проектов мостов различных пролетов и предлагала их разным дорогам.
Мне очень трудно было понять таких людей. Какой смысл, какой интерес для инженеров в этакой стандартной работе?
И это в России, где и в прошлом было и есть в настоящем столько пытливых, смелых умов среди теоретиков и практиков мостостроения! Всех выдающихся людей в этой области техники всегда отличало стремление двигать вперед науку, теоретическую основу дела, открывать все новые и новые пути для практики.
И вдруг рядом со всем этим — штампованные, готовые на все случаи проекты… Такой подход к своей работе я считал унизительным для самих инженеров-проектировщиков.
Я же был всецело на стороне Проскурякова, который, например, проектируя в 1896 году самый большой мост через Енисей, смело, не считаясь с «традициями», применил новый способ расчета ферм с помощью так называемых инфлюэнтных линий. Это позволило выполнить проект на новой, более простой и научной основе. Фермы, предложенные Проскуряковым, с основной раскосной системой и дополнительными шпренгелями отличались большей, чем принято было до сих пор, высотой, а также большей длиной панелей, конструкция становилась более четкой для расчета и простой в изготовлении, для постройки моста расходовалось значительно меньше металла.
Была особая причина, по которой эти новшества Лавра Дмитриевича волновали меня вдвойне. Ведь тот же способ расчета ферм с помощью инфлюэнтных линий применил и я в своем дипломном проекте моста. Но там все осталось на бумаге, а Проскуряков первым в России дерзнул на практике ввести новую систему ферм и новый способ расчета, способ простой, практически удобный и вместе с тем наиболее научный[2].
Я остро завидовал в душе своему учителю, а пока продолжал проектировать шоссейные и городские мосты. Заказчикам, видимо, нравилось, что я стараюсь экономить металл и другие материалы, сократить сроки постройки и придать мостам красоту и оригинальность. И заказов ко мне поступало много. Для молодого инженера, через год после институтской скамьи, и эти заказы были успехом. Работа над ними давала известное удовлетворение, приносила опыт, в какой-то мере выдвигала и обеспечивала материально.
Но почему я должен работать в половину, в четверть своих сил? Почему рядом с великими дерзаниями, смелыми творческими деяниями одних благополучно уживаются равнодушие или корыстолюбие других? На эти мучительные вопросы я не мог найти ответа. Я жил тогда в маленьком и замкнутом мирке своих узкопрофессиональных интересов; огромная, сложная, полная общественной борьбы, противоречий и резких контрастов жизнь тогдашней России шла мимо меня, и я оставался где-то в стороне от нее. И мне тогда не под силу было понять, где причина моих первых, еще «мутных пока сомнений и разочарований.
5. НА КАФЕДРЕ
Весной 1897 года в Москве открылось второе в стране учебное заведение, готовящее инженеров транспорта: Инженерное училище путей сообщения. Система обучения в нем была довольно необычной — трехлетний теоретический курс, а затем двухлетняя беспрерывная практика, после которой студенту вручался диплом. Во главе училища был поставлен профессор Ф. Е. Максименко, инспектором, то есть заместителем директора по учебным делам, — Проскуряков.
Вскоре я убедился, что Проскуряков не забыл меня. Лавр Дмитриевич от себя и от имени Максименко передал мне приглашение перебраться во вторую русскую столицу. Он сулил интересную педагогическую работу в училище.
Я не стал долго раздумывать. Проскуряков зовет меня к себе, этого достаточно. С новыми надеждами отправился я в Москву. Мне только 27 лет, я не намного старше своих будущих студентов, но я постараюсь не только дать им твердые знания, но и внушить свои взгляды на призвание русского инженера-мостовика.
Максименко и Проскуряков при первых же встречах дружески обласкали меня. Я не ставил никаких условий, кроме одного: полностью загрузить меня работой. Этим я, видимо, расположил к себе Филиппа Емельяновича. Максименко ценил в людях трудолюбие не меньше, чем способности, а Проскуряков видел во мне единомышленника. Он был старше меня на двенадцать лет, но относился как к равному. В общем мы все трое нашли, что подходим друг к другу как нельзя лучше.
Мне предложили одновременно две должности: помощника заведующего механической лабораторией и профессора-наблюдателя третьего курса. Кроме того, мне предстояло участвовать в практических занятиях по строительной механике. Большего я и сам не пожелал бы, здесь сочеталось все. Пока же до начала занятий на втором и третьем курсе делать почти нечего. Чуть ли не все время оставалось свободным. Бездельничать, «прохлаждаться» было не в моей натуре, и когда появилась возможность занять должность начальника вновь создаваемого технического отдела в управлении службы пути Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, я охотно дал согласие.
Е. О. Патон во время отбывания воинской повинности.
Е. О. Патон — профессор Киевского политехнического института. 1915 г.
На дороге в то время вовсю разворачивалось строительство, — сначала на участке от Ярославля до Вологды, а затем и до Архангельска. Это и привлекло меня, ведь заветным моим желанием было попасть на строящуюся дорогу.
Отдел приходилось создавать заново, в условиях очень неблагоприятных и на скудных началах. В его штат входило только три инженера. Один из них был престарелым, дряхлым человеком, и его уже ничто глубоко не волновало. Второй, тоже пожилой человек, занимался преимущественно хозяйственными делами. А третий — молодой, но мало знающий инженер, по заданию министерства путей сообщения выполнял для отчетов бесконечные и никому не нужные расчеты уже действующих в помещениях управления дороги парового отопления и вентиляции.
Скоро стало ясно, что отделу отводится второстепенная роль. Проекты крупных сооружений ни мне лично, ни отделу в целом не поручались; они уплывали куда-то на сторону, как потом выяснилось, в руки таких же, как в Петербурге, поставщиков шаблонных проектов. Оставались проекты различных мелких сооружений на путях и станциях. Пришлось выполнять их самому и загружать работой два десятка техников и чертежников. Правда, эти занятия дали мне возможность познакомиться со всеми службами пути на железных дорогах.
Чиновники управления трепетали перед дирекцией и хозяином — дорога была частой, — угодничали, тянулись перед старшими по службе, лишь бы не впасть в немилость. Попадались среди них и прямые взяточники. Исправлять взяточников и наставлять их на путь истинный я не пытался. Но и не мог равнодушно смотреть на то, как инженеры, изыскивая трассу для того или другого участка дороги, за солидный куш соглашались сделать крюк, изменить направление трассы, если это было кому-то выгодно. Такие господа пировали в ресторанах с подрядчиками и там обделывали эти делишки. Конечно, я видел, что на дороге далеко не все инженеры и служащие таковы, что есть немало честных и порядочных людей. Но их старались оттереть, держать подальше от живого дела и давали им понять, что, если они примутся разоблачать все эти проделки, вылетят на улицу.
Для меня примером высокой, неподкупной честности всегда был один из известных русских инженеров-мостовиков — Леопольд Федорович Николаи. В 1871 году — в год окончания Петербургского института инженеров путей сообщения — он начал работать на постройке железных дорог и в центральном управлении казенных железных дорог в министерстве путей сообщения. С 1892 года Николаи состоял членом Инженерного совета министерства и являлся главным экспертом по постройке дорог и крупных мостов. Он же был основным докладчиком по местам в совете. Другой мог бы весьма широко использовать в своих личных целях столь высокое положение. Но к Николаи никто не смел и близко подступиться с какими-либо сомнительными предложениями. Приведу только один пример, который достаточно ярко характеризует честность и предельную щепетильность этого чудесного человека и учителя целого поколения русских мостовиков.
Инженерный совет министерства путей сообщения однажды рассмотрел и утвердил чертеж рельсовых стыковых накладок для одного из участков пути Сибирской железной дороги. Большая партия накладок, изготовленных по этому чертежу, оказалась негодной: дыры в рельсах и накладках не сходились. Казна несла изрядный убыток. Узнав об этом и обвиняя в случившемся себя, как одного из членов совета, Николаи сам определил сумму убытка, приходящегося на его долю, и на очередном заседании совета предъявил эту сумму в процентных бумагах. Это предложение Леопольда Федоровича вызвало на заседании всеобщее смятение, все принялись уговаривать Николаи и с большим трудом добились, чтобы он забрал обратно свои бумаги.
Мы, ученики Л. Ф. Николаи, к которым себя причисляли не только молодые люди вроде меня и Г. П. Передерия, но и такие авторитеты, как Проскуряков, учились у Леопольда Федоровича держать в чистоте и высоко ценить звание русского инженера…
Когда работа в училище потребовала меня целиком, я искренне обрадовался этому и оставил службу в управлении дороги.
В 1899 году я впервые поднялся на кафедру русского учебного заведения и начал свою деятельность педагога, которую продолжал затем в течение сорока лет. В том году я приступил к чтению курса строительной механики, а еще через год — курса железных и деревянных мостов, и начал руководить их проектированием. Мне и сейчас радостно сознавать, что из тогдашних моих учеников выросли впоследствии десятки крупных специалистов-ученых, знающих, прекрасно подготовленных инженеров. Многие из них, а также ученики моих учеников возглавляют кафедры, проектируют и строят большие мосты, являются авторами капитальных учебников и исследований.
Я не искал дешевой популярности у студентов, не стремился произвести на них впечатление апломбом. Нет, мне хотелось другого: чтобы студенты дорожили занятиями со мной, чтобы на лекциях получали то, чего нельзя найти в учебниках. Это казалось вдвойне важным потому, что учебники тех лет мало отвечали потребностям жизни.
Начиная чтение курса, я напрямик объявлял своей аудитории:
— Требую самого серьезного отношения к лекциям. Предупреждаю — на экзаменах поблажек от меня не ждите. Белоручек и лентяев не люблю. Кто пришел сюда только за дипломом и красивым значком, тот здесь лишний.
Подобная резкость понравилась, конечно, не всем. Те, кто привык учиться с ленцой, почувствовали себя неловко. Зато большинству студентов такая жесткость и требовательность пришлись по вкусу. Я им ясно дал понять, что заставлю крепко попотеть, но зато постараюсь недоучками в жизнь не выпустить.
После одной из первых лекций ко мне подошел студент с острым внимательным взглядом и плотно сжатыми губами на продолговатом лице. Он попросил разрешения сказать несколько слов от себя и от товарищей. Рядом стояло несколько его сокурсников.
— Уважаемый Евгений Оскарович, — проговорил этот студент, волнуясь и подергивая от смущения молодые светлые усики, — слушая ваши лекции, мы видим, что вы готовитесь к ним гораздо больше, чем мы, студенты. Это нам пример и наука. Мы дали себе слово работать вдвое больше, чем до сих пор, и сами просим вас быть на экзаменах беспощадным.
Я горячо пожал руку студенту, а затем и его товарищам. Мог ли я тогда подозревать, что человек, которому принадлежали эти искренние, душевные слова, станет в будущем крупнейшим инженером и ученым, автором проекта Днепрогэса и проекта генеральной схемы электрификации Средней Азии, одним из создателей Арало-Байкало-Амурской магистрали? Это был Иван Гаврилович Александров.
Не выпуская руки Александрова, я говорил, обращаясь сразу ко всем:
— Упорно трудитесь в студенческие годы. Потом на самостоятельной работе это окупится втройне. Я сам недавно был в вашем положении и сейчас чувствую, как это верно. Труд — вот основа всей нашей жизни, господа. Я называю вас господами не потому, что так принято, нет… Я хочу, чтобы трудолюбие и преданность науке сделали вас действительно господами в жизни. Не господами над другими людьми, а хозяевами всех тайн техники, науки, природы.
С тех пор и началась моя дружба со студентами, дружба строгая, даже суровая, без внешних проявлений взаимных чувств и симпатий, но оставившая след на многие десятилетия.
Александров не ошибся: еще больше, чем со студентов, я спрашивал с самого себя. До глубокой ночи я тщательно готовился к лекциям, выискивал по крупицам в журналах, проектах, диссертациях все, что могло стать полезным и интересным для моих студентов. Преподавание, быть может, как никакая другая работа, требует упорного, неусыпного труда. Чтобы с пользой учить других, нужно прежде всего учиться самому педагогу, учиться до глубокой старости.
В эти годы я впервые опубликовал две свои статьи в журнале министерства путей сообщения. Кому из пишущих не знакомо это ни с чем не сравнимое счастливое чувство, когда, наконец, держишь в руках свое произведение — неважно, стихи это или техническая статья, — отпечатанное в типографии и ставшее теперь не только твоим личным, но и всеобщим достоянием? Это радостное авторское чувство испытал и я, перечитывая обе свои статьи. Тогда они нравились мне в равной мере, обе казались удачными и значительными. И только позже, через несколько лет, я понял, что уже в этих первых работах были, словно в зародыше, определены два пути, которыми могла пойти моя работа в науке.
Первая из статей называлась: «Листовые шарниры ферм». В ней я доказывал преимущество листовых шарниров, состоящих из вертикального и горизонтального листов с заклепочными соединениями. Достоинство их было в простоте конструкции, не требующей литых и точеных деталей и болтовых соединений. На одном из шоссейных мостов с висячими фермами мне довелось видеть такой листовой шарнир громадных размеров. Вертикальный лист шарнира, приклепанного к верху опорного пилона, тянулся на всю его высоту около двадцати метров. Ссылаясь на такие примеры, я обосновал свои выводы. Работа имела прикладное значение и опиралась на достижения передовой техники того времени.
Темой второй статьи были «Фермы с наклонными опорами». Проектируя мосты, я всегда стремился к максимальной экономии металла. Однажды, во время экскурсии, я познакомился с железнодорожным мостом через Эльбу в Риза. В этом мосте в нижнем поясе фермы усилия от вертикальной нагрузки были искусственно уменьшены распором, создаваемым рычажным устройством с противовесом, который находился в одном из устоев моста. Мне пришла мысль создать такой же распор более простым способом, наклоняя плоскость катания катков подвижной опоры ферм. Увлеченный этой идеей, я проделал целое исследование по возможной экономии металла в нижнем поясе ферм. Но тут-то и сказалась моя неопытность. Я не учел практических неудобств, связанных с наклонением опор. От сотрясений при езде по мосту катки неизбежно должны были сползать по наклонной плоскости. С этого бы мне и начинать, а я углубился в сложные теоретические исследования! И хотя эта работа оказалась лишенной практического смысла, а значит и теоретически бесцельной, я извлек из нее урок: никогда больше я уже не тратил времени и энергии на исследования конструкций, лишенных практического значения.
6. ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
УЧЕБНИКИ ПО МОСТАМ
У меня была любимая ручка, простая, ничем не примечательная, сделанная из березовой ветки. Этой ручкой я написал обе свои первые печатные работы, а за несколько лет перед этим дипломную работу. И вот мне в голову пришла шутливая мысль: «Пусть эта обыкновенная ручка станет моей маленькой личной реликвией, пусть с ней будут связаны особенно важные события и даты в моей жизни».
И я решил спрятать ее в ящик и извлечь на свет божий, когда засяду за диссертацию.
Диссертация на ученую степень адъюнкта Института инженеров путей сообщения дает право на звание профессора… Но дело ведь не только в этом! Эта диссертация должна… Какой же должна быть моя диссертация? Не впервые я размышлял над этим. Иные из таких работ — это всего лишь добросовестные компиляции давно известных истин, только умело оформленные и преподнесенные. Положат их после защиты в шкаф или на полку, и лежат они там без движения, покрываясь пылью. Никто в них больше не заглядывает, и проку от них никакого ни для науки, ни для практики. Получается нечто несообразное: пишут их диссертанты только ради профессорства.
Я поделился своими мыслями с директором училища.
— Понимаете, Филипп Емельянович, не хочется мне перепевать, пережевывать азы и общие места. На мой взгляд, любая диссертация должна отстаивать какие-то передовые взгляды, то, что сегодня еще не всеми признано, а главное, давать что-то новое, нужное практике.
— А как же иначе? — подхватил Максименко. — Часто уже по выбору темы можно судить, выйдет ли из человека ученый, или он все это затеял ради одного профессорского звания. Правильно вы себя настраиваете, голубчик, правильно.
От этих слов у меня будто прибавилось сил. С Максименко всегда было легко и свободно, с ним можно было говорить откровенно и обо всем. Мне был по душе этот уравновешенный, скромный, всегда спокойный и сдержанный человек, который чем больше работал, тем лучше и веселее себя чувствовал.
Увидев, что я серьезно помышляю о диссертации, Максименко с каким-то особым тактом устраивал так, чтобы у меня оставалось побольше свободного времени. Я был признателен ему за это, но, зная щепетильность директора, никогда вслух не благодарил. Максименко этого терпеть не мог, начинал в таких случаях махать руками, отворачивался, сердился.
День за днем обдумывал я тему своей диссертации. Она родилась из жизни, из завязавшейся в то время борьбы, из столкновения передовой мысли и устаревших, отживших представлений и взглядов, которые без открытого боя нельзя было развенчать и вытеснить из повседневной практики. Я решил направить острие своей работы против статически неопределимых мостовых ферм двух- и трехраскосных систем, имевших в то время широкое применение. Одним из главных их недостатков были большие дополнительные напряжения от жесткости узлов.
Еще и еще раз проверял я себя и приходил к выводу, что тема выбрана удачно.
— Вам необходимо быть особенно убедительным в своих доказательствах и выводах, — твердил мне Максименко. — На кого и на что вы сможете опереться? Продумайте это. Теоретическая основа, конечно, обязательна, но какие факты за вас?
— Факты? Да хотя бы взять опыт нашего Лавра Дмитриевича Проскурякова. Он уже на практике, на реальных мостах, доказал преимущество статически определимых систем. Вы скажете — однако это не поколебало его противников! Я постараюсь соединить в диссертации результаты практики и научную аргументацию.
— Ну, желаю вам положить ваших противников на обе лопатки, — пошутил Максименко. — Когда начнете работать?
— Летом. На каникулах. Другого времени нет.
Тем же летом я выехал из Москвы на дачу. Неважно, что не придется отдыхать, зато вне города, отрешившись от всех других дел и забот, можно будет полностью отдаться работе над диссертацией.
Вместе со мной на даче жил один из моих самых способных и многообещающих студентов Петр Каменцев. Он согласился помогать мне в проведении некоторых расчетов и считал, что для него, студента, такая работа будет полезной.
Я не щадил себя в то лето. Шаг за шагом я исследовал и сопоставлял величины дополнительных напряжений от жесткости узлов в фермах различных систем. Накапливался большой убедительный материал в виде результатов расчетов, проделанных на ряде разнотипных ферм, а я искал все новых и новых доказательств.
— Ваша правота, Евгений Оскарович, уже ясна и слепому, — говорил, бывало, Каменцев, с которым я делился своими мыслями и выводами. — Пора бы вам уже и выспаться. Посмотрите на себя в зеркало.
— Нет, надо продолжать, голубчик Петр Яковлевич, — отвечал я. — Старое не любит само уходить со сцены. Нужно ему, так сказать, помочь. А отосплюсь… да что говорить, отоспаться, наверное, не успею. Впереди новый учебный год.
И я снова усаживался за стол, придвинув поближе к себе лампу.
Расчет всех сквозных ферм исходит из предположения, что элементы, сходящиеся в узлах, могут вращаться вокруг воображаемого шарнира. В действительности эти узлы имеют жесткие, клепаные соединения. Элементы не имеют возможности вращаться, вследствие чего в узлах возникают дополнительные напряжения. И моей задачей было доказать, что в простых системах ферм они значительно меньше, чем в двух- и трехраскосных.
Данные, которые приходилось находить в книгах, были слишком скудными и отрывистыми. Чтобы сравнить устаревшие и новые, еще почти никем не признанные типы ферм, пришлось проделывать большую расчетную работу. Для этого я построил инфлюэнтные линии. В отличие от аналитического метода, этот способ расчета обладал большей наглядностью и ясностью. Впервые я применил его в своем дипломном проекте в Петербургском институте, им же, как я указывал, пользовался Проскуряков, проектируя мост через Енисей и некоторые другие мосты в Сибири. В своей диссертации я также пользовался инфлюэнтными линиями дополнительных напряжений в поясах, стойках и раскосах разнотипных ферм.
Наконец была поставлена последняя точка.
— Боюсь, Евгений Оскарович, как бы не нажить вам сильных противников, — сказал Каменцев, прочитав всю диссертацию в целом.
— Э, Петр Яковлевич, волков бояться — в лес не ходить. Тем более что волки-то дряхловатые и хоть кусаются еще больно, а одолеть их все-таки можно.
В 1900 году, в последнем году уходящего девятнадцатого века, диссертация вышла из печати. Я с большой тревогой ждал: кто же из лагеря противников первым откроет огонь? Но там, видимо избегали открытой схватки или просто-напросто надеялись, что диссертация молодого инженера и начинающего педагога ничего не сможет изменить и в общем не опасна.
После одной из лекций я остановил Петра Каменцева.
— Ну-с, Петр Яковлевич, скоро — в бой. Чем только он кончится…
— Непременно победой! — горячо воскликнул студент. — Не один я, все мои товарищи желают ее вам.
Летом 1901 года в актовом зале Петербургского института инженеров путей сообщения я поднялся на кафедру. Мне недавно исполнился тридцать один год и лишь пять лет назад я в этом же помещении защитил свой дипломный проект.
Зал переполнен, за столом — светила науки, блестят мундиры, сверкают ордена. Я стараюсь не замечать парадности обстановки, чтобы ничто не рассеивало мыслей. Волновался ли я? Конечно. Диссертацию прочли многие, и всем известно, что недавний студент осмелился поднять руку на теорию и практику, с которыми не хотят расставаться люди гораздо более почтенные, чем молодой диссертант.
Я постарался овладеть собой. Хотелось даже внешним своим видом, интонациями и жестами показать всем, что я убежден в своей правоте.
Начинаю докладывать, чувствую, голос мой крепнет, становится все более твердым. Изредка отрываю глаза от текста и бросаю короткий взгляд на аудиторию. Слушают как будто внимательно.
Наконец перевернута последняя страница…
Совет института единодушно присудил мне ученую степень адъюнкта. Вслед за этим я был назначен экстраординарным профессором по мостам в уже ставшем для меня родным Московском училище и руководителем по проектированию мостов. Я испытывал чувство радости: ведь никто из противников так и не отважился принять бой. Но даже не это было главным, большое удовлетворение принесло другое. Надежды сторонников ферм старых систем на то, что диссертация пройдет незамеченной и будет по примеру некоторых других покрываться пылью в шкафу, не оправдались. Труд мой не пропал даром. Двухраскосной системе был нанесен чувствительный удар, многим пришлось признать, что эти устаревшие неэкономичные фермы резко уступают фермам других систем, и с той поры их перестали применять на железных дорогах в России.
Именно тогда я начал понимать, что научная работа в области техники только тогда имеет смысл и оправдывает себя, если от нее прямую пользу получает практика, если она освещает новые пути практике и помогает ломать, отбрасывать старое и негодное.
Я сознавал, что подобная целеустремленность и конкретность должны отличать не только научные труды, но и учебники. Чтобы русское мостостроение могло получать инженеров знающих и смелых, стоящих на уровне самой современной науки и техники, нужно прежде всего, чтобы на таком уровне находились книги, по которым учатся студенты.
А положение с учебниками по мостам было далеко не блестящим.
Я глубоко уважал своего учителя и официального оппонента при защите диссертации профессора Леопольда Федоровича Николаи. Широко известны были его выдающиеся труды по теории расчета мостов, по определению допускаемых напряжений для мостов, по расчету решетчатых ферм с несколькими пересечениями раскосов, по расчету неразрезных трехшарнирных арок… Но уважение к личности Николаи, к его познаниям теоретика и практика не мешало мне видеть, что учебники Николаи во многом устарели. Его печатный описательный курс по конструкции мостов был написан для техников-практиков, для студентов он явно не подходил. А его объемистый литографский трехтомный курс — единственный в России! — по проектированию мостов имел другой, весьма существенный дефект: расчетная часть была загромождена ненужными материалами. Вместо того чтобы излагать по отдельным вопросам только лучший метод расчета, учебник преподносил студентам различные, часто устаревшие, методы, разобраться в которых им предоставлялось самим. Все расчеты были, конечно, чисто аналитическими. Об инфлюэнтных линиях — в их преимуществах я уже убеждался не раз — упоминалось лишь вскользь в конце курса.
«Как же быть? — раздумывал я. — С такими учебниками многого не сделаешь. На лекциях студенты будут слышать одно, а в книгах находить другое».
Я поделился своими сомнениями с Проскуряковым. Слушая меня, Лавр Дмитриевич сочувственно кивал головой и изредка поддакивал. Когда я закончил, Проскуряков взял со своего стола книгу и протянул ее мне.
— Я встретился с такими же трудностями, как и вы, Евгений Оскарович, и вот как постарался выйти из положения. Просмотрите эту книжицу, может быть, ома вам кое-что подскажет.
Я взглянул на переплет. На нем стояло имя Проскурякова. Это был написанный и недавно изданный учебник по сопротивлению материалов и статике. Я вспомнил, что как-то слышал от Проскурякова жалобу на то, что по строительной механике нет хорошего учебника.
— Понимаю. А почему книга такая скромная по объему?
— Просмотрите ее на досуге, после этого поговорим.
Но я не стал откладывать чтения и в тот же вечер засел за книгу Проскурякова. Она поразила меня. Коротко, сжато, ничего лишнего, все необходимые сведения поданы концентрированно, в ясной и доступной форме. Да, такому стилю можно позавидовать. Но чтобы достичь подобной четкости и экономности, нужен, наверное, громадный труд?
Через несколько дней я снова пришел к Проскурякову.
— Не буду много говорить, Лавр Дмитриевич, но, по-моему, именно такими и должны быть учебники. Позвольте только спросить вас — не затруднит ли такая сжатость восприятие материала студентами?
— Я предвидел этот вопрос, — спокойно отозвался Проскуряков. — Но я хочу научить студентов думать, думать, а не заучивать или зазубривать! Долой все лишнее, случайное, остается только то, что действительно нужно, но зато вот это самое необходимое следует усвоить, продумать, сделать своим. Ваше мнение?
Да, именно о таком учебнике мечтал и я. Именно так я старался строить свои лекции. И не только я один, это стремление к ясности, к отбору самого важного и существенного все больше и больше культивировалось в училище.
На лекциях по химии, которые читал И. А. Каблуков, впоследствии знаменитый русский ученый, студенты удивлялись тому, какими простыми вдруг стали формулы, казавшиеся столь запутанными. Любимец студентов, в то время тридцатилетний, Сергей Алексеевич Чаплыгин заставлял слушателей проникать в такие глубины математики, которые раньше представлялись им совершенно недоступными. И вместе с тем Чаплыгин умел быть понятным, предельно- доступным и ясным. Он служил как бы живым подтверждением известного афоризма: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает».
Чаплыгин был учеником прославленного Николая Егоровича Жуковского. По просьбе Сергея Алексеевича знаменитый математик иногда приезжал в училище, обычно на особо важные заседания и на выпускные студенческие вечера. Жуковский читал теоретическую механику в университете, на каждую лекцию шел словно на первую в своей жизни, а на самих лекциях не успокаивался, пока не убеждался, что его поняли до конца. Этих же правил он советовал придерживаться и своим молодым коллегам из училища. Я всегда старался быть поближе к Жуковскому, когда тот разговаривал с выпускниками, и жадно вслушивался в его короткие, отрывистые замечания. Громкая слава и известность не мешали Жуковскому быть простым и скромным, доступным для каждого. Он не скрывал, что очень любит эти беседы с выпускниками в торжественный и такой памятный день их жизни. Но, несмотря на приподнятость всей атмосферы и праздничную обстановку, знаменитый ученый всегда старался выяснить один вопрос, который, видимо, считал самым важным: достаточно ли подготовлены молодые инженеры к самостоятельной работе, не страшатся ли они ответственности, способны ли дерзать и творить?
И я пришел к выводу: путь, подсказанный Проскуряковым, — правильный путь. Ждать, пока кто-нибудь создаст образцовые учебники, может быть, придется долго, очень долго. Надо в меру своих сил отважиться самому. Я взвешивал свои возможности: посильную ли ношу хочу взвалить на свои плечи? Мне хотелось создать такой курс, который дал бы будущему мостовику все основное, все самое главное из того, что ему понадобится потом, за порогом института или училища. Но это большой и сложный труд — четырехтомный курс железных мостов балочной системы! Да, понадобится не менее четырех томов, во всяком случае, для начала в ближайшие годы — два первых из них…
С такими мыслями я приступил к работе. К этому времени я уже стал инспектором училища. Максименко считал, что на первом месте у меня должно быть создание учебников, и большую часть моих обязанностей старался брать на себя. Но свободного времени все равно оставалось гораздо меньше, чем нужно было. Именно тогда я приучил себя летом и зимой вставать ровно в шесть и запоем работать в утренние часы. Тогда хорошо думается и легко пишется. Этот режим остался в силе и через тридцать и через сорок лет.
Если бы сохранились черновики учебников, они могли бы рассказать о том, сколько труда было вложено в создание моих первых книг. Текст каждого абзаца, каждая таблица или формула расчетов не один и не два раза писались и переписывались на отдельных клочках и полосках бумаги, пока я находил возможным перенести их на очередную страницу рукописи. И за каждой такой страницей стояли не только часы и дни раздумий, поисков наиболее четких и лаконичных формулировок, но и многочисленные поездки для личного ознакомления с наиболее интересными мостами.
Я наблюдал мосты в действии, под нагрузкой, сравнивал их достоинства и недостатки, изящество ферм и архитектурную компоновку. Изучая мосты у себя на родине и за границей — в Германии, Австро-Венгрии, Франции, Швейцарии, я критически сопоставлял то, что писалось о них в старых учебниках, со своими личными впечатлениями. Я привозил с собой в Москву множество фотографий и чертежей, но одним из самых важных приобретений были собственные выводы и оценки, которые не всегда совпадали с тем, что можно было найти в литературе.
До последнего дня перед отсылкой рукописи в типографию я продолжал долгую черновую работу, чтобы подать материал предельно кратко, доходчиво, а таблицы сделать ясными и удобными для пользования. На это я никогда не жалел ни времени, ни сил.
Три года подряд трудился я над своими книгами. Вышли в свет первый и второй томы моего курса железных мостов и примеры расчетов деревянных, железных и каменных мостов. В год я сдавал в набор не менее двадцати печатных листов. Книги расходились хорошо; едва появившись в магазинах, они тотчас же исчезали с полок.
Разнобой между лекциями и учебниками исчезал. Я с радостью отмечал, что знания студентов становятся глубже. Но те из них, которые ждали, что ослабеет моя требовательность, крепко ошиблись. Я стал еще жестче и, ко всеобщему удивлению, кроме традиционных баллов, ввел и необычные, нигде не принятые: три с половиной, четыре с половиной. Кто не дотягивал и до тройки, получал «предупреждение», и удостоенный его студент мог быть уверенным, что при пересдаче с него будет двойной спрос.
Те из студентов, что были послабее духом, жаловались на то, что я «режу». Но такая репутация не беспокоила меня: ничего, потом сами спасибо скажут… И я не ошибся. Через десятки лет я получал дружеские письма от крупных ученых и выдающихся инженеров со словами благодарности за мою былую строгость.
«Курс мостов» принес мне некоторую известность в кругах мостостроителей. Но еще дороже была популярность самих учебников. Из разных концов страны приходили в мой адрес письма. Авторами их были не только студенты, но и мостовики, инженеры, имеющие за плечами годы практической работы. Оказалось, что и они находят для себя кое-что полезное в моих книгах.
Однажды почта принесла письмо из Киева. Киевский политехнический институт предлагал мне вновь создаваемую кафедру мостов. Дирекция сообщала, что ей известны не только мои книги, но и мосты, спроектированные мной в последние годы.
Под впечатлением письма я невольно стал вспоминать историю каждого из этих мостов. Над проектами двух шоссейных мостов через Зушу и проектом Петинского путепровода в Харькове вместе со мной работал Петр Яковлевич Каменцев. Теперь он уже покинул стены училища и в содружестве с нашим общим учителем Проскуряковым создавал два арочных моста для Московской окружной железной дороги — Николаевский и Сергиевский. Я подумал, что пройдет еще несколько лет, и Каменцев сам, наверное, станет профессором и, быть может, заменит меня на московской кафедре… Эти предположения со временем сбылись полностью, а через сорок четыре года я получил в подарок два тома научного труда профессора А. И. Отрешко «Строительные конструкции». Автор книги был учеником Каменцева и писал о том, что рад посильно продолжать большое дело, которым занимался еще учитель его учителя.
Соавтором в моем проекте железнодорожного моста через Матиру был Иван Александров. Этот талантливый молодой человек, сын фельдшерицы из московской больницы, уже широко шагал по жизни. Я не сомневался в том, что его ждет большое будущее. А другой выпускник, один из самых способных моих учеников, Прокофьев, тоже сумел громко заявить о себе. Как раз в то время он с успехом заканчивал постройку большого многопролетного железнодорожного моста через Аму-Дарью. Брянский завод доверил ему руководство всеми работами. А еще только два года назад Прокофьев штудировал мои учебники и то бледнел, то краснел перед столом экзаменаторов. Да, и за этого своего питомца я мог быть спокоен.
Вспомнился мне и мой мост через Горный Тикич, и мост через Обшу в Белом, и проект перекрытий зала гостиницы «Метрополь», и многое, многое другое. И как-то сами по себе в одно целое сливались в моем представлении и собственный труд над всеми этими проектами, и труд моих учеников и помощников, ставших теперь самостоятельными, талантливыми и честными инженерами, и благодарные письма от вчерашних студентов, которые и сегодня не расстаются с моими учебниками. И сердцу стало хорошо и тепло от сознания того, что московские годы были такими полными и плодотворными.
И вот надо решать: оставаться ли здесь, или порвать с Московским училищем ради новой и большой работы, которой придется отдать все силы без остатка? Разумеется, я был взволнован и польщен письмом из Киева. Это ли не признание, завоеванное к тридцати четырем годам? Но в то же время смущал и даже немного пугал размах новой работы. Создать кафедру мостов в крупнейшем учебном заведении и заведовать ею? Не простая, не легкая задача. Будет, наверное, трудно, очень трудно. Но зато какие возможности!
Жаль было расставаться с училищем, многими его преподавателями, студентами и прежде всего с доброй душой Максименко, с учителем своим Проскуряковым. Не сочтет ли Максименко, что я отплатил неблагодарностью за всю заботу обо мне и поддержку? С волнением ждал я решающего разговора с ним. Но Филипп Емельянович понял, что влечет меня в Киев, и не стал корить или удерживать. Мы расстались сердечно, расстались друзьями. Максименко пожелал мне не забывать на новом месте добрых московских традиций.
А я,
готовясь к переезду, думал: «Молод институт, молод и я. Доброе предзнаменование!»
И все же было немного тревожно и смутно на сердце, как всегда бывает при крутых поворотах в жизни.
7. В КИЕВЕ
Летом 1904 года я начал работать в Киевском политехническом институте. С этим крупнейшим учебным заведением в дальнейшем были связаны тридцать лет моей жизни.
С первых же дней меня поразили нравы, установившиеся на инженерно-строительном отделении. Слишком уж они были не похожи на то, к чему я привык в Москве.
В учебных делах отделения царил большой беспорядок, вернее, настоящий хаос. Здесь была принята так называемая предметная система. Это приводило к тому, что нередко студенты, заканчивая институт, имели не-сданные зачеты по предметам первого курса. Нелепость и вредность такой системы были для меня целиком очевидными, и я сразу же восстал против нее. Однако мои возражения оставляли, как говорится, без последствий.
Вскоре меня избрали деканом отделения. Это давало мне определенную власть, и я решил воспользоваться ею. Но как только я попытался перестроить программу и порядок сдачи зачетов, меня тотчас же осадили. Предметную систему трогать не дали. Я начал настаивать, меня по-прежнему не слушали. Тогда я попытался явочным порядком добиться своего, круто повел дело. Это уже совсем пришлось не по вкусу. На меня стали посматривать косо, а кое-кто из профессоров намекнул, что, дескать, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Так, мол, недолго и врагов себе нажить…
Мне пришлось временно отступить, власть моя оказалась недостаточной, а убедить дирекцию не удалось. Я стал замечать, что чрезмерной энергией и напористостью начинаю раздражать многих коллег.
Мой предшественник на посту декана был человеком иного склада, видимо, более удобного и для профессоров и для дирекции. Безвольный и ленивый, он предпочитал ни во что особенно не вмешиваться и, главное, ни с кем не ссориться, не портить отношений. Студенты открыто говорили, что всеми делами управляла предприимчивая супруга декана, а он был просто пешкой в ее руках. Чтобы добиться от него поблажек, студенты часто отправлялись за содействием прямо к этой всесильной даме.
Не меньше, чем хаос в проведении зачетов, удивляла меня умозрительность преподавания. Инженерное отделение было настолько бедно учебными пособиями, что студентам все преподносилось на словах, без предметного показа. Я принялся за создание инженерного музея и кабинета мостов со своей специальной библиотекой. Работа эта длилась несколько лет, но уже в первом учебном году сказались ее первые плоды. Начинал я один, но вскоре появились добровольные помощники из преподавателей и студентов. Мы вместе, где только могли, добывали модели, заказывали приборы, собирали книги. Немало томов перекочевало в институт из моей личной библиотеки. Впервые отделение имело теперь приборы для испытания ферм, модели мостовых деталей и приличные коллекции фотографий и диапозитивов. Я стал широко пользоваться ими на своих лекциях. Вместо заучивания отвлеченных понятий студент мог теперь проделать довольно сложные опыты, зримо, наглядно представить себе то, что недавно было для него туманной абстракцией.
Сейчас все это кажется не только нормальным, но и само собой разумеющимся, но тогда на подобные новшества многие мои коллеги смотрели, как на ненужные, надуманные затеи. В моих действиях усматривали желание чем-то выделиться среди других, выпятить свою персону. Мною же руководило одно желание: дать студентам прочные знания, подготовить из них полноценных инженеров. Поэтому я и здесь, в Киеве, как и в Москве, был внимателен к каждому студенту на занятиях и беспощаден на зачетах. Я ничего не прощал лентяям и ловкачам. Зато людей честных и серьезных не упускал из виду и, заметив в них «искру», старался ее раздуть. Одним из таких студентов был способный, можно сказать, талантливый человек Алексей Толчин. Его отличали также редкая правдивость, прямота в отстаивании своих взглядов и идеальная честность. Все эти черты очень импонировали мне, и мы близко сошлись с Толчиным. Он стал моим другом и помощником, и когда я впоследствии приступил к работе над третьим и четвертым томами курса «Железных мостов», Алексей Толчин во многом помог мне в подготовке их к печати. Преждевременная смерть Толчина, который умер совсем молодым человеком, была для меня большим ударом.
Через год после избрания меня деканом я попросил освободить меня от этой должности. Что мог, я за этот короткий срок сделал, а в дальнейшем предпочитал в свободные от преподавания часы полностью отдаться составлению учебников и проектированию мостов. Просьба моя об освобождении не встретила особых возражений. Видимо, моя независимость и неуступчивость начали надоедать и дирекции и наиболее консервативным коллегам.
Это был 1905 год, год революционных потрясений в стране. Грозные студенческие волнения, прокатившиеся по всей России, захватили и Киевский политехнический институт. На митингах и сходках бурлило, клокотало. Я избегал их. Моим правилом было держаться в стороне. Я твердо решил для себя, что политика и вообще всякая общественная жизнь меня «просто не касаются», и старался не вылезать из узкой скорлупы служебных и домашних интересов. Мое дело — лекции, учебники, мосты… А все эти ожесточенные политические споры, студенческие забастовки и демонстрации, революционные требования, так же как и циничные призывы иных черносотенных профессоров «проучить бунтовщиков», ко мне не имеют отношения. Во всех этих страстях мне трудно было разобраться, да и не очень хотелось: пусть и «левые» и «правые» оставят меня в покое. Я вел уединенную жизнь типичного дореволюционного профессора, знал только свои мосты и убежден был, что ничто и никто никогда не выведет меня из круга сугубо технических проблем. Свое равнодушие к политике я считал незыблемым и, конечно, не поверил бы тогда, что Могут настать времена и события, которые заставят меня отказаться от этой искусственной, надуманной позиции, от «нейтралитета» в общественной жизни.
Итак, лекции, проектирование мостов, составление учебников… В этом проходили для меня годы.
В Тифлисе по моему проекту был построен городской шоссейный мост через Куру. Выполнял я эту работу по договору с Тифлисской городской управой. Когда проект был готов, он не понравился ни мне, ни заказчику. Тогда я предложил такое решение вопроса. Не заключая никакого договора, я составлю другой проект моста с тем, что он будет иметь не три пролета, как намечалось раньше, а только один, то есть без двух промежуточных опор. Эта идея сулила изрядную экономию при строительстве моста. Я заявил, что выполню эту работу на свой риск и управа оплатит ее только в том случае, если новый проект ей понравится. Так мы и договорились на словах. После этого я вместе с одним из дипломантов института составил проект, в котором три пролета с консольными фермами заменил одним, применив при этом оригинальные арки. Проект был одобрен, и нам выплатили после этого гонорар.
На реке Рось в Корсуни и Звенигородке появились два моих шоссейных моста. Они интересны своей проезжей частью, состоящей из железобетонной плиты с тремя продольными ребрами, которые поддерживаются железными поперечными балками со сквозной стенкой.
Много творческой радости принесло мне создание киевского пешеходного моста в конце Петровской аллеи, моста, хорошо известного всем киевлянам. Продлению Петровской аллеи мешал еще не успевший сползти остаток откоса на гористом берегу Днепра. Вначале выдвигался проект пройти этот земляной массив тоннелем. Такое решение показалось мне неинтересным, скучным. Этот чудесный уголок Киева можно было украсить легким, красивым мостом. Необычайно привлекательно он выглядел бы на фоне безграничных днепровских далей и великолепных киевских парков. Я предложил сделать в откосе глубокую выемку и перекрыть ее легким пешеходным мостом с серповидными ажурными фермами.
Эта мысль понравилась и была одобрена. Необычно проходила и постройка моста: она производилась до удаления земляного массива. Его поверхность была срезана параллельно очертанию нижнего пояса ферм, и на земле уложили небольшие клетки. На них и проводилась сборка нижних поясов и остальных элементов моста. Когда фермы были склепаны и опущены на заранее построенные опоры из бетонных свай, приступили к разработке земляной выемки под мостом. Это был редкий случай сборки моста.
Почти каждый год выходили в свет мои новые учебники: третий и четвертый тома курса «Железных мостов», обстоятельный курс «Деревянных мостов» и другие учебники и пособия. Я был так же требователен к себе, как и при составлении первой своей книги. Когда, например, нужно было осветить вопрос о сложных врубках в сопряжении круглых бревен при постройке деревянных мостов, то сначала я вместе с несколькими студентами изготовил модели узлов с такими врубками, сфотографировал их и заказал клише для помещения в учебник деревянных мостов. Я стремился к тому, чтобы каждый раздел книги отличался наглядностью, конкретностью и ясностью. Наборщики из типографии Кушнарева уже привыкли к моему трудному почерку и научились набирать прямо с рукописи, но и они нередко поругивали меня за корректуру, испещренную многими поправками.
Внешне все в моей жизни обстояло благополучно. Жаловаться как будто было не на что. Я имел кафедру, мосты по моим проектам строились, книги печатались и приобретали все большую популярность, материально я был вполне обеспечен. Петербургское начальство время от времени повышало меня в чине, и к сорока годам я уже был статским советником. Происхождение и положение в обществе открывали мне доступ в «лучшие, избранные дома» Киева… Чего же, казалось бы, желать еще? Покойная мать, наверное, порадовалась бы, глядя на мои успехи. Да, если взглянуть на положение ее глазами, все действительно обстояло превосходно.
Но еще в отроческие годы я привык критически смотреть на жизнь и судить о ней самостоятельно. Теперь, в зрелые годы, я тем более не мог и не хотел обманывать себя. С каждым месяцем, с каждым годом я ощущал все большую усталость. Я много раз проверял себя и чувствовал, что эта усталость не только физическая, накопившаяся от огромного переутомления за все годы, но и усталость душевная. Я стал внимательнее оглядываться вокруг и решил подвести для себя кое-какие итоги. Это была длительная и трудная, глубоко внутренняя и невидимая даже для близких работа, которая и привела меня затем к непонятному и неожиданному для всех решению.
Я заставил себя взглянуть на мое бытие со стороны.
Как я живу? Обывательская, бесцветная жизнь многих коллег — соседей по институтскому дому — мне не по нутру. Все реже и реже ходили мы с женой к ним в гости, все больше и больше избегал я подобных приглашений, все глубже заползал я в свою скорлупу. Мне претили мещанские сплетни и пересуды за карточным или обеденным столом у директора или кого-нибудь из профессоров, пустое времяпрепровождение, перемывание косточек приятелей и приятельниц, зависть к преуспевающим и насмешки над неудачниками. Несмотря на общие служебные интересы, я в таком обществе чувствовал себя чужим по своим стремлениям, мыслям, характеру.
Трудно, медленно сходился я с людьми. Другое дело на лекциях! Там я загорался, увлекался, говорил легко, просто. В гостях же становился иным человеком, уходил в себя, хмурился, отмалчивался. Я знал, что это объясняют нелюдимым и замкнутым характером, знал, что за глаза меня уже называют «белой вороной», чудаком, которого не интересуют ни выпивки, ни карты. Эта отчужденность с годами не исчезала, а, наоборот, все росла, и я не мог, да и не хотел чем-нибудь ее разрядить, ослабить. Происходило это помимо моей воли, и я об этом не очень горевал.
Двойственное впечатление производили на меня традиционные банкеты в дни годовщины основания Петербургского института инженеров путей сообщения. На эти вечера собирались его питомцы, живущие в Киеве и в близлежащих городах. Сидя за столом, я внимательно прислушивался к шумной беседе.
Когда вино развязывало языки, те, кто имел для этого основания, с упоением хвастали внушительным счетом в банке, собственным выездом, выгодной женитьбой, удачной покупкой ценных бумаг… Карьера, комфорт, деньги, новые ступени на служебной лестнице — вот в чем состояли идеалы таких людей. Все вокруг прививало им эти убогие и корыстные интересы.
Конечно, я знал, что не все таковы. Иные рассказывали о своих смелых технических замыслах, о новых проектах мостов и вокзалов, о муках и радостях дерзаний, о своем труде, радовались за товарищей-однокашников, которые работали горячо, жили увлеченно. Но, увы, не они делают погоду, не они на поверхности жизни, не они обласканы «власть предержащими».
«Значит, проходят годы и ничто не изменяется? — с грустью думал я. — Значит, жизнь стоит на месте? Мосты начинают строить по-другому, а мыслят по-прежнему?» Мне казалось, что время остановилось, застыло навсегда…
И я пришел к печальному выводу: кое-чего я своим упорным трудом добился к сорока трем годам, может быть, больше, чем многие другие, но жил я не среди людей, а как затворник, жил среди мертвых металлических конструкций мостов. Отдавал любимому делу всю душу, а взамен получал от жизни только материальные блага. Я оказался чужим не только среди большинства своих коллег, но и среди самых близких родственников. Братья мои к тому времени стали помещиками, состоятельными людьми, крупными чиновниками, мои устремления были им и непонятны и чужды. И с ними мои дороги разошлись давно.
В сорок три года, в расцвете сил, я почувствовал себя безмерно одиноким и уставшим, почти стариком. Конечно, у меня есть много учеников, они-то, надо надеяться, помянут меня добрым словом, думал я. Но и у них уже своя жизнь, свои пути-дороги… Да, одиночество и пустота. Стоит ли в таком случае продолжать?
Позже я с изумлением вспоминал свое тогдашнее состояние и настроение: дойдя до середины своего жизненного пути, я потерял вкус к жизни, внутренне надломился.
О старости, о ее обеспечении беспокоиться не приходилось. От продажи учебников скопился небольшой капитал, и его вместе с процентами и пенсией должно было хватить, чтобы дожить остаток лет. Нужно, думал я, устроиться где-нибудь на юге, на берегу моря, купить дачу, непременно с садом.
И вот во время рождественских каникул 1913 года я отправился в Крым. Там я облюбовал у моря небольшую дачу, именно такую, о какой мечтал. Вернувшись в Киев, я представлял себе свой уголок летом, ласковый плеск волны в тихие дни и рокот прибоя в непогоду, спокойную, кропотливую работу в своем саду и на огороде, дальние прогулки в горы, покой, тишину и южное яркое небо над головой. Невольно мелькала озорная мысль: вот будет сюрприз для господ коллег! Профессор-мостовик — в роли садовника… Я невольно засмеялся, представляя себе их вытянувшиеся лица. Пусть говорят, что хотят, пусть строят любые догадки, — с меня хватит!
В этот вечер, когда я окончательно утвердился в этой мысли, я взял со стола бумагу, ручку и приготовился писать. Взгляд мой невольно задержался на ручке. Да это же та самая, та, с которой связано столько дорогих воспоминаний! Диплом… Первые печатные труды… Диссертация… И вот — финал, финал, который я сам избрал. Резкая ломка всего, жирная итоговая черта под всей предыдущей жизнью, полной труда, волнений, исканий, обид, успехов, удач и неудач, надежд, разочарований, борьбы. Все это отныне безвозвратно отходит в прошлое. И как иронически выглядит сейчас эта некогда милая сердцу реликвия — простенькая березовая ручка. И она и я уходим на покой.
Я обмакнул перо в чернила и начал писать.
Это был мой рапорт директору Киевского политехнического института. Рапорт об отставке.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВЫХОД НА ПРОСТОР
1. ГРОЗОВЫЕ ДНИ
Начало первой мировой войны застало меня в Ницце, где я лечился и отдыхал после тяжелой болезни — острого воспаления легких и осложнения на нервной почве. В течение зимы я полностью поправился, чувствовал себя совсем здоровым и сильно тосковал по родине. Сестра, приехавшая вместе со мной во Францию, очень любила Ниццу, где мы родились, ее красивую природу, мягкий морской климат и уговаривала меня остаться здесь навсегда. Я и раньше не поддавался на ее уговоры, а теперь, когда Россия участвовала в войне, пребывание вдали от родных мест становилось для меня совсем невыносимым.
Я всей душой рвался домой, но прямой путь в Россию через Германию был отрезан войной.
Только в феврале 1915 года я отправился в далекую дорогу через Италию, Болгарию и Румынию. В Риме пришлось задержаться на несколько дней. Я бродил по древнему городу, осматривал развалины Колизея, стоял зачарованный под знаменитым куполом собора Петра и Павла. Высота купола, громадные внутренние размеры собора, освещение — все это произвело на меня сильное впечатление.
Я любовался прекрасной итальянской столицей, ее древними памятниками, но мысли и чувства мои были далеко отсюда… Скорей, скорей попасть в Россию и стать полезным ей в тяжелую годину!
В Неаполе я осмотрел раскопки Геркуланума и Помпеи, побывал в опере и подивился тому азарту и горячности, с какими итальянцы воспринимают музыку. Отсюда на пароходе отправился в Сорренто. Там меня поразили тепличный воздух, удивительная тишина и дикая красота обрывистого, скалистого берега моря. Наконец остались позади и Адриатическое море и Коринфский канал, затем Салоники, София, Бухарест. Отсюда, из Румынии, было уже совсем близко к дому.
Я вернулся в Киев, в тот же Киевский политехнический институт, и постарался забыть неприятный, горький осадок, оставшийся от моей добровольной отставки. Регулярные учебные занятия были нарушены войной, и пришлось заниматься главным образом со студентами двух последних курсов, которые ускоренными темпами заканчивали институт.
В кругу моих коллег и знакомых на том, первом, этапе войны царило приподнятое настроение. Что касается меня, то я тогда еще плохо разбирался в действительных причинах возникновения современных войн. Рассуждал я довольно примитивно: «Вильгельм напал на нас — надо защищаться».
Конечно, я хорошо помнил войну с японцами в 1904–1905 годах и чувство боли, пережитое тогда. Война эта шла где-то страшно далеко, через всю страну гнали поезда с солдатами на Дальний Восток, с фронта приходили победные реляции генерала Куропаткина, и мы первое время принимали их с доверием. Когда же стало невозможно скрывать дурные вести, генералы и правительство призывали к терпению и к вере в победу. А потом неожиданно выяснилось, что воевать правительство не умеет, страна к войне не подготовлена, а солдаты наши идут на японские пулеметы чуть ли не с голыми руками. Слишком разителен был контраст между лживыми и хвастливыми газетными статьями и страшной правдой действительности!
Прошло с тех пор десять лет, но все еще трудно было забыть позор Цусимы, мерзкое предательство генералов в Порт-Артуре, измену и продажность военных верхушек. Солдаты и честные рядовые офицеры, простые русские люди-патриоты в 1904–1905 годах героически сражались за Россию, а наверху — в штабах и министерствах — торговали их жизнью и кровью. Стыдно и больно было за свою могучую и в то же время бессильную родину. Обидно, тяжело было.
«Нет, — думал я в 1915 году, — все это не может повториться. Печальный опыт русско-японской войны должен был многому научить наших правителей. Не мог не научить! Во всяком случае, — считал я, — каждый русский человек должен сейчас помочь своей родине». И я стал искать применения своим знаниям.
До тех пор у нас в стране никто всерьез не занимался проектированием стальных разборных мостов, которые обычно применяются вместо взорванных. Нужда же в них была самая крайняя. А мы тогда располагали лишь несколькими устаревшими типами таких мостов системы французского инженера Эйфеля, известного своей знаменитой башней в Париже, несколькими разборными строениями небольшого пролета около 12 метров для узкой колеи, спроектированными одним русским инженером, и небольшим количеством ширококолейных пролетных строений системы Рот Вагнера, попавших к нам в виде военных трофеев.
Положение, как видно из сказанного, было бедственным.
С этой областью мостостроения я был совершенно не знаком, предшественников в отечественной практике у меня почти не было. Начинать приходилось буквально с азов. Я принялся за изучение иностранной литературы на эту тему. Она оказалась более чем скудной, и я нашел в ней очень мало полезного.
Выход был один: не смущаться тем, что начинать придется почти на голом месте, самому взяться за проектирование и, по моему старому правилу, прибегнуть к помощи своих излюбленных сотрудников — студентов-выпускников. Не беда, что многое придется находить и создавать впервые, тем почетнее наша задача!
Уже в 1916 году с дипломантом Сейделем мы приступили к проекту двадцатисаженного ширококолейного железнодорожного разборного пролетного строения с ездой понизу. Фермы его имели пролет в 44,5 метра. Проект этот мы выполнили в самый короткий срок и, не требуя никакого вознаграждения, передали его управлению Юго-Западных железных дорог. Первенец наш оказался настолько удачным, что управление сразу же заказало семь пролетных строений и вскоре установило их при восстановлении мостов на нескольких железных дорогах.
В 1917 году Киевский округ путей сообщения приступил к постройке семи деревянных стратегических мостов через Днепр. Я узнал, что для перекрытия судоходных пролетов этих мостов мой бывший ученик инженер Прокофьев по заказу округа проектирует деревянные фермы системы Гау. С моей точки зрения, стальные фермы были и надежнее и дешевле. Я предложил начальнику округа свои услуги, но не требовал, чтобы он отказался от услуг Прокофьева, а изъявил готовность составить свой проект на конкурс в порядке творческого соревнования. То, что я включился в это соревнование с опозданием, сильно подстегивало меня, и я в содружестве с дипломантом Дамским выполнил свое обещание в невиданно короткий срок — в две недели. И хотя проект Прокофьева еще разрабатывался им, преимущества стального пролетного строения оказались настолько очевидными, что округ решил остановиться на нашем проекте.
Мне же было поручено разместить заказы на изготовление этих семи пролетных строений. Я отправился с этой целью сначала в Екатеринослав на Брянский завод, а затем в Донбасс, на Юзовский завод.
Все эти годы — годы первой мировой войны — я не раз привлекал студентов-дипломантов к созданию проектов деревянных мостов, в том числе большой эстакады на левом берегу Днепра у Киева, представлявшей подход к железнодорожному Подольскому мосту. Вместе со мной над ее проектом, а затем и над проведением испытаний эстакады работали мои студенты. Большой успех имели наши копры «Пионер» для забивки свай. Свои чертежи, записки и «спецификации веса» мы рассылали непосредственно строителям прифронтовых дорог. Для осмотра строящихся мостов и консультаций я неоднократно сам выезжал на линию.
Я с головой ушел в работу, она поглощала меня целиком, но я не мог не замечать того, что происходило вокруг. Мучительно было сознавать, что наша промышленность так слабо развита, что многие проекты стальных мостов оставались на бумаге. Россия выплавляла мало металла, и наши дороги часто вынуждены были отказываться от изготовления металлоконструкций. А от приезжавших с фронта приходилось слышать, что на передовых позициях батареи часто молчат из-за нехватки снарядов, что в солдатских подсумках не густо, и немало случаев, когда одна винтовка приходится на двоих, на троих.
Как-то сами по себе возникали неприятные мысли:
«Недалеко, однако, мы ушли от 1905 года… О чем же раньше думали наши правители?»
Этот вопрос все чаще всплывал передо мной.
Для размещения одного из заказов на мосты мне пришлось поехать в Донбасс, в тогдашнюю Юзовку. Тамошний металлургический завод принадлежал англичанину Юзу, а остальные предприятия и шахты вокруг — либо его соотечественникам, либо французам и бельгийцам. Проезжая через Юзовку, я видел всюду ужасную нищету. Рабочие ютились в каких-то подземных норах, в хижинах, сбитых из ящиков и досок. Зато в шикарном доме директора завода — англичанина — била в глаза отменная роскошь. Стоимость обеда, которым нас потчевали, наверное, превышала месячный заработок нескольких рабочих.
Мне становилось понятнее настроение фронтовиков, проклинавших войну и тех, кто наживается на ней, а солдат оставляет без патронов и снарядов.
Не только в Донбассе — всюду я видел засилие иностранцев в промышленности. У нас в Киеве один крупный машиностроительный завод принадлежал Криванеку и Гретеру, другой — бельгийцам, святошинский трамвай — немцам и т. д.
С тех пор и до самого окончания войны я ощущал, как во мне и во многих близких мне людях постепенно нарастает разочарование: мы старались отдать все свои силы для победы, а на фронте развал, частые неудачи, и не видно было, чтобы царь и правительство могли исправить положение.
Повторяю, даже в нашем кругу к концу войны настроение становилось подавленным, патриотический угар рассеивался. Многим уже хорошо известно было, что оружия в армии не хватает, что в окружении царя немало тупиц, казнокрадов, немецких ставленников и шпионов, что сам царь — бездарность и чуждый народу человек. Стоит вспомнить хотя бы измену царского военного министра. Сухомлинова! Промышленность, отданная в значительной мере на откуп иностранцам, была настолько слаба, что не могла как следует снабжать армию. Моя вера в правительство еще более заколебалась.
К чему же тогда мои усилия и усилия многих других честных людей, если все вокруг разваливается?
Февральскую и в еще большей степени Октябрьскую революции я встретил растерянно. Мне казалось, что теперь неизбежно наступит хаос, полный развал, и в нем окончательно погибнет Россия, окруженная врагами. Ожесточенность начавшейся затем гражданской войны, свирепый террор интервентов всех мастей еще больше смутили меня. Мерещилось, что России пришел конец, что враги растащат ее по кускам. Но, к счастью, я ошибся. Я видел, что народы бывшей царской России во главе с коммунистами сумели прогнать всех, кто пытался снова посадить им на шею власть капиталистов и помещиков. Уже одно это заставило меня больше поверить в силы народа, который до сих пор я так плохо знал.
Шестнадцать раз в Киеве менялись власти, но ни я, ни моя семья не покидали город. Я ждал, пока смогу снова начать работать.
Я не очень верил тогда в то, что у большевиков в дальнейшем выйдет что-нибудь дельное, но с врагами России они справлялись прекрасно. В моих глазах это было огромным успехом.
Я не сомневался, что народу скоро понадобятся мои знания для восстановления мостов после страшной разрухи. А целью всей моей предыдущей жизни была работа для родины. Правда, я хорошо видел, что представители победившей советской власти на местах подозрительно присматриваются к таким людям, как я. Это было естественно. Но надо прямо сказать, что и я тоже присматривался к новой власти. В целях и политике большевиков для меня многое оставалось непонятным. Мне ясно было, что буржуазная Европа враждебна советской власти и не даст ей ни кредитов, ни займов.
«Где же большевики возьмут средства, чтобы вытащить Россию из разрухи? Откуда появятся у них для этого силы?» — думал я тогда и не находил ответа.
Победить можно было героизмом, но строить? Для этого нужны деньги, и немалые!
Но так или иначе, страна была тяжело изранена, и сидеть сложа руки, когда вокруг разруха, было не в моем характере. Естественно, что безделье, а тем более саботаж в такой тяжелой обстановке я считал преступлением.
2. ГИБЕЛЬ ЦЕПНОГО МОСТА
Никогда не забыть мне этого дня. В окнах моей институтской квартиры на Брест-Литовском шоссе задребезжали все стекла. В них ударила звуковая волна огромной силы. На второй взрыв отозвалась посуда в буфете, и словно чья-то невидимая рука распахнула все двери.
Торжественное открытие киевского моста через Днепр (1925 г.), построенного по проекту Е. О. Патона взамен разрушенного белополяками Цепного моста. (В годы Отечественной войны мост снова был разрушен немецко-фашистскими захватчиками.)
Торжественное открытие Киевского автодорожного моста имени Е. О. Патона, сваренного автоматами под флюсом. 1953 г.
Резко отшвырнув стул, я выбежал на балкон. Моя жена Наталья Викторовна бросилась вслед за мной. Вцепившись руками в перила, я напряженно смотрел в сторону Днепра. Оглушительные раскаты взрывов гремели над Киевом, и после каждого из них я все ниже опускал голову. Оглянувшись, я увидел печальный взгляд жены: она все поняла сразу.
Где-то над рекой взметнулся далекий султан дыма, потом он расплылся в зловещую сизо-черную тучу, и все небо заволокло пеленой. Раскаленный июньский полдень мгновенно потускнел.
— Цепной, — упавшим голосом проговорил я, не отрывая взгляда от горизонта. — И как могла подняться рука?
— Быть не может! — зябко повела плечами Наталья Викторовна.
— Не может? Сбросили же они шесть других мостов в Днепр! Что им до того, что это мост — единственный в Европе? Вот уж буквально жгут за собой мосты.
— Идем к детям, — мягко проговорила жена, — мальчики, наверное, очень напуганы.
Ей, видимо, хотелось чем-нибудь отвлечь меня от горестных мыслей. Я ничего не ответил, и Наталья Викторовна тихо прикрыла за собой двери в комнату.
Взрывов больше не было. Погружаясь в днепровские воды, невдалеке отсюда умирал мост, известный во всем мире своей красотой и оригинальностью. Над Днепром остались только сиротливо торчащие каменные быки.
Я прошел через квартиру и спустился на шоссе.
Белополяки… В последние дни я несколько раз выходил на Брест-Литовское шоссе взглянуть на них. Оборванная, ощипанная орда еще недавно щеголеватых, оперно-красивых уланов и легионеров без оглядки неслась на Запад.
— Эй, паны, кто тут из вас Пилсудский? — озорно кричали им вслед мальчишки, прячась за заборами. Они уже привыкли освистывать завоевателей в иностранных мундирах всевозможных цветов и покроев. Обладатели различных нарядных униформ всякий раз объявляли, что пришли навсегда, а потом едва уносили ноги.
— Кланяйтесь атаману Петлюре!
— Кайзеру привет! — улюлюкали шулявские сорванцы.
Оглушительный свист летел вдогонку спешенным и потерявшим гонор уланам.
«Вот и эти бегут, злобно и пугливо озираясь по сторонам, а так мерзко нашкодили на прощанье, — думал я. — Кто только за эти три года не бесчинствовал на улицах Киева, не рубил саблями ни в чем не повинных людей, не топтал лошадьми прохожих за один строптивый взгляд? И всех постигал один и тот же бесславный конец».
На этом же шоссе мне довелось видеть бегущими и петлюровских головорезов в папахах со шлыками, и деникинских палачей в английских френчах, и немецких карателей Эйхгорна. Все они приходили «спасать» Россию, Украину, а народ, который они намеревались «спасать», бесцеремонно выставлял их вон.
Грохоча по камням шоссе, мимо меня пылили польские обозы, а я с облегчением думал: «Это уже, кажется, последние «спасители». Господа деникинцы и поляки «спасали» на английские и французские деньги, петлюровцы — на немецкие, всем не давали покоя эти таинственные большевики. И даже некоторые, как они сами себя именовали, «истинно русские» люди, из числа моих коллег по институту, сбежали в свое время к белым генералам на юг.
«Кто же такие эти большевики? — размышлял я, возвращаясь через парк к себе домой. — Такие же русские, как и я. Почему же некоторые мои коллеги так испугались их? Лишились всяких привилегий и счетов в банках? Ценных бумаг и всего прочего лишился и я. Но я, как и немало других старых рус-ских интеллигентов, не бросился в объятия всяких Деникиных. Я не тронулся с места, пока не закончилась вся эта чехарда властей, и вот все же дождался, что иностранных «освободителей» всех мастей вместе с Деникиными и колчаками вымели из Киева и почти из всей России. И сделали это большевики».
— Ну что там? — тревожно встретила меня жена. — Сидел бы ты лучше в такое время дома.
— Бегут, — коротко ответил я.
Только через несколько минут я нарушил молчание.
— Знаешь, Наташа, сколько лет простоял этот мост? Шестьдесят пять лет без малого! Железные звенья его цепей доставляли пароходами из Англии в Одессу, а оттуда чумаки на волах тащили в Киев.
Жена изумленно взглянула на меня:
— На волах? Ты шутишь, наверное.
— Представь. Ведь тогда еще и железной дороги не было. И вот за один час…
Я опустил голову: хотелось скрыть от жены нахлынувшее волнение. Наталья Викторовна ласково положила руку на мое плечо.
— А ведь я знаю, о чем ты сейчас думаешь.
Я вопросительно поднял на нее глаза.
— Мечтаешь заново построить Цепной?
— Угадала! Но ведь одного этого мало. Нужен металл, нужны деньги, заводы, которые взялись бы за такую хлопотную затею. А народ у нас ходит в лаптях и обмотках. Ломоть хлеба делят веревочкой на части.
Откуда-то из-за Днепра донесся раскатистый грохот уже совсем близкой артиллерийской пальбы.
— И еще льется кровь, — грустно добавила жена. — Кому сейчас нужны твои мосты?
— Знаешь, Наташа, я не разговаривал ни с одним большевиком, а их руководителей даже не видел. Но если они всерьез собираются управлять Россией, Им не обойтись без нас, без тех, кто умеет и хочет строить мосты. Времена чумаков прошли безвозвратно.
Наталья Викторовна неожиданно засмеялась и крепко сжала мою руку. Я перехватил ее взгляд и тоже невольно улыбнулся. Оба наших мальчика — трехлетний Володя и двухлетний Боря — увлеченно возводили какое-то сложное сооружение из двух комплектов кубиков.
— Хороший пример для взрослых, — шепнул я жене, стараясь не спугнуть ребят, с тревогой следивших за тем, не рухнет ли их высокая башня.
3. САМОЕ НЕОТЛОЖНОЕ
В Киевском политехническом институте возобновились нормальные занятия.
В двадцатом и двадцать первом годах среди студентов появились совершенно новые для меня люди — люди в шинелях и буденовках, вчерашние фронтовики, не раз смотревшие в глаза смерти. С винтовкой или саблей в руках они завоевали победу советской власти и сейчас с огромной жаждой знаний и энергией набросились на учебу.
Одни из них являлись в институт с товарной станции, где подрабатывали на разгрузке дров. Другие варили по ночам какое-то фантастическое мыло, — оно обладало всеми внешними признаками настоящего, но упорно не хотело мылиться и поэтому с трудом находило спрос. Третьи мастерили для продажи зажигалки и сандалии на деревянном ходу. В общем все это буйное, неунывающее студенческое племя жило не сладко, часто недоедало, дымило самосадом и все же не теряло бодрости духа. Многие маменькины сынки из числа старых студентов сбежали, остались те, кто имел крепкие корни. Неделями студенты работали в чертежной, подняв воротники, ожесточенно дули на окоченевшие пальцы и постукивали ногой об ногу, но никто не высказывал недовольства. Им нравилось, что для проектов они получают не абстрактные темы, а реальные мосты, что этих проектов нетерпеливо ждут на Днепре,
Припяти, Десне, на всех реках юго-запада Украины. А раз так, и холод и лишения не страшны!
Рядом с этой молодежью и мне как-то не думалось в трудные годы о собственных невзгодах, о холодной квартире, о том, что фунт пшена стал богатством, а хлеб дома научились резать так, чтобы ни одна крошка не свалилась на пол.
И приятно было сознавать, что ни я, ни мои студенты не забились в норы, не утратили острого интереса к жизни. Тем противнее были люди-мокрицы.
Как-то раз, поднимаясь утром по лестнице института, я встретил одного старого профессора. Коллега иронически взглянул на пухлую папку в моих руках.
— Чем толще папка, тем больше пайков? — язвительно усмехнулся он.
— Вы это о чем? — нахмурился я.
— Говорят, вы уже в двух советских управлениях числитесь консультантом?
— Числюсь? Может быть, кто-нибудь и числится, милостивый государь, числится и ловит пайки, а мы работаем. Да-с, батенька, работаем, восстанавливаем и строим мосты. Позвольте пройти.
Язвительный профессор, не двигаясь с места, деланно расхохотался. В его голосе звучала прямая издевка.
— И вы верите в этот блеф, Евгений Оскарович? Пора бы понять, что большевики только перекати-поле на русской почве. Вспомните этого нахального молодого человека, который начал приучать нас к коллективизму с того, что приказал снести все заборы в институте, вспомните! И вы собираетесь работать с такими?!.
— Его давно убрали, — отрезал я и отстранил рукой этого наглеца. — А мосты они собираются строить и уже строят всерьез. И в этом деле я им помощник. А вы как хотите.
Уже поднимаясь на верхнюю площадку, я услышал посланную вдогонку ядовитую реплику:
— Может быть, заодно, так сказать, между делом и Цепной мост восстановите?
Тогда я промолчал, но потом, вспоминая об этой стычке, с болью ощутил, что удар был нацелен в самое уязвимое место.
Сотни мостов в стране были разрушены войной.
Уже более двух лет я работал в управлениях, ведавших восстановлением железнодорожных и шоссейных мостов Украины, консультировал проектирование и строительство мостов через Днепр, Десну и Припять. Я участвовал в решении всех технических вопросов по восстановлению взорванных белополяками пролетов Дарницкого и Подольского мостов. И, конечно, не погоня за пайками привела меня в советские учреждения.
С болью в сердце думал я о том, что гражданская война принесла еще больше разрушений на наших железных дорогах, чем мировая. Интервенты и белогвардейцы варварски подрывали и уничтожали мосты и оставили на транспорте тяжелое наследие молодой Советской республике. Наши железные дороги нуждались в разборных пролетных строениях большого пролета до 88 метров для широкой колеи. Я понимал, что без восстановления нормальной работы транспорта нечего и думать о налаживании промышленности и сельского хозяйства. И когда Народный комиссариат путей сообщения объявил международный конкурс на проект разборного железнодорожного пролетного строения для перекрытия пролетов от 30 до 88 метров с ездой понизу или поверху и с возможностью постройки опор из элементов ферм, я немедленно отозвался на сообщение об этом конкурсе.
Большая универсальность и большой диапазон пролетов сильно усложняли проектирование, но я уже не был новичком в этом деле и решил не отступать перед трудностями. Для участия в конкурсе я пригласил только что окончивших у меня молодых инженеров Лабзенко и Старовойтенко. Много было у нас споров, дискуссий и даже расхождений, пока мы выбрали наиболее удачную систему ферм. Учитель и ученики вели эту борьбу мнений на равных началах, тщательно взвешивали каждую мысль.
Это не только не затянуло работу, но даже ускорило ее, ибо помогло избежать возможных ошибок.
Готовый проект, состоящий из многих сложных чертежей и расчетной и пояснительной записок, мы сдали в установленный срок и начали ожидать результатов. Какой огромной была наша радость, особенно радость моих молодых соавторов, когда мы узнали результаты конкурса.
Всего в жюри поступило десять проектов, из них два или три — точно не помню — представили иностранные мостовые фирмы. Первую премию жюри не присудило никому. Вторую премию получил наш проект.
Мне же Наркомат путей сообщения поручил составление различных проектов монтажа, разобранного пролетного строения: проект навесной сборки, в нескольких вариантах проект сборки на берегу и последующей накатки в мостовые пролеты. И на этот раз моими помощниками были дипломанты Киевского политехнического института, среди которых выделялся студент Нарец.
В рассмотрении этих проектов в Центральном управлении железных дорог активное участие принимал мой старый ученик, о котором я уже рассказывал раньше, — Петр Яковлевич Каменцев. Скажу тут же, что из этого моего студента вырос крупный инженер-мостовик и талантливый педагог. В 1952 году я имел счастливую возможность послать ему поздравление с пятидесятилетием научной деятельности и семидесятилетием со дня рождения, которые отмечались в Москве.
В НКПС отдали предпочтение проекту навесной сборки. И когда в 1922 году на заводе. «Россуд» в Николаеве были готовы все монтажные элементы, сюда прибыла комиссия для приемки как самого пролетного строения, так и сборки нескольких его панелей.
Пробная навесная сборка прошла хорошо, без инцидентов, шарнирные болты большого размера входили в свои гнезда легко и быстро. Комиссия признала результаты вполне удовлетворительными. После этого завод сдал заказчику все пролетное строение и кондукторы, а для обучения рабочих и инженеров навесной сборке на одной из мостовых баз регулярно устраивались сборы. Вскоре наркомат заказал еще несколько пролетных строений по нашему проекту.
Свою работу по мостам такого типа я закончил в 1922 году интересным и оригинальным проектом нескольких разборных автодорожных мостов небольшого пролета из элементов весом не более 1,5 тонны. Проект этот составлен совместно с тремя дипломантами — двумя братьями Маранц и Мариниченко. Особенностью задания был малый вес элементов, а также то, что сборка и наводка моста должны продолжаться максимум три часа.
Такая скорость нас просто поразила! Поначалу мы даже думали, что в текст задания вкралась ошибка. Но вскоре выяснилось, что никакой опечатки нет, а просто такие темпы для нас до тех пор были неизвестны. Я наметил два варианта моста и принялся со своими молодыми помощниками за работу. С пролетным строением мы справились довольно легко. Гораздо труднее было разработать поворот на 90° строения, собранного вдоль берега, и последующую накатку моста. Но мы победили эти трудности и свободно уложились в жесткий трехчасовой срок. Оба варианта нашего проекта были
приняты и премированы.
На проектирование многочисленных разборных мостов я затратил в те годы много труда и времени. Зато я с удовлетворением могу отметить, что этот труд не пропал даром. Не менее четырех из разработанных нами типов разборных мостов укрепились на практике и выдержали проверку временем.
К выполнению почти всех этих проектов я привлекал своих студентов-дипломантов. Они были непосредственными исполнителями, между тем как я намечал предварительные решения и шаг за шагом руководил работой моих молодых сотрудников. Они трудились с задором и увлечением молодости и приобретали драгоценный опыт по проектированию.
С каждым проектом происходила смена моих помощников и соавторов. Поэтому руководство проектированием причиняло мне много хлопот и отнимало много времени. Несмотря на это, я любил работать с молодежью. Эта любовь не мешала мне требовать от нее четкости и дисциплины. За бесконечные переделки, выполнявшиеся по моему требованию, мои сотрудники, вероятно, не раз ругали своего профессора. Однако, выйдя в жизнь, большинство из них убеждалось, что навыки, приобретенные в институте, пошли им на пользу. Такие отзывы мне приходилось слышать много раз.
4. КАКИМ БЫТЬ НОВОМУ МОСТУ В КИЕВЕ?
Работы в то время у меня и у моих студентов-дипломантов было очень много. И все же мы ни на один день не забывали о своей заветной мечте: создать проект восстановления Цепного моста в Киеве. Это была увлекательная и интересная задача.
Цепной шоссейный мост через Днепр в Киеве был построен в 1854 году английским инженером Виньолем. Четыре больших и два малых пролета перекрывались двумя неразрезными цепями, к которым были подвешены поперечные балки проезжей части. Это был единственный в мире мост с шестипролетными неразрезными цепями.
Белополяки взорвали эти цепи только в одном месте, после чего все четыре больших пролета обрушились на дно реки. Видимо, они гордились этим своим злодеянием: очевидцы рассказывали мне потом, что белополяки сфотографировали момент, когда пролетное строение погружалось в Днепр.
В первые же дни восстановления нормальной жизни на Советской Украине после изгнания последних интервентов встал вопрос о создании хотя бы временного перехода через Днепр на том же месте, где раньше находился Цепной мост. Предлагались всевозможные варианты. Несколько дипломантов-выпускников Киевского политехнического института — Федоров, Москаленко и другие — под моим руководством разработали эскизные проекты различных способов перекрытия пролетов бывшего Цепного моста. Мы хотели выяснить, можно ли ограничиться оставшимися каменными быками или придется добавлять новые деревянные опоры временного типа. Эта работа велась нами по собственному почину в качестве дипломных проектов студентов. Проекты эти рассматривались в управлении шоссейных дорог юго-западных районов, где я тогда работал консультантом.
Выяснилось, что постройка железного моста на каменных быках бывшего Цепного моста без устройства дополнительных промежуточных опор из дерева обойдется всего на 25–30 процентов дороже, но зато имеет решающее преимущество в отношении судоходства, сплава плотов, пропуска ледохода, а также прочности и солидности самого моста.
Раз вопрос решался в таком смысле, сама собой напрашивалась мысль восстановить мост в таком же виде, каким он был до разрушения, то есть цепной системы, пользуясь прежним материалом, который предстояло поднять из воды.
Эта идея занимала вначале и меня. Еще летом 1920 года, тотчас после разрушения моста, по моей схеме был разработан эскизный проект Цепного моста уменьшенной ширины и для облегченной нагрузки. Число цепей предполагалось сократить вдвое в сравнении с бывшим мостом. В последующие годы— в 1921–1922 — появилось еще три проекта. И мне и авторам других проектов представлялась заманчивой идея восстановить мост, пользуясь старыми цепями. И все же пришлось отказаться от этой мысли. Все эти проекты, разработанные в предположении облегченных технических условий, были отвергнуты. Более того, я сам стал серьезным противником идеи, которая вначале казалась мне такой привлекательной.
Какие на это были причины?
Прежде всего вставал вопрос о металле, необходимом для строительства моста. Страна была еще очень бедна металлом. На юге действовала только одна енакиевская домна, потом вошло в строй еще несколько печей, но надеяться на получение нужных сортов стали для Цепного моста не приходилось. У государства имелись более срочные и неотложные нужды. Это понимали все. Часто, входя в чертежную института, я видел тревожно-вопросительные взгляды студентов. Они ведь хорошо знали, что не проходило месяца, чтобы я не побывал где-нибудь «наверху», не поднимал снова вопрос о строительстве моста.
— Может быть, мы работаем впустую, может быть, наши проекты не нужны? — спрашивал я. Меня успокаивали, ободряли, настойчиво советовали продолжать работу.
Вернувшись после такого очередного визита в институт и встретив вопросительные взгляды дипломантов, я молча отворачивался. А сам в такие минуты думал:
«Не теряют ли мои питомцы веру в то, что занимаются реальным делом? Не начинает ли им этот мост казаться навязчивой идеей упрямого профессора? Ведь сотня гвоздей еще так недавно стоила миллионы рублей, а тут потребуются тысячи тонн металла…»
Сторонники восстановления Цепного моста в его прежнем виде утверждали: металл есть, он лежит на дне Днепра, нужно его только поднять. Это — затонувшее после взрыва железо.
К тому времени удалось извлечь только сорок шесть тысяч пудов. Но главная его масса — сто тридцать тысяч пудов! — находилась под водой.
Для меня становилось все более очевидным, что извлечение его представляет очень трудную и дорогую работу. Задача усложнялась еще тем, что затонувшие части моста не представляли собой жесткой системы, которую можно поднять как одно целое. Металл пришлось бы сначала под водой резать на части и лишь потом извлекать на поверхность. В зависимости от капризов реки, от ледохода и паводков работы эти могли легко затянуться, и в годичный срок их не удалось бы закончить.
И, наконец, не было никакой уверенности в том, что успех этого предприятия обеспечен. В недавнем прошлом мы знали случаи, когда, несмотря на затрату солидных средств и на проведение большой подготовки, попытки извлечь из Волги и Аму-Дарьи даже жесткие фермы не увенчались удачей.
Короче говоря, вся эта затея мне представлялась более чем рискованной. Имелась еще и экономическая сторона дела. Работы по подъему и расклепке железа сами по себе очень дороги. При помощи водолазов было проведено обследование пригодности затонувшего железа. Оно дало весьма неутешительные результаты. Большая часть затонувшего железа сильно деформировалась и в дело пойти не могла. Достаточно сказать, что материал ферм жесткости можно было считать годным не более чем на одну треть и то лишь при возрождении моста в прежнем виде.
Поэтому для меня было очевидно, что из-за таких непомерных «отходов» стоимость пригодной части железа оказалась бы крайне высокой.
Но и это еще не все: мы подсчитали, что если постройку моста связать с извлечением железа, то срок проведения работ удлинится по крайней мере на семь-восемь месяцев. Ни одна из восстановительных организаций НКПС не располагала в то время столь мощными подъемными приспособлениями, чтобы вести эту работу одновременно в нескольких пролетах. Значит, пришлось бы вести ее в последовательном порядке, пролет за пролетом, а на каждый из них для подъемки и разборки железа ушло бы не менее двух с половиной месяцев. Отсюда следовал вывод: сборку всего пролетного строения не удастся закончить в один строительный сезон.
Шоссейными дорогами Украины и мостами на этих дорогах ведало специальное управление, которое сокращенно называлось «УкрУМТ». Под его началом находился и бывший Цепной мост через Днепр.
Мне не раз доводилось встречаться с начальником этого управления товарищем Щербиной. В начале 1923 года, в один из своих приездов в Киев, Щербина пригласил меня к себе. Лицо начальника было невозмутимо спокойным, но мне показалось, что в его глазах играют веселые искорки. Он в упор взглянул на меня.
— Насколько я понимаю, Евгений Оскарович, вы решительный противник восстановления Цепного моста в прежнем его виде?
— Самый непримиримый! И свои доводы считаю вполне обоснованными.
— Совершенно верно. Мы у себя в управлении также пришли к выводу, что надеяться на затонувшее железо — дело нереальное. Фантазия и больше ничего!
Я молча кивнул головой.
— Н-да. А с металлом все еще худо, — продолжал Щербина. — Мы стали немного богаче, но все привилегии — железнодорожным мостам.
Я пожал плечами. К чему же было вызывать меня и снова вселять надежду? Я сам проектировал в то время железнодорожные мосты и прекрасно знал, что металл отпускают в первую очередь для них.
— И все же, сдается мне, вам скоро придется засесть за проект моста, — лукаво улыбнулся Щербина. — Только…
— Строительство моста разрешено? — не дослушав, вскочил я с места и от волнения снял и снова надел очки.
— Только, — невозмутимо продолжал Щербина, нового металла нам все равно не дадут. Не дадут, не могут дать. Весь фокус в том, чтобы найти его самим. Да вы садитесь!
Но я уже потерял покой.
— Позвольте, — наконец проговорил я, — но ведь мы с вами не изготовляем металл?
— Увы… Но мы можем кое-что использовать и, на мой взгляд, удачно выйти из положения. — Начальник управления протянул мне несколько листков бумаги. — Просмотрите вот это и скажите свое мнение.
Как я уже упоминал, во время мировой войны на Днепре было построено семь деревянных стратегических мостов с железными судоходными пролетами. После окончания войны эти мосты разобрали. Бумаги, которые я сейчас просматривал, представляли собой опись железных двутавровых балок, оставшихся после разборки. В описи были названы прибрежные пункты на Днепре в районе Киева и ниже его, где хранились балки. Внизу стояла подпись подрядчика Виткевича, который заключил впоследствии договор с управлением на розыск этих балок и извлечение их из песка.
Щербина выжидательно смотрел на меня. Видимо, мое молчание начало беспокоить его.
— Что же вы на это скажете, Евгений Оскарович?
— По-моему, идея очень интересная. Насколько мне известно, постройка постоянных больших мостов из такого материала до сих пор не практиковалась. Интересно, очень интересно… И привлекательно. Нужно только крепко подумать, возможно ли это и как это сделать.
Начальник управления понимал, что вопрос слишком серьезен.
— Хорошо, не требую от вас немедленного ответа. Подумайте, уверуйте, так сказать, и тогда приходите. Хотелось бы, чтобы вы поддержали эту идею и не затянули с ответом. Добро?
Я, конечно, согласился.
Взволнованным вышел я на улицу. Прохожим приходилось сворачивать первыми, чтобы не столкнуться со мной. Я шагал, ничего не видя, погруженный в свои мысли. Значит, не напрасными были наши упорные труды! Мне вспомнилось, как еще совсем недавно один из профессоров института издевался над тем, что я верю в работу по восстановлению мостов. «Блеф», — сказал тогда этот пренеприятный тип. Нет, не блеф, почтенные господа! От учебных проектов шоссейного моста мы теперь перейдем к проектам настоящим, реальным.
Однако куда это меня занесло? Я удивленно огляделся вокруг. Киево-Печерская лавра… Ведь я решил направиться совсем в другую сторону, к Брест-Литовскому шоссе, чтобы скорее поделиться новостью со своими студентами, посоветоваться с ними, а ноги сами несли меня к Днепру, туда, куда влекли все мысли.
С вершины зеленой, изрезанной оврагами кручи я смотрел вниз на реку. Сколько раз я уже посещал это свое излюбленное место! Отсюда открывался взору широкий, казалось, бескрайный вид на Днепр, на необозримые голубые дали Левобережья, на горестные обломки Цепного моста.
Взбивая лопастями пену, мимо проплывали белоснежные пассажирские пароходы. Буксиры, издавая сиплые гудки, влекли за собой огромные плоты с игрушечными фанерными домиками или втягивали за собой в порт груженые баржи. Река жила своей шумной, веселой и хлопотливой жизнью. Гремя, проносились над ней поезда. И только шоссейный Цепной мост лежал на песчаном днепровском дне.
Не впервые представлял я себе четыре больших пролета, затонувших и занесенных до половины песком. Говорят, их можно поднять в целости. Но чем? Когда появятся у нас такие механизмы? А тащить их из воды примитивными кустарными средствами — невероятно долгая, тяжелая и опасная задача. И потом, кто поручится, что железо, исковерканное взрывом и падением, пролежав несколько лет в воде, может быть использовано? Теперь уже не хотелось больше думать об этом. Идея использовать двутавровые балки все больше нравилась мне. Отныне проектирование киевского шоссейного моста могло стать вполне реальным делом. Конечно, все это не просто. Я предвидел большие трудности при использовании двутавровых балок, но надеялся, что мы сумеем преодолеть их. Увлекала и необычность, новизна задачи. Чем труднее, тем интереснее!
Хруст ветки под чьей-то ногой заставил меня оторваться от моих мыслей. Выйдя из кустов, в нескольких шагах от меня остановился мой студент-дипломант Николай Галузинский.
— Здравствуйте, профессор, — смущенно проговорил он, — захотелось, знаете, немного поразмяться.
— Будет вам сочинять, — засмеялся я, — прекрасно знаю, что вас сюда привело. Заболели мостом, батенька, заболели. И не отрицайте!
— Заболел, — широко улыбнулся студент, и смущение его сразу исчезло.
— А заболели, так слушайте, молодой человек. — Я сел на большой камень и усадил юношу рядом с собой. — Помните, я как-то на лекции рассказывал о разборных стратегических мостах через Днепр?
Галузинский поспешно кивнул головой.
— А известно ли вам, где находятся железные балки, оставшиеся после разборки мостов? Неизвестно?
Нет, ему неизвестно было, где эти балки. Он даже невольно съежился под моим взглядом, словно был повинен в возможной пропаже этого добра.
— Так вот, лежат себе эти балки преспокойно на берегах Днепра и ждут, пока мы сообразим, как распорядиться ими для восстановления моста. Поняли что-нибудь?
— Да это же просто здорово! — простодушно выпалил студент. — Гора сама идет к Магомету, Евгений Оскарович. Значит, теперь есть мост?!
— Торопитесь, батенька, торопитесь, — охладил я его. — Пока еще будет мост, не одну неделю придется нам потрудиться.
— Ничего, теперь только задавайте нам работу!
В город мы вернулись вместе. Это был один из моих самых способных, знающих и толковых студентов. И когда его первое радостное возбуждение прошло, мы со всей основательностью обсудили, что может получиться из идеи использовать двутавровые балки. Я нарочно выдвигал всякие возражения и сомнения, и мы совместно разбивали их. В итоге получалось, что идея здравая, деловая и заслуживает поддержки. Потом этот разговор имел продолжение в институте, и на этот раз в нем уже участвовала большая группа студентов-выпускников. Все они единодушно высказывались за то, чтобы идею Щербины поддержать и составление проекта взять на себя.
Через два или три дня я снова вошел в кабинет Щербины.
— Я с ответом, — объявил я еще на пороге.
— Слушаю.
— Я всецело «за». Думаю, что с этим делом мы справимся.
— Вот и отлично! — просиял Щербина. — Довольно вам и вашим студентам работать, так сказать, в любительском порядке. Мы предлагаем вам заключить договор с управлением на проектирование нового шоссейного моста через Днепр, моста балочной системы. Что вы скажете на это?
— Мы готовы хоть сегодня приступить к работе.
Щербина протянул мне руку.
— Вместе будем драться за этот проект. Ну, поздравляю вас, Евгений Оскарович. Правительство дает нам средства, людей, механизмы, выделит заводы для изготовления пролетов. Остальное будет зависеть от нас самих, от нас с вами.
Прощаясь, мы пожали друг другу руки. Это крепкое; рукопожатие означало не только взаимное доверие, но и заключение прочного союза.
Итак, управление стояло за мост балочной системы. И все же борьба вокруг способа восстановления шоссейного моста продолжалась и принимала все более острый характер. Сторонники старого моста преобладали среди киевских инженеров-мостостроителей и архитекторов. Нас, противников восстановления моста в прежнем виде, было гораздо меньше. На протяжении последних двух лет мы тщательно изучили состояние Цепного моста до его разрушения и всю его историю. Убедившись в его ненадежности, мы окончательно пришли к выводу, что единственно правильным решением является постройка нового пролетного строения из имеющихся двутавровых балок.
Мы упорно защищали свою точку зрения потому, что были против вредного расточительства, против затягивания сроков постройки, против работы на авось и ненужного, ничем не оправданного риска. Наши соперники опирались на так называемые традиции, на привязанность к старине и опасались неизведанного пути, которым являлась постройка такого крупного моста из имеющегося под рукой готового материала. Правота была на нашей стороне. Но сторонники старого моста не сдавались. Они отвергали наше предложение, ссылаясь на то, что тогда придется отказаться от моста цепной системы, славящегося своей красотой, от исторического памятника, дорогого сердцу каждого киевлянина.
Мы, конечно, тоже были патриотами своего города, тоже дорожили красотой его сооружений, но не намеревались идеализировать старину только потому, что это старина.
Прежний Цепной мост имел весьма существенные недостатки, на которые никак нельзя было закрывать глаза и тем более незачем было повторять их сейчас при восстановлении моста.
В связи с этим мне вспоминается один любопытный эпизод этой борьбы. В 1923 году в кинотеатре Шанцера киевское научно-техническое общество устроило открытую дискуссию о способе восстановления бывшего Цепного моста, в которой принимали участие видные инженеры и техники двух группировок. Инженер Н. А. Прокофьев, ратовавший, как и большинство присутствующих, в особенности архитекторы, за восстановление моста в прежнем виде, демонстрировал фотографии моста до его разрушения, чтобы показать, насколько он был красив.
Этим он пытался соблазнить слушателей. Я в своем выступлении, между прочим, указал, что своей демонстрацией фото Прокофьев неправильно ориентировал аудиторию и ввел ее в заблуждение: «Фокус» заключался в том, что эти фото были сделаны задолго до того, как мост в 1898 году изуродовали капитальными переделками. Тогда полотно моста было значительно приподнято, и в двух средних пролетах цепи опустились ниже проезжей части. Это в большой степени обезобразило первоначальный, действительно красивый вид моста.
Получалось, что от былой красоты не так много осталось, а переделки, испортившие мост, все равно не обеспечивали нужд судоходства. Известны были случаи, когда пароходы не могли пройти под ним.
Мы провели все необходимые расчеты и убедились, что в случае восстановления Цепного моста в прежнем виде и теперь не удастся придать ему возвышение в 5,85 метра над горизонтом самых высоких вод, как это требовалось утвержденными техническими условиями.
Патриоты старого моста любовались его цепями. Но при этом они игнорировали прозаическую, но весьма существенную «деталь»: ненадежность неразрезной цепной системы. История трагической гибели моста в 1920 году, как ни странно, ничему не научила их. Между тем сравнительно слабого взрыва в одном или двух местах было достаточно, чтобы сразу уничтожить пять пролетов Цепного моста. На месте остался только один небольшой пролет у левого берега. Это грандиозное разрушение было вызвано ничтожными средствами, достаточными для разрыва цепей в одном или двух местах. Такое же полное крушение многопролетного моста цепной системы могло быть достигнуто разрушением хотя бы одного быка при взрыве или подмыве его основания.
Столь полюбившиеся некоторым инженерам цепи имели и другое уязвимое место. Заделка цепей в каменной кладке опор — слабое место и общий недостаток всех цепных мостов. Цепи бывшего киевского шоссейного моста были пропущены по каналам через толщу опор и проякорены посредством железных чек в ребристых чугунных плитах. В этих местах цепи сильно поржавели. Еще в 1911 году был возбужден вопрос о необходимости капитального ремонта заделки цепей моста. В 1914 году было решено над существующими удерживающими цепями устроить новые такие же цепи и заделать их концы в добавочные кладки. На это намечалось истратить 180 тысяч рублей золотом! Вскоре приступили к выполнению этих дорогих работ, но помешала война.
В случае сохранения цепной системы и для нового моста нельзя будет воспользоваться прежней заделкой цепей, придется сделать то, что не успели в 1915 году, а эти расходы составят одну седьмую полной стоимости моста! История моста показывает также, что его каменные быки причиняли много хлопот, неоднократно ремонтировались, но так и остались слабыми и сохранили много дефектов.
Нужно сказать, что в последние годы своей жизни Цепной мост в Киеве считался ненадежным и не удовлетворяющим условиям движения даже того времени. Об этом говорят те суровые ограничения и тот порядок, который был установлен для движения еще в 1913 году.
Из всего рассказанного мной читателю должно быть ясно, почему я и мои ученики так активно выступали против механического копирования старого моста. Выступали мы во всеоружии, оперируя большим количеством различных сделанных нами расчетов и исследований, а также выводов из заключений многих комиссий.
Опираясь на факты и расчеты, мы доказывали превосходство проекта восстановления моста балочной системы из имеющихся двутавровых балок и с разборкой каменных порталов на быках.
В чем же заключались основные преимущества нашего проекта?
Во-первых, удобство для судоходства. Без всякого затруднения можно было поднять пролетное строение на высоту над горизонтом высоких вод даже на 10 метров. Облегчение быков вследствие удаления каменных порталов. Затем сокращение сроков постройки моста, не связанной с извлечением затонувшего железа. Ведь удлинение срока постройки моста только на один год вызвало бы необходимость весь этот срок содержать слабый деревянный Наводницкий мост, что обошлось бы в 200 тысяч рублей! Далее — жесткость ферм большая, чем у цепной системы. Взрыв в одном из пролетов моста не вызвал бы падения ферм в остальных пролетах. Наконец мост балочной системы обошелся бы примерно на треть дешевле моста цепной системы.
Как обстояло дело с ссылками на красоту бывшего моста, я уже писал. Что же касается мысли восстановить его как исторический памятник, то невольно возникал следующий вопрос. Речь шла о постройке временного моста на пятнадцать лет. Какой же смысл восстанавливать «памятник» на столь краткий срок, по прошествии которого придется разрушить этот памятник? Если же мосту суждено будет простоять дольше, то, как уже говорилось, цепная система, не позволяющая поднять пролетное строение даже на 5,85 метра над горизонтом высоких вод, явилась бы на продолжительное время стеснительной для судоходства. Трудно было представить, чтобы киевский Цепной мост, считавшийся до его разрушения зыбким и слабым, после восстановления превратился в солидное и жесткое сооружение. Скорее следовало опасаться, что он сохранит и потом зыбкость, присущую цепной системе, и движение по мосту снова придется подвергнуть значительным ограничениям.
Сразу же после заключения договора с управлением мы приступили к работе. Если бы я взялся за дело один, создание рабочего проекта могло бы затянуться, а его нужно было выполнить в очень короткий срок. Кроме того, я считал работу над таким заданием необычайно полезной для моих питомцев из Киевского политехнического института. Они охотно отозвались на мое предложение, и вскоре была создана группа из пяти молодых инженеров — моих недавних учеников Г. М. Тубянского, Н. М. Галузинского, Г. М. Ковельмана, И. 3. Маракина и Дунаева и десятка студентов пятого курса Киевского политехнического института. Институт пошел нам навстречу и выделил для работы большую чертежную.
Окончательная схема нового моста получилась не сразу. Пришлось искать, пробовать разные пути, составить несколько эскизных проектов с различными системами ферм из двутавровых балок, например фермы консольной системы (Н. М. Галузинский), фермы с параллельными поясами и с усилением цепями (Г. М. Тубянский).
Эти проекты, составленные под моим руководством молодыми инженерами, посылались в научно-технический комитет НКПС. Мы надеялись, получив оттуда одобрение и практические советы, быстро завершить работу и передать окончательный рабочий проект заказчику.
Но все сложилось по-другому. Наши эскизные проекты были отвергнуты. В отделе пути наркомата возникла сильная оппозиция самой идее нашего проекта. Снова обсуждался вопрос о необходимости поднятия затонувшего железа и восстановления Цепного моста в прежнем его виде. Эту мысль, против которой мы в Киеве боролись больше двух лет, отстаивала теперь сильная группировка из нескольких работников НКПС, профессоров и архитекторов. Одна из мостовосстановительных организаций представила свой проект в этом духе и хотела взять на себя всю постройку.
Возникала угроза, что живое дело снова будет утоплено в дискуссиях и бесконечных спорах. Пока что так и получалось. Прошел 1923 год, начался 1924-й, а упорным и бесплодным спорам не видно было конца. Мы тяжело переживали все это. Нужно было найти какой-то выход, принять решительные меры.
Как-то в феврале 1924 года я поделился своими невеселыми мыслями с женой, обрисовал ей всю картину. Возникал какой-то замкнутый круг: одержали верх над своими противниками в Киеве, работали, трудились, создали, наконец, нечто реальное, и вот снова оказались у разбитого корыта.
— Что же ты думаешь дальше? С кем можно посоветоваться? — спросила Наталья Викторовна.
— Есть у меня одна мысль. Хочу сходить в губисполком.
— В губисполком? — удивленно переспросила жена. — А что от него зависит?
— Попытка не пытка. Может быть, и зависит что-нибудь. Знаешь что? Не буду откладывать, сейчас прямо и отправлюсь туда.
— Но о чем ты там будешь говорить?
— Расскажу все как есть, да они и сами почти всю эту историю знают. Попрошу их вмешаться со всей энергией и положить конец этой канители. Что ты скажешь?
— Иди, — коротко ответила Наталья Викторовна.
Я вышел из дому с твердым решением привести в исполнение свой план. Да, это правильный шаг!
Но на улице мной снова овладели сомнения. Они родились еще в ту минуту, когда в голову впервые пришла мысль об этом визите, и то исчезали, то возникали с новой силой. Как там расценят мое появление? Принято ли это? Ведь я не только беспартийный, но еще и старый «спец». И не усмотрят ли в моем шаге желание выслужиться, обратить на себя внимание? Это было бы для меня весьма неприятно.
Правда, мне уже не раз приходилось встречаться с коммунистами в управлении шоссейных дорог, в железнодорожных организациях, наконец были они и среди моих студентов. Но общался я с ними, как правило, так сказать, по долгу службы. А сейчас я иду по своей инициативе, иду жаловаться на транспортные верхушки. Может быть, это даже неприлично по их понятиям?
— При чем тут приличие?! — тут же ожесточился я против самого себя. — А когда больше чем полгода маринуют наш проект и пытаются его провалить — это прилично?
Перед большим серым домом с таблицами на русском и украинском языках я остановился в нерешительности. Но в ту же минуту широкая массивная дверь дома растворилась и пропустила на улицу несколько молодых людей.
Вот так сюрприз!
Это были мои ученики, члены партийной ячейки. После смерти Владимира Ильича Ленина и после ленинского призыва в партию коммунистов стало в институте вдвое больше. Я нисколько не сомневался: они заметили меня, но дипломатически притворились, что не узнали. Очень может быть, что они приходили сюда за тем же, за чем направлялся и я. Чувствуя на своей спине их пытливые взгляды, я поспешно взялся за медную ручку двери.
В губисполкоме меня принял один из его ответственных работников.
— Давно ждем вашего визита, — сказал он, здороваясь со мной.
Я подготовил себя к чему угодно, но только не к такой фразе. И от этих простых сердечных слов мне сразу показалось, что рядом со мной старый добрый знакомый, которому должны быть близки все мои волнения.
— Если вы ждали меня, то вам, наверное, понятна и цель моего посещения, — начал я. — Позвольте сразу перейти к делу. Как вы хорошо знаете, мы предлагаем строить шоссейный мост через Днепр из того, что у нас есть сейчас под руками. Ждать нового металла пришлось бы слишком долго, он больше нужен для других целей. Как видите, мы подходим к делу практически.
Хозяин кабинета одобрительно кивнул головой.
— Может быть, и даже наверное, — продолжал я, — наш мост не получится таким красивым, как хотелось бы, зато уже к будущему паводку можно будет справиться с постройкой.
А сам подумал: «Не слишком ли скупо я обрисовал суть дела?»
— А хватит ли этих балок?
— Наши студенты вместе с подрядчиком Виткевичем побывали на месте и составили тщательную опись. Взята на учет каждая балка. Хватит с избытком.
— Но если я не ошибаюсь, — наклонился ко мне работник исполкома, — двутавровые балки по своему профилю не совсем удобны для соединения в узлах?
Я с нескрываемым удивлением взглянул на собеседника. Однако он кое-что смыслит в мостостроении и сразу нащупывает слабые места!
— Мы подумали и об этом, — быстро отозвался я. — Правда, подобную задачу приходится решать впервые. Балки мы соединим шарнирами, — и, опережая возражения, я сам поставил вопрос. — Вы скажете, для этого нужен металл. Но мы ничего не просим, шарниры можно изготовить из старых вагонных осей.
Мой собеседник удовлетворенно откинулся в кресле, словно с его плеч сняли большую тяжесть.
— Прекрасно. Почему же все-таки на вас нападают некоторые товарищи из наркомата?
В этом человеке я интуитивно уже чувствовал союзника, но союзника такого, который все же не хочет доверяться одной лишь симпатии к идее и первым впечатлениям.
— Посудите сами. Они, как и их киевские единомышленники, предлагают поднять исковерканное железо, со дна реки и восстановить мост в прежнем виде. Внешне соблазнительно? Но эти наши критики витают в облаках. Резать на куски затонувшее железо? Это значит, сдать его на слом. А в целости поднять части моста невозможно. Отсюда вывод…
— На бумаге красиво, на деле — мыльный пузырь?
— Вот именно! Странно, однако, вы — не мостовик, а понимаете.
— А нам, большевикам, дорогой Евгений Оскарович, все полагается понимать. Вот и учимся понимать. Кстати, сколько длится эта канитель с утверждением проекта? Восемь месяцев? Нет, такой роскоши мы себе не можем позволить.
Он помолчал.
— А знаете, профессор, в одном они все-таки правы, ваши критики. Скучновато как-то выглядят ваши фермы, монотонно. Нельзя ли сделать их изящнее, как этого требует архитектор Щусев? Хотелось бы, чтобы мост радовал глаз. А? Народ наш заслужил это.
Я сознавал, что упрек, высказанный в такой мягкой форме, справедлив. Неловко было в этом сознаться, но амбиция — не в моем характере.
— Должен покаяться, это наше слабое место. Но пусть только нам скажут «да», а красоту мы уже наведем!
Я поднялся.
— Что же вы мне скажете на прощанье?
— Еще раз от души поблагодарю за то, что поверили в нас и пришли, и пожелаю отработать проект так, чтобы ни один ученый комар носа не подточил.
В дверях я задержался:
— А как же все-таки?..
— Позвольте нам вместе с губкомом партии еще подумать, посоветоваться, все взвесить. Даете нам такую возможность?
Я невольно засмеялся от такой перемены ролей.
Возвращаясь домой, я напряженно размышлял. Почему во мне все словно поет? Что, собственно, случилось? Меня внимательно выслушали, проявили интерес и понимание, даже явное сочувствие, а в сущности ничего не обещали. Но меня не обманывала внешняя сдержанность и скупость высказываний. Глаза коммуниста, с которым я беседовал, выражали гораздо больше, чем его слова. И это замечание о внешнем виде моста. «Народ заслужил!»
Поднимаясь по лестнице к своей квартире, я заранее предвкушал эффект, который произведет мой рассказ.
— Ну, Наташа, побывал я в губисполкоме у одного славного человека.
— Ну и что?
— За час стал старым знакомым.
Наталья Викторовна так взглянула на меня, словно я сообщил ей, что в бушевавшую за окнами февральскую метель зацвели деревья в институтском парке.
— Может, ты и в коммунисты там записался?
— Как раз наоборот, он — в мостовики.
Я невольно рассмеялся, взглянув на изумленное лицо жены, и подробно рассказал ей о своем визите. Потом, через много лет, она призналась, что тогда особым чутьем, которое присуще только близким людям, поняла, что случилось нечто очень важное во всей моей жизни и что тут дело не только в судьбе Цепного моста.
…В мае этого же 1924 года меня пригласили в губисполком. Чтобы не испытать потом разочарования, я готовил себя к самому худшему. Ведь наши противники упорно добиваются своего и до сих пор не сдаются. Неужели последнее слово останется за ними?
С острой тревогой в сердце входил я в уже знакомое здание.
Мне сразу же предложили ознакомиться с одним документом. Я начал читать и мгновенно просиял. Это было постановление губисполкома и губкома партии. Городские организации в самой категорической форме настаивали на том, чтобы мост восстанавливался по нашему проекту и чтобы строительство началось безотлагательно.
— Ну, а что же наши противники? — только и спросил я.
Передо мною положили другую бумагу. Авторитетные правительственные органы признают правильным мнение губисполкома и губкома партии и одобряют их решение.
Итак, ожесточенный спор, на который ушло столько времени, был закончен в нашу пользу, а главное — в интересах дела.
Это был полный успех!
— Ну что, довольны, Евгений Оскарович? — спросили меня. — Теперь соединим днепровские берега, город и село?
Мне захотелось быть чистосердечным до конца:
— Я нашел союзников не совсем там, где ожидал когда-то.
— Знаем. А мы вот там, где ожидали. Теперь — самый важный вопрос: кому же поручить изготовление пролетных строений?
Я, конечно, давно был готов к этому вопросу.
— Выбирать не из чего. Мостовому заводу в Екатеринославе.
— Н-да… Возить туда балки, потом обратно готовые элементы? И далеко от нашего глаза.
Ничего не поделаешь.
— А что, если поручить это дело Киеву?
С этим я никак не мог согласиться.
— Когда же на киевских заводах строили мосты, да еще такие?
Удар был тотчас же отпарирован:
— А пытался ли кто-либо в прошлом строить постоянные мосты из таких вот балок?
Я настаивал на своем:
— К сожалению, ничего не выйдет. Спросите у заводов, они вам сами скажут.
— Уже сказали. Делегации «Арсенала», «Большевика» и «Ленкузницы» побывали у нас и в губкоме и объявили, что этого заказа из города не выпустят. Киевский мост должен родиться в Киеве — так говорят рабочие и инженеры. Для них это не просто очередной заказ. А что скажет автор проекта?
Автор проекта угрюмо молчал. Эта идея казалась мне. благородной, патриотической, но технически более чем рискованной.
Я не хотел и не мог лукавить:
— Простите меня, вы верите в них, в наших киевлян?
— Мы — да. И всем сердцем. А вы?
— Не знаю, не знаю, — пробурчал я.
Праздник был явно, испорчен. Только что я видел
себя у цели и вдруг такие осложнения…
5. ЭТО СДЕЛАЛ НАРОД
В декабре 1924 года я возвращался однажды вечером с «Ленинской кузницы». Выходил я с завода вместе с Николаем Марцелловичем Галузинским, моим бывшим студентом, тем самым, с которым мы еще так недавно вместе с днепровской кручи смотрели на обломки Цепного моста и строили планы. Теперь он уже был главным конструктором завода.
Мы шли в толпе рабочих, только что закончивших смену. Двое из них громко разговаривали между собой о будущем мосте. Я и Галузинский невольно прислушались. Рабочие с тревогой говорили о том, что, судя по обильному снегу, паводок на Днепре в этом году обещает быть ранним и бурным, чтобы до его начала успеть убрать подмости, надо поспешить с клепкой ферм.
Этот разговор поразил нас: ведь о том же самом только что говорили и мы с Николаем Марцелловичем. Я еще раз взглянул на рабочих: может быть, это инженеры, которых я не узнал в спецовках? Нет, Галузинский подтвердил, что это рядовые клепальщики из котельного цеха.
Этот нечаянно подслушанный разговор заставил меня вспомнить все, что произошло за последние месяцы. Тогда, в мае, я ушел из губисполкома основательно растерянным. На душе у меня было неспокойно. Через несколько дней я узнал, что заказ вопреки моим сомнениям действительно передается киевским заводам. По плечу ли им такая задача, а если да, то сколько им понадобится времени, чтобы справиться с ней? Ведь мост будет подвергнут самым серьезным испытаниям. И вот его судьба в руках заводов, не имеющих никакого опыта в мостостроении.
В начале июня я получил задание в весьма жесткий срок — в два месяца — составить окончательный рабочий проект моста. К августу он был готов. Требование о том, чтобы уделить больше внимания внешнему виду моста, заставило всех моих учеников и помощников — молодых инженеров и студентов-дипломантов — полностью развернуть свои силы и способности. Николай Марцеллович Галузинский еще в качестве дипломного проекта представил свой вариант моста с фермами консольной системы из двутавровых балок. В исполнительном же проекте Галузинский участвовал в расчете ферм, конструировал их шарнирные узлы, рассчитывал и конструировал проезжую часть. Михаил Тихонович Казючиц рассчитал и сконструировал изящные полурамы моста в местах сопряжения цепного пояса с верхним поясом балочных ферм. Григорий Маркович Ковельман участвовал в расчете неразрезных ферм. Этим же занимался и Иван Зиновьевич Маракин. Все мы работали дружно, не считаясь ни с временем, ни с тем, кому какую долю труда приходится вложить в общее дело. Для выполнения второстепенных работ много потрудились десять студентов Киевского политехнического института. Это была для них большая школа перед выходом в жизнь.
Тем временем создавалось управление по постройке моста. Начальником был назначен Петр Владимирович Березин, а я — главным консультантом. Было решено пролетные строения изготовлять в Киеве, по два пролета на каждом заводе. Завод «Большевик» получил заказ на два малых береговых пролета по 36 метров, заводы «Арсенал» и «Ленинская кузница» — каждый на два больших пролета по 143 метра. Никаких скидок на неопытность не давалось: к февралю будущего года пролетное строение должно быть на месте.
Я очень волновался: срок суровый даже для настоящих мостостроительных заводов. Он был продиктован необходимостью убрать с реки сборочные подмости до наступления весеннего ледохода. Нравятся ли мне эти заводы или нет, но раз так случилось, киевляне должны справиться с задачей. И я решил, что место консультанта прежде всего на заводах, а уж потом в управлении.
С начальником строительства, инженером Березиным, мы быстро нашли общий язык. Это был мой старый знакомый, опытный, знающий инженер, который в 1896 году строил железную дорогу
Пермь — Котлас. Березин был, так сказать, потомственным строителем мостов. Его отец известен как строитель первого крупного моста через Волгу в Сызрани.
Не без смущения входил я впервые в кабинеты директоров киевских заводов. Эти заводы раньше принадлежали иностранным фирмам, и директорами там были маститые инженеры.
Кого я застану сейчас на их местах?
Вначале мне показалось, что мои опасения оправдались: в директорских креслах сидели выдвиженцы, вчерашние рабочие. О чем и как с ними говорить? Но они сумели сразу упростить мою задачу: повели меня в цехи. Там, услышав, что пришел автор проекта, нас немедленно обступили люди. К моему удивлению, оказалось, что они уже многое знают о мосте. Срок не пугал их, они даже обещали опередить другие предприятия. Новизна дела также не смущала рабочих, они надеялись на свою смекалку, на свой опыт и на знания мастеров и инженеров.
— Не беспокойтесь, профессор, рабочий класс не подкачает, не подведет, — со всей солидностью сказал мне один старый котельщик-«глухарь» с «Ленинской кузницы», — не на капиталистов работаем. Верно, ребята?
«Ребята», к которым он обращался, были такие же старики, наполовину потерявшие слух от грохота клепальных молотков.
— Сделаем мост как картинку, — ответил за всех один из них.
С тех пор я стал своим человеком на заводах. Меня уже знали в цехах и звали из одного отделения в другое, чтобы получить тот или иной совет. Если я не бывал где-нибудь неделю, старики справлялись о моем здоровье.
— Ну, как там, подмости готовы? — останавливали меня рабочие, встретив в цехе, на заводском дворе или даже на улице.
— Как там на берегу? Хватит ли кранов?
Их все касалось, все интересовало.
Скорость клепки ферм нарастала. Каждый завод ревниво следил за другим; стоило мне сказать, что соседи «поворачиваются быстрее», как у спрашивающего загорались глаза, и он скорее отходил к своему рабочему месту.
Не только тех рабочих, чей разговор я подслушал в толпе, но и всех остальных волновал предстоящий весенний ледоход. Надо было во что бы то ни стало опередить его, иначе подмости разнесет в щепы, и тогда считай год пропавшим. Больше того, вместе с подмостями ледоход мог снести и часть моста. Трудовое воодушевление охватило и рабочих, и мастеров, и инженеров, непосредственно руководивших изготовлением пролетных строений. Чтобы ускорить изготовление ферм, на заводах, по
предложению рабочих и инженеров, специально переделали или приспособили многие станки.
В феврале все работы на заводах должны были быть закончены. Я привык на плакатах читать призывы к мировой революции или другие политические лозунги, но в те дни на этих заводах на всех плакатах я встречал слово — февраль.
Нелегко было признаться самому себе в том, что я до сих пор так плохо знал наших простых людей, но вместе с тем и приятно было сознавать, что прежние мои взгляды оказались ошибочными.
В городских организациях не напоминали о моем недавнем упорстве: там знали, что половину своего времени я провожу на заводах.
На 10 июня 1925 года было назначено торжественное открытие нового моста.
В напряженной обстановке прошел монтаж. В нем участвовала 1-я восстановительная организация НКПС во главе с инженером Александром Федоровичем Эндимионовым и 3-я мостовая восстановительная организация НКПС во главе с инженером Иваном Даниловичем Гордиенко.
Угроза предстоящего ледохода подстегивала монтажников и заставляла их торопиться изо всех сил.
Работы по сборке моста были выполнены добросовестно и в срок, без всяких скидок на «условия». Все, от начальника строительства до рядового клепальщика, знали, что испытания будут проведены с повышенной строгостью, но ожидали их с полным спокойствием. Вскоре мост подвергся суровым испытаниям на всевозможные нагрузки и выдержал их с честью. Трудно сказать, кто радовался тогда больше — автор проекта, монтажники или рабочие киевских заводов. Это была взаимная проверка и общая победа.
И вот наступил день торжественного открытия. Я ожидал от него многого.
Но только приехав с женой и двумя сыновьями на место, я понял все значение предстоящего торжества.
По моим проектам в прошлом было построено немало мостов в России. Но их открытие всегда было частным делом нескольких человек: создателя проекта, подрядчика, местных железнодорожных или земских властей. Иногда заказчик устраивал банкет для знатных гостей, иногда обходилось и без этого.
И вдруг я увидел нечто для меня совершенно непривычное.
К мосту, увитому гирляндами зелени и красными полотнищами, с Печерска, с Подола, с Шулявки, с Куреневки, со всех концов Киева стекались тысячи людей. Шли заводы, учреждения, шли строем, с развернутыми знаменами и гремящими оркестрами. Матери несли на руках детей, то тут, то там возникали песни. Наиболее почетное место у самого моста было отведено тем, кто в невиданно короткий срок создал это прекрасное сооружение — новым моим знакомым и товарищам по работе — людям «Ленкузницы», «Арсенала», «Большевика» и строителям-монтажникам, обогнавшим самое время. Это показалось мне вполне естественным. Они были главными виновниками торжества, они знали, что немало скептиков пророчили им провал, и по праву праздновали сегодня свою победу. Рядом с заводскими инженерами Галузинским, Кукушкиным, Бухариным, Петровым, Алексиным стояли инженеры-монтажники Эндимионов, Гордиенко, Ванденмайер, Штейн, Рута и другие.
Впервые за пятьдесят пять лет жизни я видел подобное зрелище.
Местность, прилегающая к мосту, заполнялась все растущей огромной толпой киевлян. Сюда же вливались новые и новые колонны крестьян с левого берега Днепра, со стороны Слободки. Из ближних и дальних сел по собственному почину пришли они сюда, чтобы поздравить своих заводских товарищей. Я часто читал в газетах о смычке города и села. И только сейчас, пожалуй впервые, эти слова приобрели для меня вполне реальный, конкретный смысл.
Я смотрел то на делегатов Левобережья, то на разукрашенный нарядный мост, то на днепровские кручи, где разместились с удобством тысячи людей в ожидании начала церемониала, и сам спрашивал себя:
— Когда еще это могло быть?
Среди празднично одетых киевлян — многие пришли сюда, как и я, целыми семьями, с женами, детьми, стариками, — среди сиявших вокруг лиц, в этой новой и неожиданной для меня обстановке общего душевного подъема, я совсем по-другому, чем в былые годы, ощутил значение своего труда.
Когда-то все, что я делал, было все же моим, сугубо личным, так сказать, внутренним делом. Теперь я видел, как мои идеи, проекты, мысли незаметно для меня самого стали частью того, чем живет весь народ. Здесь, над Днепром, я еще яснее понял, что для десятков тысяч людей, заполнивших набережную, облепивших крутые склоны, это был не просто мост, нет! Они построили его собственными руками, на не приспособленных для этого заводах, на свои кровные средства, без иностранных «советников» и взаимодавцев. И это было для них великой проверкой своих творческих сил, своего умения, своей зрелости.
Ровно пять лет тому назад, 10 июня 1920 года, на этих же днепровских склонах Киев встречал своих освободителей — красноармейцев, с боем переправлявшихся через Днепр по шатким понтонам. Тогда гремели оркестры в честь героев фронта, сегодня — в честь героев труда. И вот над водой повис красавец мост длиной в три четверти версты, наглядное, материальное воплощение того, что может сделать освобожденный труд.
И не только эта гигантская махина, даже маленькие вагончики мототрамвая, которые пять лет ржавели в парке, а сегодня с громкими гудками катились с Подола к мосту, радовали сердца киевлян. В те дни и восстановление трамвайной линии считалось большим успехом. Когда-то, до революции, собственниками трамвайного общества была кучка дельцов. Сегодня владельцами и «акционерами» стали эти тысячи людей, обступившие со всех сторон новенькие, сияющие краской вагоны.
С тех пор прошло более четверти века, и я, конечно, не помню, что дословно говорили ораторы на митинге. Забылись слова, но смысл этих речей память сохранила надолго.
Выступали представители правительства, городских организаций, профсоюзов, управления дорог, командиры Красной Армии, рабочие киевских заводов, крестьяне Левобережья. Выступали люди разных профессий, разных возрастов, разного жизненного опыта, но мысли у всех были общие.
— Сегодняшний праздник показывает, — говорили они, — что мы умеем побеждать не только на военных, но и на трудовых фронтах.
— Такие успехи, как восстановление нашего моста, — только начало, рабочий класс доказал, что он способен строить без буржуазии,
— Впереди гигантские работы, которые изменят все лицо страны, всю ее жизнь. Пусть бесится и неистовствует буржуазный мир. Каждая такая победа укрепляет нашу веру в то, что во главе с Коммунистической партией мы одолеем любые трудности.
Но мне особенно дороги были слова о том, что люди науки работали для восстановления моста не за страх, а за совесть. Рядовые рабочие говорили, что «смычка труда и науки» сделает страну еще более крепкой, что «интеллигенция все более втягивается в прочный союз рабочих и крестьян». Впервые я видел, чтобы моему труду придавали столь важное значение не только специалисты, но и простые люди. До сих пор я считал, что, как инженер, лишь помогал восстанавливать мост, а вот оказалось, что другие видят в этом гораздо более глубокий смысл, чем я сам.
Когда мне предоставили слово, я основательно растерялся. Меня встретили овацией. От такого приема мое волнение только усилилось. Для меня всегда было мучительным делом высказываться за банкетным столом или на каком-либо официальном юбилее. А теперь приходилось говорить перед огромным митингом. Эти люди доверили мне свое кровное дело и так сердечно оценили то, что я одним из первых в моей среде пришел к ним, пришел с открытым сердцем. Волнение мешало говорить, но мои мысли, видимо, были дороги всем, и люди слушали меня внимательно. Я говорил о значении моста, о том, что своими успехами мы обязаны тесному единению всех участников стройки, от большого до малого. Кто справился сегодня с подобной задачей, тому по плечу в будущем и более сложные дела.
Потом я увлекся, слова полились свободнее, щедрее, и я почувствовал себя словно на кафедре в еще не виданном университете, в аудитории без стен и потолка, в университете, где я не столько профессор, педагог; сколько ученик. У меня и у моих слушателей один учитель — новая жизнь, еще не во всем понятная мне, но уже близкая своим стремительным движением, размахом, целеустремленностью.
Когда после митинга под звуки Интернационала была перерезана красная лента, на мост под оглушительное «ура» хлынула человеческая лавина. Один за другим на мост вкатились мототрамваи. На одном из них, рядом с вожатым, попросили стать меня. Этот простой знак внимания тронул меня до глубины души. Так не поступают с наемниками, труд которых оценивают только деньгами. И я, забыв о своей обычной сдержанности, вместе с сотнями других махал рукой людям, которые шли и бежали рядом с трамваями или устремлялись навстречу нам с противоположного берега Днепра.
В тот день, когда был торжественно открыт новый шоссейный мост в Киеве, я очень многое передумал. Труд всегда был самым главным в моей жизни. Я и прежде не мыслил себя вне труда, но это был труд одиночки, без полного внутреннего удовлетворения. Теперь не только умом, — всем сердцем я ощутил, что мой личный труд сливается с трудом миллионов.
Сама жизнь брала меня за руку и выводила на большую дорогу.
6. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
Страна переживала восстановительный период. Казалось, сам воздух в эти годы был насыщен молодой, кипучей энергией. Мы, люди старшего поколения, старые специалисты, честно работавшие вместе со своим народом, учились радоваться событиям, которые раньше близко не задевали нас, не входили в нашу личную жизнь. Задуто несколько новых домен — праздник! Возвращен к жизни еще один мартеновский цех — кажется, что ты сам стал богаче! Из шахт Донбасса, еще недавно затопленных и разрушенных, все больше и больше черного золота доставляется во все концы страны — радуешься, словно в твоих собственных жилах быстрее начала струиться кровь!
Над десятками возрожденных заводов и фабрик из труб вились к небу дымки жизни.
Все это происходило несравненно быстрее и в гораздо больших масштабах, чем я мог ожидать. То, на что я в своих мыслях отводил, скажем, десятилетия, свершилось за три-четыре года. Смешными и жалкими казались мне теперь гадания и пророчества старого буржуазного мира, уже не раз предвещавшего быстрое и неизбежное перерождение, а затем и крах советской власти. Людей вроде меня в том лагере злобно называли «предателями». Что ж, ярость и ненависть врага — лучшее подтверждение того, что ты на правильном пути…
Мой возраст приближался уже к шестидесяти, но никогда еще я не ощущал в себе столько молодых сил. Я уже вылез из своей «профессорской» скорлупы и теперь не только не прятался от жизни, но пуще всего боялся другого — отстать от нее. Признаться, иногда я сам не узнавал себя. Когда мы восстанавливали Цепной мост, к нам на помощь приехали строители из Сызрани и с Иртыша. Теперь мне хотелось если не лично, то хотя бы своими проектами, книгами и через труды своих учеников «дотянуться» до самых отдаленных уголков советской земли.
Это чувство и определило весь характер моих занятий со студентами-дипломантами в Киевском политехническом институте. Мы жили в это время одними общими интересами. И самым главным из них было стремление помочь стране как можно скорее залечить свои раны. Сама жизнь подсказывала, диктовала темы для дипломных проектов. Студенты очень дорожили возможностью работать не вообще, а для самых жгучих, неотложных потребностей Родины. К тому же сейчас, как никогда, смелым пытливым умам открывался простор для дерзаний. Я видел этот порыв, наводил мысль своих питомцев на то, чтобы изыскивать различные, наиболее практичные способы проектирования новых мостов и восстановления старых, взорванных. Я внушал студентам, что идея просто красивая, остроумная сама по себе, но лишенная практической ценности, годится только для умственных упражнений, а не для деловой помощи, которую ожидают от нас строители.
Все это была важная и нужная работа. Особый счет нам предъявляли восстановители разрушенных мостов.
За несколько лет мы накопили в дипломных проектах богатейший и очень интересный для нас материал. Помню, что особенно оригинальными были два детально разработанных проекта мощных подъемников. Их практический смысл был бесспорен. С помощью этих фермоподъемников взорванные пролетные строения мостов поднимались на прежнюю высоту. А таких мостов в то время в стране было еще немало.
Было бы преступно держать под спудом собранный материал, не обработать, не обнародовать. Мы засели за работу и довели ее до конца, несмотря на все трудности и сложность задачи, в сравнительно короткий срок. Транспорт получил обширное трехтомное руководство по восстановлению взорванных мостов. Этим я в большой мере обязан моим сотрудникам — инженерам А. А. Московенко, Г. М. Тубянскому, В. Н. Тацитову, А. М. Дамскому, В. Г. Леонтовичу, В. Н. Ярину, Н. И. Галко, А. И. Гончаревичу, Н. Д. Жудину и другим. Большинство из них — мои недавние ученики. В составлении многих чертежей для атласа активно участвовали студенты Киевского политехнического института, работавшие с полной самоотверженностью и за более чем скромное вознаграждение. Из числа этих студентов назову Казючица, Манасевича, Герасимова, Полухтовича, Дунаева, Яцыну, Кильчинского, Линовича, Новосельского, Бондаренко, Трея, Шолохова, Сучкова, Телуха, Нешта и Эрлиха. Каждая из этих фамилий вызывает у меня в памяти воспоминания о молодых людях, для которых мостостроение было не случайно избранной профессией, а настоящим жизненным призванием. Многие из них сейчас сами ведают кафедрами в высших учебных заведениях, передают свой опыт и знания молодому поколению. В этой преемственности — неиссякаемая сила жизни.
Скажу попутно: я всегда любил работать с молодежью, свободной от косности и рутинерства, часто свойственных так называемым признанным специалистам тех времен. На протяжении десятков лет моими неизменными помощниками в работе над проектами и соавторами учебников были студенты и молодые инженеры. С каждым годом разница в возрасте между нами увеличивалась: я старился, а в чертежных и аудиториях все так же цвела и бурлила молодость. В молодежи меня всегда привлекали ее любовь к труду, искание новых, еще не изведанных путей, готовность дерзать и смело рисковать.
Но вернемся к трехтомному руководству, о котором я начал рассказывать.
Работая над ним, я и на этот раз следовал своему старому испытанному правилу — не полагаться только на себя, на свой опыт, на свои знания. В руководстве был обобщен опыт многих бывших и нынешних моих студентов-дипломантов, сюда вошло все ценное из того, что я отыскал при изучении архивов управления Юго-Западных железных дорог, строительных организаций, железнодорожных батальонов. В том, что сделали они, я часто находил отражение и развитие своих идей, но уже проверенных жизнью, реализованных. Да, жизнь учила, что только при таком взаимном обогащении возможно дальнейшее развитие любой отрасли техники.
На той же основе родились и другие мои труды того периода: «Разборные железные мосты», новое расширенное издание таблиц для расчета мостов, пособие для составления эскизных проектов мостов с атласом чертежей каменных устоев и быков и другие. Я считал недопустимым переиздавать свои старые книги, не оглядываясь на то, как за это время ушли вперед и жизнь и наука. Поэтому, выпуская совместно с моим талантливым и любимым учеником Б. Н. Горбуновым новое издание курса «Железных мостов», мы не только расширили его, но основательно переработали в нем все изжитое, устаревшее и обогатили всем новым и передовым.
В дореволюционное время при проектировании мостов основное внимание уделяли прочности мостовых конструкций и не задумывались над трудоемкостью и условиями изготовления этих конструкций на заводе. Удобство клепки узлов, упрощение их сборки на заводе и затем на монтаже не интересовали проектировщика. Между тем неудачное расположение монтажных стыков, неудобные заклепочные соединения в узлах значительно затрудняли и удорожали производство. К чему это приводило на практике, можно показать на следующем типичном случае. На Сибирской железной дороге во время сильных морозов строился большой мост через Енисей. Постановка некоторых заклепок в опорных узлах ферм была связана с большими трудностями. Рабочий с поддержкой вынужден был пролезать через узкий люк внутрь узловой коробки, закрытой со всех сторон. В ней было настолько тесно, что рабочему приходилось сбрасывать с себя всю теплую одежду. На дворе стоял свирепый мороз, и чтобы рабочий не коченел, пока продолжалась клепка, его поили водкой.
С такими варварскими методами труда, с таким пренебрежением к человеку, граничащим с преступлением, надо было покончить. И в новом изданий нашего курса железных мостов мы излагали и отстаивали совершенно новый метод рационального проектирования, основанный на разложении мостовых конструкций на укрупненные монтажные элементы, полностью изготовляемые на заводе. В результате постройка моста могла теперь обойтись дешевле и требовала значительно меньше времени. Превосходство этого нового метода сразу же стало настолько очевидным, что он быстро завоевал признание и, как говорится, вошел в жизнь. Его горячо приветствовали рабочие. И это понятно: труд их намного облегчался и упрощался. А мы с радостью сознавали, что наш учебник сыграл не последнюю роль в утверждении и победе передового метода. Он распространился не только на практике, но и в студенческих дипломных работах и в нашем и в других институтах.
Я добивался всеми возможными способами, чтобы для моих студентов создание проекта будущего моста представлялось не отвлеченной умозрительной задачей, а чтобы они уже сейчас, в годы учения, умели видеть мост в работе, в действии, под разной нагрузкой, чтобы имели наглядное представление о разных системах ферм, различных видах балок. С этой целью я, в частности, построил для своей кафедры мостов в Киевском политехническом институте крупную модель моста для экспериментального изучения разных вопросов. Две стальные фермы этой модели имели пролет в 15 метров, рассчитана она была на стотонный груз, приложенный посредине пролета. Модель была так сконструирована, что имелась возможность измерять напряжения и деформации при любом положении нагрузки, создавать различные системы решеток ферм, а соединения поперечных балок с фермами делать самыми разнообразными.
Без преувеличения могу сказать, что мысль создать эту, необычную в институтской практике, модель была счастливой мыслью. Знания студентов стали более прочными и глубокими, и, готовя свой дипломный проект моста, они не раз и не два проверяли свои идеи и расчеты на этой модели и, как у нас шутя говорили, часто «советовались с ней». А многочисленные измерения, проведенные на модели студентами, помогли уяснить много важных тем и технических вопросов, важных для науки и для практики.
Молодая Советская республика все заметнее набирала силы, все смелее шагала вперед. Чтобы почувствовать это, стоило взглянуть хотя бы на строительство мостов. Только у нас на Днепре, в районе Киева, хватало работы для моей кафедры, для всех наших дипломантов. В период с 1925 по 1927 год в Киеве на очереди стоял вопрос о новых мостах через Днепр, как железнодорожных, так и гужевых. Допоздна кипела работа у нас в чертежной. Здесь студенты вместе со мной решали сложные задачи. В два-три года мы спроектировали ряд вариантов городского моста от Почтовой площади около пароходных пристаней на Труханов остров и другие.
Но мы не довольствовались работой только на «свой» Днепр и старались принять активное участие в строительстве мостов и в других концах страны. Когда в Нижнем Новгороде был объявлен конкурс на составление проекта большого городского моста через Оку, мы немедленно отозвались. Для участия в этом конкурсе я образовал бригаду из двух молодых и энергичных инженеров-мостовиков и одного архитектора, которая под моим руководством разработала проект моста в двух вариантах.
Много сил и внимания уделял я в то время руководству научно-исследовательской кафедрой инженерных сооружений. Она проводила серьезные исследования по важнейшим вопросам мостостроения. Меня радовало то, что в эту работу удалось втянуть многих моих студентов и дипломантов. Отдельно хочется сказать о троих из них — Н. В. Корнаухове, А. А. Уманском и Ф. П. Белянкине. До сих пор мне приносит большое удовлетворение то, что все они, блестяще закончив институт, стали ведущими крупными учеными в области строительной механики и статики сооружений, людьми творческими, искренне преданными любимому делу. Именно поэтому советской научной и инженерной общественности хорошо известны имена действительных членов Академии наук УССР Николая Васильевича Корнаухова, Федора Павловича Белянкина и профессора, доктора технических наук Александра Азарьевича Уманского.
В это время мне было около шестидесяти лет. Возраст солидный. Но самыми напряженными, деятельными и радостными были для меня последние восемь лет. Я, старый инженер, которому перед первой мировой войной, в годы зрелости и расцвета, показалось, что жизнь закончена, что можно удалиться на покой и безмятежно в сторонке доживать остаток лет, чувствовал себя снова молодым и на исходе шестого десятка не собирался ни в чем уступать своим ученикам. Секрет этой «второй молодости» состоял в том, что я перестал быть одиночкой, почувствовал сотни нитей, протянувшихся от меня к народу и от него ко мне, и нашел, наконец, свое настоящее место в жизни. Да, дело было именно в этом!
И когда в 1928 году в газетах появились сообщения о раскрытии в Донбассе в Шахтинском районе вредительской организации старых буржуазных «спецов», я был не только возмущен, но и глубоко потрясен. Я никак не мог понять, как инженер, призванный строить и создавать, может вместо этого разрушать, вредить, пакостить, замахиваться на то, что создано трудом всего народа.
Видимо, не только настоящее, но также и прошлое было у меня во многом разное с этими отщепенцами. Они подняли руку на то, что строили мы — честные люди, и они стали моими врагами. Эти вандалы в моих глазах не заслуживали звания человека.
Дни разоблачения шахтинцев и суда над ними — очень важные дни в моей жизни. В те дни я почувствовал себя еще ближе к новой народной власти. Ее враги стали моими врагами, ее друзья, ее защитники, ее руководители все больше становились моими друзьями, моими защитниками, моими руководителями.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
1. КРУТОЙ ПОВОРОТ
В 1928 году мне исполнилось пятьдесят восемь лет.
Я бы не упоминал этой в остальном ничем не примечательной даты, если бы она не оказалась связанной с большими переменами во всей моей судьбе.
Более тридцати лет, то есть все годы самостоятельной жизни после завершения образования, я отдал одному любимому делу: проектированию и строительству мостов, научной работе в этой же области, составлению учебников и подготовке молодых специалистов — мостостроителей.
Тридцать лет — большой срок в истории современной техники. Нет такой области науки и промышленности, в которой бы за этот период не произошли значительные преобразования.
Такой же поступательный процесс отличал и мостостроение. Он проходил на моих глазах, я сам был его непосредственным участником. Менялись, становились все более научными и в то же время более простыми и удобными способы расчета мостов, передовые инженеры создавали новые оригинальные конструкции пролетных строений, более легкие, прочные и надежные, упрощались и совершенствовались методы монтажа…
И только одно оставалось неизменным: способ соединения элементов моста с помощью заклепок. С тех пор как люди научились строить железные мосты, они знали только один этот примитивный метод.
Всюду наступала новая техника, всюду машина все больше заменяла мускульные усилия человека. И только в мостостроении продолжала царить работа вручную, работа медленная, кустарная, часто изнурительная.
Пассажир из окна поезда видит на любой из балок моста сотни стальных «пуговичек» — заклепок. Но редкий из пассажиров догадывается о том, сколько усилий затрачено на то, чтобы соединить одну балку с другой.
Между тем это дело совсем не простое. Прежде чем поставить несколько заклепок, необходимо проделать следующие операции: разметить оба соединяемых элемента, наложить их друг на друга, сделать проколы, рассверлить отверстия, нагреть ранее подготовленные заклепки, вставить в отверстия и, наконец, обжать.
Эта канительная процедура повторяется тысячи, десятки тысяч раз на стройке одного лишь моста. Теперь попробуем представить себе масштаб строительства сотен мостов в стране. Сколько труда можно сберечь, сколько рабочих рук высвободить, насколько сократить сроки постройки мостов, если избавиться от клепки! Но как это сделать? Чем заменить дедовскую клепку, что должно прийти ей на смену?
На этот вопрос я долго не находил ответа.
Летом 1928 года я приехал на одну маленькую железнодорожную станцию проводить испытание капитально отремонтированного моста. Едва сойдя на перрон, я увидел вдали, на краю моста, ослепительные вспышки. Казалось, кто-то гигантским зеркалом ловит могучие потоки солнечных лучей.
— Электросварка? — спросил я мастера, сопровождавшего меня.
— Она самая. Хотите посмотреть? — предложил мастер.
Электросварка… Мне, конечно, приходилось слышать о ней и читать, но видел я ее впервые.
Мы сразу же зашагали к мосту. Прикрыв ладонью глаза, я остановился невдалеке от сварщика и стал наблюдать за ним.
Молодой рабочий, оседлав одну из продольных балок, приваривал к ней длинную стальную полосу. Лицо сварщика защищал диктовый щиток с темными стеклами, он удерживал его левой рукой, а правой направлял держатель с металлическим электродом. Сварщик работал увлеченно и сосредоточенно, не отрывая взгляда от конца стального прутка, который довольно быстро плавился и превращался в гладкий и аккуратный валик — шов. У меня начинали болеть глаза, я отводил их в сторону, но через минуту снова любовался ловкими и быстрыми движениями сварщика.
Затем я отошел от него и задумался. Мастеру пришлось несколько раз повторить какой-то вопрос, прежде чем его голос проник в мое сознание.
Не знаю, сколько я так простоял. Мысль моя работала напряженно, стремительно. Может быть, это и есть он — тот ответ на давно мучающий меня вопрос! Может быть, электросварка — и есть та чудодейственная сила, которая способна заменить клепку и вытеснить ее из мостостроения. Какой удивительно простой и экономный способ соединения металла! Кто знает, может быть, ему суждено совершить настоящую революцию в строительстве мостов, стальных конструкций, вагонов, кораблей, цистерн?..
Все дни пребывания на маленькой железнодорожной станции я был поглощен и захвачен этой волнующей мыслью.
Часто случается так: пока человек — профан в каком-то новом для него деле, пока он смотрит только со стороны, все кажется ему понятным, доступным и немудрым. Так было и со мной.
Внешняя простота сварки, та легкость и непринужденность, с которой оперировал держателем молодой рабочий на мосту, рождали у меня тогда представление о сварке как о чем-то весьма несложном: достаточно сдвинуть соединяемые части вплотную друг к другу, зажечь электрическую дугу, она расплавит свариваемый металл и пруток электрод, и сварное соединение готово…
Вернувшись в Киев, я почувствовал, что «заболел» электросваркой всерьез. Я продолжал заниматься мостами, но впервые в жизни мои интересы раздваивались. Никому пока не признаваясь в этом, я начал знакомиться со сварщиками, ездить на заводы, где можно было посмотреть сварку, так сказать, в натуре, и на различных объектах изучал всю тогдашнюю специальную литературу. И вот тогда-то я стал понимать, что электросварка — настоящая и самостоятельная область науки, в которой многое уже сделано, но еще больше остается неизведанного и неизученного. Это не только не отпугивало, а, наоборот, еще больше увлекало меня.
Как раз в тот период я готовил к новому изданию свой курс «Железных мостов», и в нем впервые появился раздел о применении сварки в мостостроении. Этой теме было посвящено тогда всего лишь пять страниц, но зато сварка в первый раз выступала в учебнике по мостам как соперник клепки.
Прошли годы, и я написал не один труд на темы сварного мостостроения…
В 1929 году меня избрали действительным членом Академии наук УССР.
В то время в Днепропетровске создавался крупный транспортный учебный комбинат, и было принято решение влить в него Киевский институт путей сообщения, незадолго перед этим выделившийся из Киевского политехнического, института. Этим самым предопределялся перевод туда же и моей кафедры — кафедры мостов.
Передо мной стал вопрос: как быть дальше? Какой сделать выбор?
Колебания у меня были большие, и это, очевидно, будет понятно каждому.
С одной стороны, с мостами меня связывала многолетняя непрерывная работа, очень не просто было оставить все то, чему Я отдал лучшие годы своей жизни. Жаль было расставаться с созданной мною кафедрой и кабинетом мостов, для которого четверть века собирались книги, чертежи, модели, приборы. Трудно было представить себя вне неизменного и привычного круга интересов.
С другой стороны, меня все больше привлекала возможность заняться в Академии наук новым и многообещающим делом — электрической сваркой. Я все больше увлекался ею и с каждым днем все яснее видел, какой тут непочатый край работы для ученого.
Возможно, очутись я перед такой дилеммой на несколько лет раньше, я все же остался бы верен мостам.
Чтобы до. конца понять, как и почему я принял свое решение, нужно вспомнить, чем был для страны 1929 год.
Отлично помню до сих пор один из апрельских дней 1929 года, когда в геодезическом зале Киевского политехнического института собрали профессоров и преподавателей, чтобы детально ознакомить нас с планом первой пятилетки, принятым на шестнадцатой партийной конференции. С большим вниманием слушал я доклад парторга института, слушал и поражался грандиозным цифрам, которые он называл. Шестьдесят четыре с половиной миллиарда рублей капиталовложений в народное хозяйство в течение всего лишь одной пятилетки!
Еще не так давно, всего пять-шесть лет тому назад, когда я проектировал новый городской мост в Киеве взамен Цепного, для него нельзя было получить подходящий металл. Всего пять-шесть лет назад!
А здесь, в плане, — строительство огромных металлургических и тракторных, автомобильных и паровозостроительных заводов, строительство гигантских электростанций.
«Насколько, однако, все это реально и возможно? — невольно думал я. — Где взять огромные средства, откуда появятся люди, специалисты, которым по плечу такой невиданный размах строительства?»
Мог ли я, старый инженер, не сочувствовать широким и смелым замыслам партии? Всей душой я присоединился к ним.
Но где здесь кончается трезвый деловой расчет и начинаются мечтания, не имеющие под собой конкретной почвы? — это смущало меня.
Подобных «но» у меня возникало немало.
Придя домой, я раскрыл газету с текстом пятилетнего плана и положил рядом с ней карту Советского Союза. Чем больше я вчитывался в текст плана и мысленно размещал на карте будущие гигантские предприятия и электростанции, тем все более захватывающей представлялась мне эта картина. И тут же всплывали сомнения и очередные «но»…
Взять, например, Днепрогэс. На моей памяти в старой России не раз поднимались разговоры об этой крупнейшей стройке. Подниматься поднимались, но сколько проектов гидростанции на днепровских порогах было погребено в архивах царского правительства! Многие иностранные компании предлагали свои услуги, многие заграничные электротехнические фирмы просили сдать им в концессию эту стройку. В Петербурге отвергали уж слишком кабальные условия иностранцев, но и сами не пытались взяться за такую большую задачу.
И вот сейчас планируется в пять лет воздвигнуть эту грандиозную станцию своими силами. Возможно ли это?
В этом я сомневался.
Сомневался и все же хотел верить, хотел, чтобы жизнь рассеяла мои бесчисленные «но», опровергла мой скептицизм.
Время шло, если можно так выразиться о его тогдашнем стремительном движении. Я присматривался ко всему, что делалось вокруг.
У Хортицы уже вовсю кипела работа на строительных площадках Днепрогэса. В свирепые морозы не прекращалась укладка бетона, люди трамбовали его ногами, укутывали опалубку своими телогрейками, чтобы не дать бетону замерзнуть. Если бурным потокам воды удавалось пробить себе дорогу через заграждения, самые отважные бросались на борьбу со слепой стихией и, рискуя жизнью, закрывали опасную пробоину. И героизм этот воспринимался страной как нечто вполне естественное, само собой разумеющееся!
В газетах я читал телеграммы из Сибири, с Урала, из Донбасса: заложены домны невиданной производительности, возведены корпуса заводов, и завтра там начнется монтаж мощных прокатных станов… В Сталинграде, словно из-под земли, вырастал гигантский тракторный завод, и вопреки прогнозам американских авторитетов на это потребовалось не много лет, а около года…
Все это мне казалось настоящим чудом.
Можно было критиковать промахи и неполадки, — без них в таком огромном деле, разумеется, не обходилось, — можно было тревожиться за то, совладают ли новые миллионы рабочих с такой первоклассной техникой, но ни один честный и непредубежденный человек не мог закрывать глаза на факты. А они говорили сами за себя.
Вся страна стала сплошной стройкой, и на ее лесах то тут, то там ослепительно вспыхивали огни электросварки. В газетах и журналах все чаще появлялись заметки и очерки о том, как стальной электрод в руках сварщика помогает выигрывать дни и недели в битве за темпы.
Сварка вела наступление на клепку! Я видел, что будущее принадлежит электрической сварке, что эта, на первый взгляд такая узкая Область техники таит в себе большие, поистине неисчерпаемые возможности.
И как только я это окончательно понял, мои колебания кончились. Я принял твердое решение посвятить сварке остаток своих лет и создать научный центр электросварки в Академии наук Украины. Мне пятьдесят девять… Ну, что ж, начинать никогда не поздно, если только к новому делу лежит душа. В Киевский политехнический институт я вернулся в 1935 году, чтобы, как и за тридцать лет до этого, создать новую кафедру, на этот раз — кафедру электросварки.
2. Я СТАНОВЛЮСЬ СВАРЩИКОМ
Итак, я стал сварщиком.
Начинать свою работу в Академии наук Украины мне приходилось буквально на голом месте. Не было ни оборудования, ни лаборатории, ни даже самого скромного помещения.
Я решил на первых порах опереться на заводских людей, на тех, кто уже вошел во вкус сварки, испытал ее на деле. На заводе «Большевик», где имелся свой сварочный цех, мне охотно пошли навстречу и отвели в этом цехе угол, точнее, маленькую комнату, которая стала громко именоваться «лабораторией Патона».
Здесь вместе с молодым инженером-электриком и одним-единственным сварщиком началось мое практическое обращение в «сварочную веру». Сварщик был человеком горячим, энтузиастом своей профессии, отлично, до тонкостей знал дело, виртуозно орудовал электродом, и у него было чему поучиться.
Начинали мы с самого простого, но на том этапе, пожалуй, и самого главного. Среди руководителей киевских заводов было еще маловато патриотов электросварки, их можно было пересчитать по пальцам, и, чтобы завоевать ей признание, нужно было еще доказать, что сварные конструкции по прочности не уступают клепаным.
С этой целью мы в своей лаборатории на «Большевике» сваривали балки различного сечения и с разными стыками, а затем испытывали их в механической лаборатории Киевского политехнического института. Старые связи в институте пригодились как нельзя лучше, и вскоре длинный коридор на первом этаже Киевского политехнического института был загроможден балками…
Мое решение серьезно заняться электросваркой и целиком посвятить себя ей некоторые мои коллеги в Академии наук УССР встретили с недоумением, а кое-кто даже с иронией. Меня знали как мостовика, избрание академиком было признанием моей работы именно в этой области, и вдруг — сварка.
Одни выражались обиняками, другие говорили прямо в лицо:
— В ваши-то годы и затевать такую крутую ломку?! И ради чего? Что это такое — сварка? Занятие для инженера. Но для ученого… Нет-нет!
А кто-то даже язвительно окрестил электросварку «наукой о том, как без заклепок сделать бочку».
Но я к таким насмешливым замечаниям относился спокойно, — ничего удивительного, просто у людей туманное представление об этом предмете.
Я стал добиваться создания электросварочной лаборатории в стенах академии и заявил в ее президиуме:
— Завод «Большевик» оказал нам первую помощь, спасибо ему за это. Теперь пришло время академии принять сварку в свое лоно.
Меня поддержали. Однако свободного светлого помещения тогда в академии не оказалось, и мне предложили занять три комнаты в подвале старинного здания бывшей 1-й мужской гимназии. Помню, как заведующий хозяйством привел меня в темный сырой подвал, где лежали дрова и валялся всякий хлам.
Эта печальная картина произвела на меня удручающее впечатление. Завхоз, видимо, быстро разобрался в моем настроении и, чтобы рассеять его, стал рисовать мне перспективы перестройки помещения.
— Эти узкие отверстия, Евгений Оскарович, мы расширим и превратим в настоящие окна, вместо земляного устроим настоящий дощатый пол, стены побелим и отделаем так, что и не узнаете! Картинка будет, а не комнаты…
— Да вы, я вижу, мастер уговаривать, — улыбнулся я.
— Честное слово, — клялся завхоз, — сделаем все на славу.
Чтобы утешить меня, он, кажется, готов был посулить и зеркальные окна, и ковры, и настоящие пальмы.
Выбора не было, я согласился занять это помещение и вскоре приступил к его отделке. Надо сказать, завхоз оказался человеком инициативным и действительно сделал все, что можно было.
Одну из комнат занял я, вторую отвел для сотрудников. В третьей мы соорудили простейший станок с домкратами для испытаний балок на изгиб. Целиком этот станок втащить в подвал не удавалось и пришлось прибегнуть к сложному маневру: разобрать станок на части, вбросить их в комнату через окна, а уж потом сварить и собрать. Четырехметровые балки, предназначенные для испытаний, сваривали во дворе, а затем через те же окна вталкивали в помещение.
Штат лаборатории состоял вместе со мной из четырех человек, включая сюда и бухгалтера, который совмещал свою должность с обязанностями завхоза, управделами, экспедитора. Но я не унывал. Условия для работы со временем изменятся, важно то, что электросварочная лаборатория академии создана и работа в ней начата. Это самое главное!
Принимая на работу молодых инженеров, я в беседах с ними прежде всего подчеркивал, что электросварочная лаборатория должна выпускать не пухлые научные отчеты, а по-настоящему помогать промышленности осваивать новые способы сварки металла. Я предупреждал их, что придется много бывать на заводах, помогать там справляться с трудностями освоения сварки, готовить для заводов кадры, драться со сторонниками клепки.
— Если такая работа вас устраивает, оставайтесь, — говорил я своим будущим сотрудникам.
Такой же разговор состоялся у меня и с человеком, которого я знал уже много лет, знал со всеми его сильными и слабыми сторонами характера, наклонностями. Это был Борис Николаевич Горбунов, в прошлом один из моих талантливых студентов в Киевском политехническом институте.
Еще на студенческой скамье Горбунов выделялся среди товарищей своим ярким дарованием и огромным трудолюбием. Уже тогда он начал публиковать статьи на теоретические темы в области статики сооружений, сразу обратившие на себя внимание. Институт Горбунов блестяще закончил в 1923 году. Я пророчил ему большое будущее и не обманулся в этом.
Нас сближала прежде всего общая любовь к труду. Крепким здоровьем Борис Николаевич не отличался, часто хворал, но это не охлаждало его неутомимой энергии. Я был старше его на тридцать лет, однако эта солидная разница в возрасте не помешала нам стать друзьями. Когда мы вместе трудились над новым изданием первого тома курса «Железных мостов», я еще раз оценил глубокие знания Горбунова, его умение самостоятельно мыслить. Потом Борис Николаевич стал работать вместе со мной в Киевской мостоиспытательной станции, он был там моей главной опорой.
Мог ли я мечтать о лучшем сотруднике для себя в сварочной лаборатории?
У Горбунова было верное и острое чутье ко всему новому. Сваркой он увлекся так же быстро, как и я, трудности неизведанного дела его не пугали. Я начинал с вопросов применения сварки в изготовлении стальных конструкций, а они как раз и были областью Горбунова.
Вначале нас было только несколько человек, а задачи мы ставили перед собой такие, что хватило бы работы на коллектив впятеро больший.
«Как же быть? — раздумывал я. — К суткам еще двадцать четыре часа не прибавишь, людей взять негде, да и некуда, — штаты у нас куцые. А если работать келейно, одними своими более чем скромными силами, много не сделаешь…»
Эти же мысли мучили и Горбунова. Как-то после окончания работы мы засиделись в моем кабинете. Борис Николаевич нервно шагал по комнате:
— Вот вы говорите, Евгений Оскарович, нельзя превращать нашу лабораторию в келью, становиться затворниками. Верно, тысячу раз верно! Ну, а что делать? На скольких заводах мы с вами можем побывать, хотя бы здесь, в Киеве, скажем, один раз в месяц?
— И все-таки нужно, непременно нужно нам выходить в жизнь, — возразил я. — Лекции на заводах, статьи в газетах, выступления по радио — все это само собой, все это мы делаем и будем делать. Беда в разобщенности. Мы сами по себе, остальные тоже. А ведь сварщики есть и на заводах, и на железной дороге, и в автогенном тресте, и в других местах.
— Да. А
встречаемся от случая к случаю, — протянул Горбунов, — сидим каждый за своей перегородкой. И каждый сам себе выдумывает темы и исследования. Нескладно получается… — Глаза Горбунова вдруг заблестели. — А что, если нам созвать конференцию, так сказать, «объединительный съезд»?
— Конференцию — неплохо, — согласился я, — но я думаю о большем. Мне бы хотелось видеть возле нас, вокруг нас, что ли, такую общественную организацию, которая стала бы душой всего сварочного дела в Киеве, на Украине, быть может. Не знаю, как ее назвать… Совет… Группа… Сварочный комитет?..
Горбунов схватил чистый лист бумаги, размашисто написал вверху: «Электросварочный комитет Академии наук УССР», — и протянул бумагу мне.
— Да, это, кажется, как раз то, что нам нужно, Борис Николаевич!
Через несколько дней мы отправились со своей идеей в Академию наук. Идея эта вначале немного озадачила товарищей.
— Не совсем понятно, что такое этот ваш комитет?
— Это научное учреждение академии, ядром его является электросварочная лаборатория. Но ведет он свою работу на общественных, представительных началах, при активном участии инженеров и рабочих-практиков сварочного дела. Польза от этого будет и нам и им. Денег нам от академии не потребуется, члены, учредители комитета, поддержат его своими взносами.
Замысел этот был необычным, но руководство академии благословило его, и в том же 1930 году комитет был создан. Впервые в стенах академии, рядом с учеными и инженерами, заседали, работали, спорили о научных и технических проблемах люди из цехов, мастерских, депо. Лучшие сварщики Киева шли на другие заводы и после доклада инженера, своего товарища по комитету, делали «содоклад» на рабочих местах местных сварщиков, показывая, на что способен электрод в умелых руках. И тут же, у только что застывшего шва, возникал большой и важный разговор между гостями и хозяевами…
Наша лаборатория и электросварочный комитет быстро превратились в одно целое. Первым и самым злободневным их делом я считал упорную, настойчивую пропаганду электросварки, пропаганду словом и делом.
Встречаясь с заводскими работниками в Киеве, я видел, что большинство из них еще не уверовало в преимущества сварки. Сторонники клепки не собирались без боя сдавать позиций, между ними и пионерами сварки только завязывалась ожесточенная борьба.
В журнале «Автогенное дело» под рубрикой «Сварка или клепка?» я часто находил отчеты о диспутах и технических дискуссиях на заводах и в научно-технических обществах. В нескольких из них, проходивших в Киеве, я участвовал, а иногда и делал доклады.
Представители дирекции иных заводов на словах приветствовали новый метод соединения металла, но тут же заявляли:
— Все это очень хорошо звучит. Но дайте доказательства того, что ваша сварка по своей надежности не уступает клепке, а по экономичности превосходит ее.
— Доказательств сколько угодно, — отвечали мы и приводили результаты своих первых исследований.
— Нет, нет, — не унимались скептики, — что вы нам все балки свои демонстрируете. Вы покажите такие же результаты на машинах, на крупных изделиях!
Противники сварки вели активный обстрел ее тогдашних минусов, всячески преувеличивали и раздували их и прежде всего ставили под сомнение динамическую прочность сварных конструкций. С этим мы встречались повсеместно, и тут было над чем задуматься.
Мы устроили «производственное совещание» с Борисом Николаевичем Горбуновым и принялись обсуждать, с какого же конца подойти к делу.
— На одних дискуссиях и диспутах, Борис Николаевич, мы далеко не уедем, — сказал я ему, — мы должны дать заводским людям точные данные, которые убедили бы их в том, что сварка — дело надежное и эффективное, что к ней можно отнестись с полным доверием. Согласны с этим?
— Разумеется, — ответил Горбунов, — раз не убеждают их наши опыты на балках, надо провести испытания конструкций клепаных и сварных. Только это и произведет впечатление. Но голыми руками тут ничего не поделаешь.
— Значит, мы пришли к одному и тому же. Нужно добывать испытательные машины, — сказал я. — Знаете вы, где их можно заказать?
Этого Горбунов не знал. Мы условились, что я сделаю об этом запрос через Академию наук.
Я немедленно навел справки и выяснил, что в короткий срок эти машины можно получить только за границей и за очень большие деньги. Получив это обескураживающее сообщение, я сейчас же позвал к себе Горбунова.
— Борис Николаевич, машины нужно выписывать из-за границы и уплатить за них огромную сумму.
— Сколько? — спросил Горбунов.
— Сто пятьдесят тысяч рублей золотом!
Горбунов изумленно ахнул.
— Что вы, Евгений Оскарович! Кто нам позволит такую роскошь? Да и у нас самих совести не хватит просить.
— Что же делать, по-вашему? Посоветуйте.
Горбунов долго ходил по комнате, потом остановился передо мной:
— Вот что, Евгений Оскарович, позвольте мне самому спроектировать эти машины. Может быть, не бог весть какие красавцы получатся, но работать, надеюсь, на них можно будет. Попробуем?
Я встал и протянул Горбунову руку.
Быстрота, с которой я дал согласие, показалась ему подозрительной. Он лукаво посмотрел на меня:
— А не было ли у вас, Евгений Оскарович, такой мысли сразу, когда вы позвали меня к себе?
Я не выдержал и засмеялся.,
— Много лет мы с вами, Борис Николаевич, знаем друг друга, не спрячешься от вас…
Борис Николаевич сам сделал все проекты и чертежи наших первых испытательных машин, мы изготовили их собственными силами, и обошлись они всего в двадцать тысяч рублей. Горбунов торжествовал и чувствовал себя именинником. Я, конечно, был очень благодарен ему.
Теперь мы были прилично по тому времени вооружены. До сих пор нам по необходимости приходилось вести различные испытания только на лабораторных «карликовых» образцах. Но продолжать в том же духе — значило бы вести огонь из пушек по воробьям. А главное — опыты, поставленные на таких образцах, не могли быть достаточно убедительными для практиков, а для научных выводов не давали серьезных материалов. Мы с Горбуновым мечтали испытать целые узлы отдельных машин и изделий, изготовленных с помощью сварки. Но таких машин в нашем распоряжении пока не было.
Первой ласточкой, предвещающей признание нашей работы, оказалось письмо с харьковского завода «Серп и молот».
«Вы всюду выступаете за сварку, — писал мне директор завода, — убеждаете нас в ее достоинствах. Мы пробуем у себя сварку, но все же пока не решаемся поставить дело по-производственному. Можете ли вы дать нам реальные доказательства преимущества сварки при изготовлении молотилок?»
«Можем! — ответил я директору. — Для этого изготовьте и пришлите нам каркасы двух молотилок — один клепаный, другой сварной. Остальное сделаем мы».
Завод не смутили такие масштабы эксперимента, и вскоре мы получили два каркаса. Оба они подверглись самым тщательным испытаниям на специальном стенде, выстроенном во дворе Академии наук. Испытания эти со всей убедительностью доказали, что сварной каркас уж во всяком случае не слабее клепаного и что мы смело можем рекомендовать заводу сварку. Мы, конечно, так и сделали.
Завод «Серп и молот» начал выпускать молотилки со сварными каркасами. Это был большой день в нашем комитете.
Вторую победу мы одержали в Запорожье. Харьковская история повторялась: на заводе «Коммунар» и верили в сварку и еще опасались ее. И хочется, и колется… На нашем испытательном стенде после каркасов молотилок появились рамы запорожских комбайнов. И престиж сварки прочно утвердился еще в одной отрасли промышленности.
Но далеко не всегда наши отношения с различными предприятиями и ведомствами складывались так безоблачно. Случались и острые столкновения и прямые конфликты. Не раз приходилось нам засучив рукава лезть в драку с консерваторами или людьми ленивой, косной мысли.
С особым рвением мы вступали в бой, если нужно было поддержать заводских людей, натыкавшихся на сопротивление начальства.
Помню такой случай. В киевских трамвайных мастерских рабочие настаивали на том, чтобы при изготовлении вагонных рам перейти к сварке. Но администрация мастерских только отмахивалась от назойливых сварщиков, и дело с места никак не двигалось.
Рабочие решили «вынести сор из избы». Они явились ко мне, изложили суть дела, и мы перенесли этот затянувшийся спор в сварочный комитет. Представители дирекции не сдавались и после этого. Тогда мы избрали другой путь: поставили несколько опытов в своей лаборатории и убедительно доказали правоту рабочих.
По-другому сложились обстоятельства на заводе «Большевик», где сварку уже умели ценить. Завод получил крупный заказ на аппаратуру для сахарной промышленности и смело применил при ее изготовлении электросварку.
Заказчик встал на дыбы:
— Что это за отсебятина?! Кто вас просил варить? Отказываемся принять оборудование, делайте с ним, что хотите!
Товарищи с «Большевика» резонно возражали:
— Технология производства — наше дело. Ваше дело требовать высокого качества работы. За это мы ручаемся.
Заказчик не унимался:
— Нет, это наше дело! Вам бы только сдать аппаратуру, а мы рисковать не можем.
На сахарных заводах в то время вообще скептически относились к сварке, а тут их представителям преподнесли такой сюрприз.
Завязался крупный и шумный спор. Мы не могли оставаться в стороне и ввязались в бой. Это возмутило сахарников.
— А вы тут при чем? — заявили они нам. — Это наш ведомственный спор, мы сами и уладим его.
Но мы считали, что спор этот касается нас непосредственно, больше того — что это наше кровное дело.
Я решительно стал на сторону «Большевика» и после проведения всестороннего исследования аппаратуры составил твердое и безоговорочное письменное заключение в пользу применения сварки при изготовлении аппаратуры, что и решило исход дела.
Эта история дала толчок одному интересному начинанию.
Завод «Большевик» освоил тогда сварку только двух типов машин, а ведь их гораздо больше. У меня возникла идея сделать следующий шаг: выпустить альбом сварной аппаратуры для сахарной промышленности, которым могли бы воспользоваться и другие специальные машиностроительные заводы. Готовые образцы взять было негде. Вместе с инженером Сабботовским мы просмотрели все типы выпускаемой аппаратуры, продумали, что и как можно перевести на сварку, и впоследствии издали задуманный мной альбом-атлас.
Мне приходилось потом бывать на заводах, выпускавших аппаратуру для сахарной и химической промышленности, и я не раз убеждался в том, что они все смелее и чаще обращаются к нашему альбому.
Жизнь учила нас тому, что старое легко не сдается, не уступает сразу своих позиций. Кажется, что вот уже нанесли ему сильный удар и дальше все пойдет само собой. Ничего подобного, оказывается, привычка к старому — привычка цепкая, сильная. Нужно последовательно и упорно бить в одну точку, пока новое победит.
Долгую и затяжную борьбу вели мы с котельными инспекторами сахарной промышленности.
Эти люди ни за что не хотели признавать сварку. На одном из совещаний котельных инспекторов у меня была с ними крупная стычка, но поколебать их я не смог.
Пришлось записать себе поражение.
Прошел год. Снова было созвано такое совещание, и снова я, к неудовольствию моих противников, явился на него. Им довелось выслушать от меня весьма неприятные истины:
— Вспомните, дорогие товарищи, как мы предлагали при ремонте заводов использовать сварку, а вы открещивались от нее, запрещали и предавали анафеме. И что же? Ремонт непозволительно затянулся, сезон сахароварения начался с большим опозданием. Может быть, вы хоть сегодня признаете свою ошибку и сделаете выводы из нее?
Факты были против этих инспекторов, они в своих выступлениях каялись.
— Да, Патон оказался прав, мы заблуждались…
Но я знал, что от словесных заверений до действительного изменения взглядов часто бывает дистанция огромного размера.
Я и мои сотрудники начали сами выезжать на сахарные заводы в период их ремонта и легко убедились, что у котельных инспекторов страх перед сваркой не прошел окончательно.
Со мной часто отправлялся в рейс сварщик Антон Моисеевич Стебловский, который на месте проводил сварку, вел, как он выражался, «пропаганду электродом».
— И долго вы еще будете молиться на заклепку? — вопрошал он инспекторов. Те только отшучивались.
Чтобы воздействовать на твердокаменных инспекторов, и заявлял им:
— Подписывайте акт. За результаты сварки полностью беру ответственность на себя.
— А письменную гарантию дадите? — недоверчиво спрашивали они.
Я брался за перо:
— Сию же минуту подпишу.
И тут же подписывал. Этот решительный метод производил впечатление.
Сварка начала понемногу прививаться на ремонте сахарных заводов.
Этот твердый курс на тесную связь с производством, на прямую «отдачу» нашей научной работы в практику, курс на жизнь наступательную, активную и беспокойную все больше определял содержание жизни нашего сварочного комитета. Его члены были прикреплены к заводам и там вели свою основную работу. Киевские сварщики уже хорошо знали дорогу в комитет, заводские инженеры из других городов не только писали нам, но часто и сами приезжали в лабораторию за помощью и советом.
Своими людьми были у нас студенты Киевского энергетического института. Они слушали курс лекций и проходили практику в лаборатории, многие из них стали впоследствии энтузиастами сварки. В наш комитет все чаще заглядывали начальники цехов, главные инженеры и директора заводов, и мы подвергали их здесь энергичной «обработке».
Но пусть меня поймут правильно. Когда я говорю о том, что мы всегда рвались к живому, горячему делу в цехах, на стройках, железных дорогах, это вовсе не значит, что мы забывали свое назначение и призвание научного учреждения. Как раз наоборот — живая практика, ее требования питали все наши исследовательские работы, а они, в свою очередь, открывали дорогу сварке в промышленность.
Как, например, проектировать сварные конструкции? Ведь в этом случае нельзя автоматически повторять практику, принятую при клепке? Мы провели многочисленные исследования, разработали нормы и технические условия на проектирование сварных конструкций, и практикам уже не нужно было кустарничать, действовать на ощупь, каждому на своей манер.
Продолжительность «жизни» клепаных конструкций ограничена жесткими нормативами, им, как и человеку, свойственно стариться, «дряхлеть», выходить из строя.
А нельзя ли побороться с преждевременным старением сооружений? Может быть, чудесным лекарем для них окажется стальной электрод? Мы увлеклись этой задачей и доказали, что с помощью сварки можно, например, усиливать старые мосты, даже не прибегая ни к расклепке отдельных элементов, ни к постройке подмостей. Выигрыш — простота, дешевизна, продление жизни моста.
Но вот тот или другой создатель стальных конструкций поверил в сварку, он отважился, наконец, поставить ее на место клепки. Рисковать прочностью конструкции он не имеет права. И перед ним сразу же встает множество вопросов, на которые самому ответить не под силу. Какие типы узлов являются наиболее рациональными при сварке? Какой должна быть конструкция сварных балок и их стыков? Чем сварная ферма должна отличаться от клепаных и т. д., и т. п. Я поставил все эти вопросы перед самим собой, перед Б. Н. Горбуновым, перед инженерами А. Г. Варжицким и А. И. Марченко. Свои «ответы» мы положили на стол творцам конструкций в виде двух трудов: монографии «Электросварные конструкции в промышленном строительстве» и альбома таких же конструкций с десятками чертежей.
Кто от всего этого выигрывал больше: наука или практика? Думаю, в равной мере и та и другая.
В 1932 году шахтеры и металлурги Донбасса прислали нам, сварщикам, свой социалистический заказ. Они как бы вписали в план нашей научной работы несколько тем, очень интересных и увлекательных для нас и очень острых и жгучих для донецкой промышленности. Товарищи из «Всесоюзной кочегарки» заранее благодарили нас, а мне казалось, что благодарить должны мы, ведь мы получили новый большой толчок для исканий и экспериментов!
В те дни мне довелось впервые прочитать следующее высказывание нашего великого ученого К. А. Тимирязева:
«Безнадежно состояние науки, когда она находится среди безграничной пустыни всеобщего равнодушия. Только делая все общество участником своих интересов, призывая его делить с нею радость и горе, наука приобретает в нем союзника, надежную опору дальнейшего развития».
Эти глубокие слова произвели на меня сильное впечатление. Да, наше счастье состоит в том, что мы, советские ученые, имеем такого союзника, имеем такую опору. Именно это и позволяет нам уверенно смотреть вперед и идти вперед.
Для меня наступало время полного слияния со всей жизнью страны.
В ту пору уже полностью рассеялись мои сомнения в реальности первого пятилетнего плана.
С волнением читал я в газетах отчеты и очерки о торжественном пуске Днепрогэса, над строительством которого царская Россия раздумывала десятилетиями, так и не осилив его.
Один за другим вступали в строй заводы-гиганты, и на некоторых из них я постарался побывать. Помню, как я целый день провел в просторных и солнечных цехах Харьковского тракторного завода, стоял у ленты сборочного конвейера, у самых совершенных токарных станков. Но еще больше, чем это чудо техники, возникшее на пустырях, поражали меня юноши и девушки, уверенно управлявшие сложными агрегатами.
Большинство из них пришло сюда из сел, из молодых колхозов. Они пришли еще на строительные площадки завода, рыли котлованы, таскали на себе, кирпичи, выкладывали стены и стеклили крыши, мерзли в холодных бараках, стояли в очередях за жиденьким супом, и вот теперь сами стали к умным и точным станкам и своими руками выпускают мощные тракторы, которые попадут отсюда в их родные села, — куют оружие в борьбе за новую жизнь.
Слушая рассказы этой молодежи о самой себе, я начинал яснее понимать многое из того, что раньше было скрыто для меня, начинал всем сердцем ощущать молодой здоровый воздух эпохи социализма, такой не похожий на атмосферу моей собственной молодости.
Да, страна жила и работала направленно, целеустремленно, и размах стройки был таков, о каком и думать не приходилось в старой крестьянской России. Из области мечтаний сложнейшие технические вопросы были перенесены на реальную почву. Все делалось быстро и практично. И это вполне отвечало моим взглядам на жизнь.
Со времени начала пятилетки прошло всего четыре года — миг в истории! — и уже не было прежней отсталой России, она совершила львиный прыжок вперед.
Я честно признал свою ошибку: большевики, которых я еще так недавно считал мечтателями и чуть ли не фантазерами, умели гораздо лучше считать и планировать, чем я. Я подсчитывал, как мне казалось, все: деньги, металл, кирпич. Все — кроме энтузиазма советских людей, кроме народной энергии, народной воли, сцементированной и направленной партией коммунистов.
Годы первой пятилетки стали решающими для окончательного формирования моего сознания. Под влиянием колоссальных сдвигов в общественной жизни страны, под влиянием полной перестройки промышленности и сельского хозяйства, посильной только крепкой и жизнеспособной власти, я окончательно отрешился от того, что связывало меня со старым мировоззрением. Целиком и навсегда я стал на сторону советской власти. Со всеми не решенными прежде вопросами было покончено. У меня теперь была только одна цель — работа на общество, на народ.
3. НОВЫЕ МАСШТАБЫ
Сначала немного истории, далекой и недавней, которая, мне кажется, будет небезынтересной для читателя.
В конце прошлого века, в 1886 году, русский инженер Николай Николаевич Бенардос получил в Петербурге патент на открытый им способ электрической сварки металлов.
В основе открытия лежала блестящая мысль крупнейшего физика и первого русского электротехника Василия Владимировича Петрова о возможности использования тепла электродугового разряда для расплавления металлов. Академик Петров не только высказал эту догадку, но и многочисленными опытами и наблюдениями доказал всю ее основательность.
Идея эта намного опередила свой век, и понадобились долгие десятилетия, пока деятели техники и изобретатели сумели полностью воспользоваться ею.
Обедневший полтавский помещик Н. Н. Бенардос был известен как талантливый и страстный изобретатель, горячо влюбленный в технику. Но до тех пор и его пытливый и смелый ум не создавал еще ничего столь значительного, как на этот раз.
Первым в мире Бенардос демонстрировал в Петербурге сварку металлов с применением электрической дуги. Одним полюсом для нее служил свариваемый предмет, вторым — угольный стержень — электрод.
На этом Бенардос не остановился — он стремился глубоко проникнуть в тайны процесса, происходящего в сварочной дуге. Изобретатель разрабатывает способ сварки в струе защитного газа, сварку дугой прямого и косвенного действия, способ магнитного управления дугой, способ контактной точечной сварки и другие. Электроды Бенардоса и держатели для них отличались оригинальной конструкцией и формой, а его электрод с сердцевиной из разных порошков применяется и в наше время. Бенардосу принадлежит и обоснование возможности сварки под водой.
Стоит напомнить, что все это происходило почти семьдесят лет тому назад!
Весь мир вынужден был признать первенство и заслуги России в крупнейшем техническом открытии. Бенардосу был выдан патент на его способ «соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока» во всех промышленных странах Европы и в Соединенных Штатах Америки.
Прошло только несколько лет, и в истории электросварки открылась новая эпоха, связанная с именем русского горного инженера Николая Гавриловича Славянова.
На Пермском сталелитейном и пушечном заводе, где Н. Г. Славянов служил управляющим, начала широко применяться для ремонта крупных деталей или исправления забракованных изделий предложенная им «электрическая отливка металлов». Стальной электрод заваривал трещины в станинах орудий, раковины в отливке стволов, наплавлял металл на изношенные части машин. Теперь незачем было отправлять испорченные детали в печь на переплавку. Славянов и его ученики «лечили» их своим чудодейственным стержнем и возвращали к жизни.
У себя на пермском заводе Николай Гаврилович создал первый и единственный в ту эпоху сварочный цех и воспитал в нем первую в мире школу сварщиков.
Уже одни эти успехи могли бы обеспечить Славянову почетное место в первом ряду деятелей русской и мировой техники.
Но «горный начальник» уральского завода смотрел гораздо дальше. Знающий и образованный инженер, он упорно искал путей к тому, чтобы научиться управлять металлургическим процессом сварки. И он доказал, что этим процессом можно управлять.
Этот замечательный человек обладал удивительной научной интуицией и прозорливостью, высказанные им идеи и по сей день питают нашу мысль, разрабатываются в советской и мировой науке.
Но в тогдашней России не смогли по-настоящему оценить ни самого Славянова, ни его выдающихся работ, и они крайне медленно распространялись в промышленности. Одно время Славянов привлек к себе внимание предложением починить с помощью электросварки знаменитый Царь-колокол в Кремле. Но высшие сферы косо смотрели на «новшества» Славянова, и интерес к нему вскоре снова охладел.
Исключительно важное изобретение оставалось личным делом уральского инженера. Он запатентовал его во многих странах, получил в 1893 году диплом и золотую медаль на всемирной выставке в Чикаго, но даже официальное признание заслуг Славянова за границей не сдвинуло с места царских сановников. Они раз и навсегда заучили, что только те изобретения являются значительными, которые импортируются в Россию с Запада.
Зато американские капиталисты быстро разобрались в значении русского изобретения и стали широко пользоваться им. Новый толчок этому дало следующее происшествие в начале первой мировой войны.
Капитаны немецких пароходов, курсирующих в Соединенные Штаты Америки, имели секретные запечатанные конверты, которые они должны были вскрыть в случае вступления США в войну и интернирования этих судов в американских портах. Конверты содержали приказ взорвать судовые механизмы. Когда пришло для этого время, приказ был выполнен в точности. Взрывы за несколько часов вывели из строя двадцать один пароход общим тоннажем во многие десятки тысяч тонн.
Чтобы восстановить пароходы обычным способом, понадобилось бы года два. А корабли нужны были американцам немедленно. Тогда вспомнили об электросварке, открытой русскими инженерами. Ее применили в невиданных до тех пор масштабах и сварили поврежденные и взорванные части машин и корпусов. Менее чем через полгода пароходы приняли на борт десантные войска и грузы, а газеты принялись на все лады превозносить «американский технический гений».
Нужна была победа советской власти в России, чтобы изобретения Бенардоса и Славянова, как и многие другие открытия талантливых русских людей, были извлечены из-под спуда и начали по-настоящему служить народу.
Еще в двадцатых годах, когда наша промышленность поднималась после разрухи и начинала все быстрее наращивать свои силы, в десятках и сотнях цехов появились сварщики. Стремительно пошло освоение и выпуск необходимой аппаратуры: сварочных трансформаторов и генераторов.
В стране рождалась молодая могучая индустрия. И сварка, вернувшись на свою родину, развивалась у нас гораздо быстрее, чем на Западе. Там капиталисты неохотно шли на освоение сварки и на ломку привычных методов производства, замену оборудования и связанное с этим расходование средств.
Другое дело у нас. Вся промышленность имела одного хозяина — Советское государство. И этот энергичный и смелый хозяин сразу разгадал будущее сварки. В Советском Союзе уже в 1930 году насчитывались десятки тысяч сварочных постов, вскоре их число удвоилось.
Первая пятилетка мощно двинула вперед развитие электросварки, в те годы она уже успешно конкурировала с клепкой на стройках Магнитогорска и Кузнецка. Наша Родина шла впереди всех капиталистических стран в широком применении электросварки при изготовлении и монтаже самых ответственных металлоконструкций.
Смелая мысль наших инженеров и ученых нередко опережала практику американцев, любивших кичиться своим техническим прогрессом.
Например, на строительстве Магнитогорского комбината вопреки принятым до сих пор взглядам было решено не клепать, а сварить большое количество воздухопроводов и газопроводов.
Как только стало известно об этом, американская фирма «Артур Г. Макки и К°», принимавшая некоторое участие в проектировании завода, заявила резкий протест. Вице-президент фирмы В. Хейвен начал бомбардировать управление стройки паническими письмами. Они настолько любопытны, что одно из них я приведу:
«Начальнику Магнитостроя.
Вниманию мистера Пащенко, главного инженера!
В ответ на мою телеграмму в Кливленд относительно предложения заменить клепаные швы сварными в доменных трубах я получил следующее:
«Мы абсолютно возражаем против сварных конструкций, кроме труб чистого газа, и то только, если будет применена газовая, а не электрическая сварка. В постройках такого размера никто в этой стране (имеются в виду США. — Е. П.) не позволил бы сварку труб… Мы пробовали сварку труб холодного чистого газа Джаксон Огайо при превосходном надзоре и впоследствии нашли, что требуется много починок. Настаиваем на оставлении клепки труб. Беккер».
…Мне очень трудно понять, почему предложен этот эксперимент. Я и компания Макки всегда придерживались такой политики, чтобы применять только испытанные материалы и методы…
Я считаю предложение об изготовлении труб путем сварки угрозой для надлежащей работы завода».
Как видим, американцы пытались всячески запугать магнитостроевцев, доказать техническую несостоятельность и даже опасность их новаторского почина. Собственные неудачи и привязанность к «испытанным методам» казались этим достопочтенным джентльменам достаточно убедительным доводом.
Советские люди не посчитались с их мнением.
Только для первой и второй домен было изготовлено методом электросварки около полутора тысяч тонн металлоконструкций. Газопроводы, водоотделители, колонны под газопроводы, дымовые трубы, водопровод и многие другие ответственные конструкции магнитогорского завода впервые в мировой практике соединили сварные швы, за которые никогда впоследствии не приходилось краснеть.
Вопреки всем выкладкам и расчетам американцев, переход на сварку дал внушительную экономию металла — на 25 процентов, а сроки изготовления конструкций сократились вдвое.
Что не получалось в Америке, у нас вышло!
Бурное развитие электрической сварки в стране мы чувствовали на себе: заводы и стройки ставили перед нашей лабораторией все новые и новые вопросы, на которые уже нелегко было ответить нашими силами.
В Академии наук видели, что старые одежки нам теперь не по плечу, и шли нам во всем навстречу: отвели дополнительные светлые комнаты, значительно увеличили ассигнования, лаборатория стала обогащаться оборудованием. Но все это были полумеры, временное решение вопроса. В рамках лаборатории и электросварочного комитета нам уже было тесно, характер их деятельности становился таким всеобъемлющим, а масштабы работы так разрастались, что сама жизнь заставляла нас искать новые, более совершенные формы научной работы.
Мне казалось, что вполне назрел вопрос о создании специального научно-исследовательского института по сварке.
Как это часто бывает при рождении всякого нового дела, и тут находились скептики и критики. Мне говорили некоторые академики:
— А не слишком ли это узкая область для целого научного института?
— У нас в стране нигде нет подобного института. Что-то вы мудрите.
Для чего нужен нашей науке и промышленности такой институт, я знал совершенно точно, а то, что он не имеет предшественников, меня нисколько не смущало. Создавать его предстояло не на пустом месте, — за нашими плечами был уже трехлетний опыт работы в лаборатории Академии наук и в электросварочном комитете.
Идея создания института имела не только критиков, но и горячих патриотов и защитников. Вместе с нами ее отстаивали все, кто кровно был заинтересован в развитии электросварки. Громко и авторитетно прозвучал в поддержку этой идеи голос республиканского съезда сварщиков в Харькове в мае 1932 года.
Примерно в то же время состоялась моя встреча с новым президентом Академии наук УССР, большим ученым и чудесным человеком, Александром Александровичем Богомольцем. Все то, чем мы занимались, было очень далеко от научных интересов самого Богомольца, но он сумел сразу схватить и оценить значение мысли о создании нашего института.
— Дело очень стоящее, — сказал Александр Александрович, выслушав меня. — Я готов его полностью поддержать, думаю, что и весь президиум согласится с вами. Но нашего решения, видимо, мало? Нужны деньги на строительство здания для института. Ведь так?
— Разумеется, — подтвердил я. — Но мы понимаем, что сейчас, когда идет такая стройка, у государства каждый рубль на счету. Поэтому мы готовы обойтись самой скромной суммой, лишь бы ее хватило на здание. А что понадобится для обзаведения оборудованием, заработаем сами по договорам с заводами.
Свое обещание поддержать нас Богомолец выполнил с присущей ему энергией. Президиум Академии наук вынес положительное решение и сейчас же обратился с ним в правительство Украину. Дальше все произошло с неожиданной быстротой. Уже в июне правительство приняло постановление о строительстве здания для Института электросварки и ассигновало на это для начала двести тысяч рублей. Впоследствии эта сумма была почти удвоена.
— Просто поразительно, Александр Александрович, — говорил я тогда нашему президенту, — ведь только месяц-полтора прошло после наших первых бесед!
— Приходится сделать один вывод, — улыбнулся
Богомолец, — вашей работе придается важное значение.
Когда я думал над тем, каким же должен быть создаваемый нами институт, какие методы, какой стиль работы нужно утверждать, отстаивать и от каких ошибок следует себя заранее предостеречь и оградить, я старался осмыслить свою работу, с одной стороны, в электросварочном комитете и, с другой стороны, — на Киевской мостоиспытательной станции. Первый давал нам положительный и очень ценный опыт, вторая — поучительный урок в назидание на будущее.
Моя работа на этой мостоиспытательной станции длилась почти десять лет. Внешне все обстояло вполне благополучно. Ежегодно научно-технический комитет Наркомата путей сообщения, в ведении которого находились эта и еще две станции, присылал нам план работы, то есть список мостов, подлежащих испытанию. Летом я со своими сотрудниками — студентами и дипломантами Киевского политехнического института — в скромном трехосном вагоне выезжал на мосты, зимой мы обрабатывали результаты испытаний, составляли отчеты и отсылали их в наркомат и управления дорог.
За десять лет станция испытала около ста пятидесяти мостов на Украине, в Белоруссии, Поволжье, Казахстане и в других местах. Итог как будто внушительный! Но беда заключалась в том, что испытания эти во всех станциях научно-технического комитета носили трафаретный характер, а со временем выродились просто в шаблон. От нас требовали проведения бесконечных измерений такого рода, которые просто никому не нужны были практически.
Чем дальше, тем яснее видел я пустоту и беспредметность этих занятий, которые шли вразрез со всей моей натурой. Не раз заговаривал я об этом открыто на заседаниях комитета в наркомате, но там от моих «крамольных» речей просто отмахивались…
Бросать работу на станции я все же не хотел: ведь испытанием мостов я начал интересоваться и увлекаться еще в студенческие годы и любовь к этому делу у меня не остывала. И на свой страх и риск мы начали на киевской станции заниматься отдельными, довольно серьезными темами исследовательского характера.
Труд этот не пропал даром, результаты многих «внеплановых» измерений и испытаний вошли впоследствии в мои учебники и научные труды. Работа эта велась по своей охоте, вне и помимо прямых обязанностей станции, и только подчеркивала надуманность наших повседневных занятий.
Наконец в 1930 году была ликвидирована киевская станция, а вслед за ней и две другие, а также и сам научно-технический комитет. Вспоминая через два года их бесславную, кончину, я ставил сам себе вопрос: каковы же плоды их деятельности? Это был для меня вопрос далеко не праздный, — из печальной судьбы станций мне хотелось извлечь все полезные уроки.
Итак, сотрудники станций, в том числе и мы, трудились много, бумаги перевели не один пуд, многие месяцы провели на колесах, составили бесчисленное количество диаграмм, выпустили в свет изрядное количество печатных сборников с трудами станций, израсходовали уйму денег на переезды, приборы, зарплату…
А эффект?
Положа руку на сердце, надо было признать: он ничтожен, практически ценных результатов почти не получено.
Станции эти разделили судьбу иных научно-исследовательских институтов, проработавших свой век вхолостую. Увы, такие же явления я видел и в некоторых тогдашних исследовательских учреждениях академии. Люди чем-то занимались, что-то писали, издавали, поддерживали видимость бурной научной жизни, а за всем этим скрывалась пустота, никчемность и надуманность занятий.
Упрекал я и самого себя.
Видя, что дело ведется неправильно, я должен был активнее добиваться реформ. Я выступал, протестовал на заседаниях комитета, но дальше этого не пошел.
— Не слушают — не надо, — обиделся я тогда, — буду сам делать кое-что полезное сверх планов и инструкций.
Для ликвидации киевской станции из Москвы приехал молодой инженер, человек горячий и резкий. Его не смутило ни то, что я был лет на тридцать старше его, ни мое звание члена Украинской Академии наук. Он напрямик, без всяких реверансов, обвинил меня:
— За десять лет руководства станцией вы не сумели создать для нее собственной базы, допустили, чтобы она все время ютилась в чужом помещении.
Меня глубоко задели эти упреки «зеленого» инженера, его тон, а главное, как мне казалось, несправедливость самого обвинения.
— Прежде чем упрекать, вам бы следовало ‘разобраться, — ответил я. — Знаете ли вы, какие скудные средства нам отпускались? Что можно было на них сделать? Ведь даже приборы мы заимствовали в политехническом институте, а вагон выпросили у дирекции Юго-Западной дороги. Критиковать легко!
Но вот с тех пор прошло два года, обида улеглась, и я вынужден был признать перед собственной совестью свою неправоту в том споре с молодым инженером. Да, условия были нелегкими, и все же, прояви я больше энергии и напористости, собственную базу для работы можно было бы создать.
Теперь я с благодарностью вспомнил своего темпераментного критика, его резкие нападки на меня.
Я дал себе слово, что в Институте электросварки Академии наук не повторю ошибок мостоиспытательной станции.
Прежде всего нам нужна была серьезная база для научной работы.
Я придавал немалое значение выбору места для постройки здания института. Мне хотелось, чтобы оно находилось невдалеке от центральной части города и вместе с тем примыкало к железнодорожной ветке для непосредственной подачи в институт строительных материалов, тяжелых машин, балок, ферм и других объектов испытаний. Такой участок удалось после долгих поисков найти в конце Владимирской улицы, вблизи товарной станции.
Уже в 1934 году, в первый год своего существования, институт выглядел довольно солидно. В главном двухэтажном здании помещался отдел сварочных машин с лабораторией, отдел технологии с небольшой химической и металлографической лабораторией, зал-аудитория, кабинеты, библиотека. В другом, одноэтажном помещении — зал испытательных машин и электромеханическая мастерская. В деревянных флигелях разместились музей испытанных образцов и сварочная мастерская.
Чтобы сразу закончить рассказ о том, как создавался наш институт, доведу тут же до конца историю его строительства. Скоро нам стало тесно даже в этих помещениях. Мы решили больше не просить ассигнований у правительства и на средства, полученные в оплату исследований и проектов, выполненных для заводов, возвели двухэтажную пристройку к главному зданию. Ее заняла новая лаборатория автоматической сварки, химическая и коррозионная лаборатории.
В 1937 году уже пришлось добиваться расширения самой усадьбы института. Нам прирезали смежный участок. И снова за счет хозрасчетных средств института была возведена еще одна пристройка к главному зданию. После этого и оформления всего фасада с надстройкой парапета главное здание института приняло весьма внушительный вид.
Через год возникла потребность в двух отжигательных печах, газовой и рентгеновской лаборатории. Установить и оборудовать их было негде. Мы обратились за помощью в управление строительства Дворца Советов в Москве. Институт выполнял для него большие исследования по сварке труб из малолегированных сталей, и управление в счет своих платежей построило для нас двухэтажное кирпичное здание.
Обо всех этапах строительства института, может, и не стоило бы тут вспоминать, если бы они наглядно не отражали, как расширялась тематика нашей научной работы, как все более глубокое проникновение в суть процесса электросварки и ее технологию требовало создания все новых отделов, лабораторий, мастерских, все нового оборудования.
Оборудование это рождалось также не совсем обычным путем. О нашем существовании уже знали за границей, и иностранные фирмы сами любезно прислали нам свои каталоги на глянцевой бумаге и с непомерно высокими ценами. Мы столь же любезно благодарили их, но основное оборудование изготовляли собственными руками, а то, что было нам не под силу сделать самим, приобретали на отечественных заводах.
Душой институтского «станкостроения» был наш механик-лаборант Михаил Николаевич Сидоренко. В маленькой механической мастерской он с несколькими учениками изготовлял детали и части, собирал и пускал в ход самодельные установки и упрощенные испытательные машины для разрыва, сжатия, изгиба образцов и ударных испытаний. За более сложные машины и станки мы часто расплачивались с заводами своей работой по их заказам.
Государственный карман мы берегли, старались пореже обращаться к нему и с удовольствием отмечали, что хоздоговорные средства института неуклонно растут. Со временем они достигли миллиона рублей и вдвое превысили утвержденный академией бюджет.
Я старался вести дело так, чтобы институт ни от кого ни в чем не зависел и имел в своих стенах все необходимое для всесторонних научных исследований и внедрения их результатов в производство.
4. ПЕРВЫЕ ИСКАНИЯ
Основным, ведущим отделом института на первых порах его существования являлся отдел сварных конструкций.
Его по праву возглавил Борис Николаевич Горбунов, который еще в лаборатории академии все свое время отдавал сварным конструкциям. Это была его излюбленная тема. Горбунов издавна тяготел к теоретическим вопросам и с особенным увлечением и удовольствием занимался различными сложными расчетами.
Серьезный ученый, с большими и глубокими познаниями, но с несколько «академическим» складом ума, он способен был увлекаться отвлеченными вопросами. Я же предпочитал такие теоретические темы, которые могут быть применимы практически. В работе этого отдела я принимал самое непосредственное участие, и мы с Борисом
Николаевичем хорошо дополняли друг друга. Жили мы и работали дружно.
Отдел продолжил в еще больших масштабах начатые нами ранее испытания прочности сооружений. Часто по институтской железнодорожной ветке в усадьбу закатывались платформы с молотилкой, недавно сошедшей с конвейера завода, рамами комбайнов, тележками пульмановских вагонов, балками моста.
Вибрационные испытания обычно бывали длительными и причиняли уйму неприятностей жителям окружавших институт домов. Если то или другое здание попадало «в резонанс», то уже ни о каком покое там мечтать не приходилось: в квартирах все сотрясалось, дрожало, дребезжало.
Сначала к нам посылали делегации для дипломатических переговоров, потом на нас в изобилии начали сыпаться жалобы в горсовет, в академию. Что мы могли поделать? Но когда при испытании четырехосного вагона «в резонанс» попал соседний шестиэтажный дом, его жильцы сумели наделать много шума. Мне было категорически предложено выселить свои «скандальные» машины куда-нибудь на лоно природы, подальше от центра города.
Нам тоже основательно надоела война с соседями, и мы охотно перекочевали на левый берег Днепра. В Дарнице были построены два специальных стенда для вибрационных и ударных испытаний, и на нашей улице наступили мир и тишина…
Первой крупной работой отдела сварных конструкций было экспериментальное исследование сварных балок, подвергаемых пластической деформации при повторной нагрузке.
За границей, например в Германии, эти опыты проводились на маленьких лабораторных образцах. Мы же испытывали «живые» конструкции и в условиях, близких к действительным. Экспериментальные данные подтвердили, что предложенный нами новый метод расчета позволяет облегчить некоторые элементы сооружений, например балки, рамы, и дает значительную экономию металла.
Вокруг этого вопроса шли большие споры.
Как-то на всесоюзном совещании сварщиков мне довелось встретиться с одним иностранным гостем — крупным немецким специалистом, и вступить с ним в острую дискуссию. Я приводил факты, результаты экспериментов, но гость относился к ним пренебрежительно и даже иронически:
— Очень сомневаюсь в выводах господина Пато-на из его исследований. Во всяком случае, уверен, что ничего реального они на практике не дадут. У нас, в Германии, господствует мнение о том, что для вибрационной нагрузки сварка вообще не годится.
Это мнение, как сообщил наш критик, активно поддерживают на его родине представители металлургических концернов.
О причинах этой поддержки немецкий ученый, конечно, умолчал, но догадаться о них было нетрудно: владельцы концернов никак не заинтересованы в экономии металла при сооружении конструкций, ведь такая экономия привела бы к существенному сокращению заказов.
— Не поэтому ли немецкие нормы 1933 года огульно запрещают применение сварки при вибрационной нагрузке? — спросил я гостя.
Он предпочел неопределенно пожать плечами.
Каждый из нас остался на том совещании при своем мнении, а я, вернувшись в Киев, приступил к исследованиям в более широком масштабе.
Мы стремились изыскать наиболее удачные типы сварных соединений и добиться их большей прочности при вибрациях. Свои мысли, свои предложения мы проверяли на таких экспериментах, которые должны были убедить самых заядлых скептиков.
Например, для сравнения вибрационной прочности сварных и клепаных конструкций мы испытали до разрушения два одинаковых по размеру пролетных мостовых строения — одно клепаное, другое сварное, — специально изготовленных для нас на заводе «Большевик».
Выводы были полностью в пользу сварного строения, и я сожалел, что не могу с ними наглядно познакомить своего высокомерного критика из Германии. Надеюсь, ему попались на глаза мои работы, где излагались результаты этого исследования.
Мы, как институт, только начинали свою жизнь, но практики-сварщики не хотели считаться с нашим возрастом, не давали на него скидок и требовали прямых ответов на свои жгучие вопросы. Причем непременно в короткие сроки!
Самым неотложным и одним из наиболее важных в теории и практике сварочного дела был вопрос о том, как бороться с усадочными напряжениями и деформациями, вызываемыми при сварке местным нагревом металла.
Эти и по сей день досконально не изученные явления были настоящим бичом сварки. Фермы, балки и колонны, изящно начерченные карандашом конструктора на ватмане, после сварки нередко принимали самые причудливые и неожиданные формы.
Я поручил заняться этой темой группе молодых сотрудников института. И они провели много кропотливых теоретических и экспериментальных работ для выяснения природы усадочных напряжений и сварочных деформаций и их влияние на прочность, на долговечность конструкций. Вскоре мы уже могли рекомендовать производственникам некоторые реальные методы борьбы с этими явлениями и предостеречь их от псевдоноваторских и более чем сомнительных приемов, практиковавшихся до этого на некоторых заводах.
Правда, понадобились многие годы, пока советская сварочная наука смогла дать наиболее полный ответ на все эти острые вопросы. Настойчивые искания продолжаются до сих пор и у нас в институте и в других научных учреждениях страны.
Немалым злом, например, были трещины в сварных швах. Приезжаешь на завод — сразу на тебя сыплются жалобы и вопросы:
— Замучили нас эти проклятые трещины! Что делать, как избавиться от них?
— Мы пробовали и то, и другое, и третье, а результатов никаких. Нашли вы у себя в институте какое-нибудь средство?
Я весьма неловко чувствовал себя, когда не мог тут же, на месте, дать дельный практический совет.
Прежде всего нужно было нам самим разобраться в причинах возникновения трещин. Мы долго искали, ошибались, путались, и все же в конце концов удалось выяснить, откуда берутся трещины и в самих швах и в металле изделия. Знаешь причины болезни— легче найти лекарства!
Теперь уже не стыдно было смотреть в глаза заводским сварщикам. Предложенные нами меры борьбы с трещинами в швах подхватывались ими буквально на лету. Конечно, это были только первые шаги! За прошедшие с тех пор почти два десятилетия и мы сами и другие ученые-сварщики далеко ушли вперед в этом деле, но в любом современном труде на темы борьбы с трещинами можно найти ссылки на то, что делалось институтом в пору его рождения…
Вряд ли подозревал кто-нибудь из тех, кого я в начале тридцатых годов в своих устных и печатных выступлениях критиковал и ругал за пренебрежение к сварке, что самого строгого критика она имела в моем лице.
Как же это понимать? Пропагандист сварки и в то же время ее критик? В действительности тут никакого противоречия не было. Постараюсь объяснить, в чем тут дело.
Что мне самому не нравилось в сварке, вернее, в ее тогдашнем состоянии? Пусть не покажется странным ответ на этот вопрос: то же, что и в клепке! Не нравилось то, что электродуговая сварка представляет собой медленный ручной процесс.
Но разве сварка не была громадным шагом вперед? Да, конечно, но только в сравнении с чем? С клепкой! А я хотел сравнивать и сравнивал с другим: с теми огромными возможностями, которые заложены в идее применения электрической дуги для соединения металлов, с той еще мало использованной мощью, которая таится в этой дуге!
Уже в первые годы моих занятий сваркой мне бросилось в глаза это противоречие: самый передовой, самый Производительный способ неразъемного соединения металлов, а на практике — скорость сварки не превышает трех-четырех метров в час. Как и некогда, во времена Славянова, сварщик продолжал и сейчас оперировать электродом вручную, капля за каплей медленно наращивая шов.
Вся моя душа протестовала против такого технического несовершенства. Ведь это то же самое, что заставить богатыря орудовать ивовым прутиком!
Бывая в 1930–1932 годах на заводах, я часто останавливался возле сварщиков и подолгу наблюдал за ними. Ручной сварщик — рабочий высокой квалификации. Его готовят долго и кропотливо, по окончании учебы ему выдают диплом и время от времени подвергают строгой экспертизе: «Не потерял ли руку?» На производстве принимаются всевозможные меры по охране труда сварщика, но все же он поставлен там в трудные условия. Работать приходится часто в неудобной позе, низко пригнувшись, а иногда и скорчившись в три погибели. Толстый брезентовый костюм и щиток или шлем с темными стеклами — защита от слепящего света дуги и огненных брызг металла — сковывают движения. Как бы хорошо ни была налажена вентиляция в сварочном цехе, вредные раскаленные газы все же затрудняют, а иногда и забивают дыхание.
Не отрывая руки с электродом от свариваемого изделия, рабочий непрерывно и напряженно следит за Каждым своим движением, — ведь все время нужно удерживать дугу на равном расстоянии от шва.
От умения сварщика, от его внимательности, выносливости, даже от его настроения зависит качество шва, прочность, надежность конструкции. Сварщик вынужден часто отдыхать, но все же устают руки, глаза, спина. Неудивительно, что к средине дня движения его замедляются, внимание ослабевает, а качество и однородность шва неизбежно снижаются.
Я смотрел и каждый раз думал: какой тяжелый ручной труд и какая низкая производительность в сравнении с тем, что способна и может дать электросварка в условиях современной техники!
Ситуация была довольно сложная. Мы боролись за распространение сварки в ее тогдашнем виде, и мы же лучше других сознавали ее крупные минусы. Мириться с этим я не хотел и не мог. И уже в 1930 году мы начали серьезно задумываться над тем, что единственный выход — в механизации сварки. Только механизация принесет резкое повышение производительности труда. Руку сварщика должен заменить безотказно действующий механизм, который работал бы автоматически и лишь управлялся и направлялся человеком!
Что происходит во время сварки? Под действием тепла электрического разряда конец электрода непрерывно плавится, и жидкий металл переходит в шов. Следовательно, нужно все время придвигать электрод к изделию, не допуская, чтобы дуга удлинялась или укорачивалась. В этом главным образом и состоит искусство ручного сварщика! Ну, а возможно ли создать автомат, способный с такой же чувствительностью поддерживать и управлять плавлением металла?
На этот вопрос принципиальный ответ дали много лет назад Николай Николаевич Бенардос и Николай Гаврилович Славянов.
В бумагах Бенардоса сохранились чертежи станков для автоматической сварки различных металлических изделий. Вот над чем уже тогда задумывался изобретатель! В опытах Славянова электрод подавался к месту сварки специальным механизмом, названным им электроплавильником.
Наши выдающиеся предшественники как бы благословляли нас на новые искания и вооружали в путь-дорогу своими смелыми мыслями и опытами. И с первых же дней основания нашего института в нем был создан отдел механизации сварочных процессов.
Мы вели поиски в нескольких направлениях, и в этот отдел входили сначала две группы: группа автоматической сварки металлическим электродом и группа атомно-водородной и угольной сварки. Позднее появилась и группа контактной сварки.
У каждой из этих групп было не только свое направление в работе, но и своя судьба.
Мало радовала нас, например, группа атомно-водородной сварки. Хронической болезнью группы являлось стремление работать в тепличных условиях лаборатории на идеально подогнанных, образцах. Неудивительно, что все ее «достижения» лопались, как мыльный пузырь, при первом же соприкосновении с жизнью, с действительностью. К тому же группу вначале составлял… один, да еще и очень медленно работающий сотрудник.
Наибольший «след» в истории института эта группа оставила, пожалуй, тем, что как-то при одном из опытов произошел взрыв, и крыша лаборатории (опыты проводились в небольшой пристройке), к восторгу мальчишек нашей улицы, была заброшена в соседний двор…
Более серьезный характер носила работа группы контактной сварки. Наша промышленность была тогда еще бедна контактными машинами, предприятия требовали от института поскорее создать их, а нам приходилось начинать с азов.
Товарищи из этой группы сразу взяли курс на практические нужды промышленности, приступили к конструированию аппаратов для точечной, шовной и стыковой сварки вагонов и рельсов, к разработке технологии, к научным исследованиям на важные темы. Однако их стремление во что бы то ни стало автоматизировать все процессы не привело к успеху. Первая спроектированная ими машина так и не была доведена до завершения, а вторая, видимо, не пришлась по вкусу заводам и осталась неосвоенной.
Почему и здесь нас преследовали неудачи? Беда была в том, что и эта группа состояла всего из трех человек, причем двумя из них были вчерашние студенты. Сил институт имел еще мало, а мы к тому же распыляли их. Да и мастерской нашей было тогда не по плечу изготовление сложных контактных машин.
На первый план все больше выдвигалась группа автоматической сварки металлическим электродом. Будущее показало, что именно ей суждено было оказаться на главном направлении нашей работы.
От сварочной лаборатории эта группа получила драгоценное наследство: нашу первую автоматическую головку — прямую «родственницу» электроплавильника Славянова.
Подобные механизмы появились и за рубежом. Но они отличались чрезвычайной сложностью, были недостаточно надежны в работе, и мы решительно отказались копировать заграничные образцы.
Наш оригинальный автомат выполнял все операции, производимые ручным сварщиком: возбуждал дугу, поддерживал ее постоянную длину и напряжение, подавал проволоку в зону сварки, заделывал кратер в конце шва. Передвижение головки вдоль изделия было механизировано. В короткий срок она наглядно показала свои достоинства: в сравнении с ручной сваркой ее производительность была втрое большей! Если сварщик за час расплавлял один килограмм электрода диаметром в 5 миллиметров, то автомат мог расплавить около трех килограммов.
Конечно, мы сознавали, что находимся в самом начале пути, что перед нами еще не раз встанут десятки мучительно неясных и запутанных вопросов, что сконструированная нами автоматическая головка далека от совершенства. К слову сказать, на нее было много нападок, несправедливых и справедливых.
Первые мы отвергали, ко вторым внимательно прислушивались, но от нашего изобретения не отказывались.
Украинский автогенный трест стал на нашу сторону и заказал в одной из школ ФЗУ Киева сразу сто сварочных головок предложенного институтом типа. В тресте справедливо считали, что самым лучшим испытанием будет проверка в цехах, на рабочих местах. Она обнаружит и сильные и слабые стороны механизма.
Правда, лишь одна партия головок была изготовлена по чертежам первоначальной модели. Это вполне естественно, — мы непрерывно работали над упрощением конструкции с тем, чтобы наладка и управленце были доступны сварщику средней квалификации. За первой моделью последовали вторая, затем и третья. Тем, кто ратовал за иностранные головки, мы могли теперь противопоставить убедительные результаты испытаний на Горьковском автомобильном заводе. Здесь имелось много заграничных головок различных систем, но когда провели сравнительные испытания, сварочная головка нашего института оказалась победительницей. А сварку тонкого металла она производила даже со скоростью ста метров в час! Модель эта получила признание как лучшая из всех головок, она укоренилась в практике и просуществовала вплоть до Великой Отечественной войны.
Созданием сварочных головок занимались в стране не мы одни, много и плодотворно работал над их конструированием и выпуском ленинградский завод «Электрик». Но это был завод, а не научный институт, завод электротехнический, и от него нельзя было требовать, чтобы он такое же внимание, как головкам, уделял сварочным станкам и технологии сварки.
От него нельзя было требовать, а от нас можно и должно было! И мы стремились все вопросы решать комплексно.
Теперь мы не могли больше довольствоваться двумя-тремя конструкторами в отделе механизации. Нам нужно было самостоятельное и сильное проектное бюро, способное на смелые искания, на собственные оригинальные решения. Без этого нечего было и мечтать о создании более совершенных станков, приспособлений и аппаратуры.
Долго мне не удавалось найти подходящего человека, которому по плечу пришлось бы руководство таким бюро. Наконец его возглавил Платон Иванович Севбо, инженер-механик с большим стажем, человек вдумчивый и серьезный. На него можно было положиться.
Вручая Севбо бразды правления, я прямо сказал ему:
— Будет трудно. Работы много, а опыта почти нет. Я придаю вашему бюро большое значение. От него будет зависеть, сумеем ли мы внедрить автосварку в производство. С нынешним штатом вам дела не вытянуть, расширяйте бюро, подыскивайте себе людей.
Трудностей Севбо не испугался, за дело взялся горячо, но советам моим вначале не внял и продолжал работать с тем же маленьким штатом.
Я упрекал его в этом, предупреждал, что бюро может легко стать узким местом института. Платон Иванович доказывал свое:
— Поймите, Евгений Оскарович, хороших конструкторов для наших целей взять негде. Никто не знает сварки.
. — Но ведь и вы ее сначала не знали! — возражал я. — Готовеньких людей для нашего бюро действительно нет, но они сами не упадут с неба. Приглашайте В институт молодых, только что окончивших механиков и инженеров и обучайте их на работе. Трудно это? Да. Но другого выхода нет.
Уломать Севбо оказалось нелегко, но когда он поверил в мою правоту, в конструкторском бюро стало появляться все больше талантливой молодежи. Сначала новички изрядно «плавали», сомневались в себе, но со временем пришли и знания и уверенность.
В работе отдела было немало неудач, ошибок, но много было и достижений. Первые наши станки для автосварки получились громоздкими и сложными в эксплуатации. Сколько труда мы потратили на то, чтобы придать им промышленный вид!
Но если поставить рядом колоссальный портальный сварочный станок с мощными колоннами, сложнейшим переплетением зубчаток, валов и маховиков и маленькую изящную самоходную сварочную головку и сказать, что эти «слон» и «моська» выполняют одни и те же функции, то сразу станет ясным, что время не было потрачено зря. 180 рабочих проектов станков для автосварки балок, колонн, цистерн, вагонов, котлов и прочего, а также оригинальной аппаратуры— это не так уж мало.
Головки… Станки… Аппаратура… Всего этого нет при ручной сварке. А вот какой должна быть электродная проволока? Должна ли она чем-либо отличаться при автоматической сварке? Мы попробовали вначале голую проволоку. Это сразу же вызвало массу неприятностей: дуга горела неустойчиво, механические свойства шва не могли удовлетворить ни нас, ни заводы. Мы ломали голову над тем, как избавиться от влияния магнитных полей, пробовали различные хитроумные приспособления, создающие компенсирующее магнитное поле, но, увы, все эти ухищрения себя не оправдывали.
Необходимо было радикальное решение вопроса. Мы стали искать покрытия для проволоки, которые сделали бы горение дуги более стабильным.
При ручной сварке для этой цели применяют меловую обмазку, для автоматов же, как показали наши многочисленные опыты, она не годилась. Мы поставили целый ряд экспериментов и вскоре смогли предложить три новых типа качественной обмазки и для производства такой толсто обмазанной электродной проволоки сконструировали специальные станки. Эти покрытия были уже куда более совершенными.
Теперь мы могли подвести некоторые итоги. Надежно работающая сварочная головка имеется, требования к химическому составу проволоки установлены, стабилизирующее покрытие для нее найдено, технология автосварки в основных чертах разработана и испытана, конструкторское бюро встало на ноги и успешно проектирует установки для сварки различных изделий. Мы могли считать, что задача создания автоматической сварки решена институтом воистину комплексно. Это было поставлено нам в заслугу приказом Народного комиссара тяжелой промышленности в мае 1936 года. Мне как директору института в этом приказе объявлялась благодарность. Наша работа отмечалась в лестных словах и на конференции по автоматической сварке, состоявшейся в Киеве в том же году. Наконец, и самое главное, наши сварочные установки появились и начали действовать на нескольких заводах.
Казалось бы, только радоваться да радоваться, и если не почивать на лаврах, то уж, во всяком случае, считать, что остается только совершенствовать и развивать найденное. Но на самом деле мы были еще далеки, очень далеки от цели… И вот в наши дела и планы властно вмешалась жизнь.
5. ИНСТИТУТ СОРЕВНУЕТСЯ СО СТАХАНОВЦАМИ
В первых числах сентября 1935 года вся страна узнала имя Алексея Стаханова, до тех пор никому не известного донецкого забойщика с шахты «Центральная-Ирмино».
Все прежние понятия о производительности труда были сразу опрокинуты. Первая же искра разгорелась с удивительной быстротой; на сотнях и тысячах заводов, фабрик, шахт, рудников, на колхозных полях — всюду появились последователи Алексея Стаханова. Его собственные рекорды были уже не раз побиты другими шахтерами.
Я чувствовал, что в стране, в нашей жизни рождается что-то новое и очень важное. Я внимательно следил за газетными сообщениями и не сомневался, что вскоре мы услышим и имена стахановцев-сварщиков. Конечно, так оно и случилось, и случилось очень скоро. Если рекорды сталеваров, кузнецов или ткачих радовали меня, как всякого советского человека, то здесь присоединялось еще и чувство особой заинтересованности.
Я читал о том, что то тут, то там стахановцы-сварщики круто ломают прежние нормы, в печати назывались цифры, менявшие старые привычные представления о возможностях ручной сварки.
«Неужели это достигается только за счет лучшей организации труда и более полного использования рабочего времени? — раздумывал я. — Мало правдоподобно. У этих передовых рабочих должны быть какие-то свои, новые производственные приемы, какие-то существенные поправки к прежним методам использования сварочной техники».
В первых газетных заметках было мало подробностей. Я решил устроить в институте встречу киевских стахановцев-сварщиков с нашими сотрудниками, поставить их, да и самого себя, лицом к лицу с тем новым и смелым, что так бурно рождала жизнь.
Нашими гостями были сварщики с Юго-Западной железной дороги. Они заметно смущались, входя в конференц-зал: ведь им впервые приходилось переступать порог научно-исследовательского института. Подобные встречи тогда еще были в новинку.
Открывая совещание, я прямо обратился к стахановцам:
— Обычно, товарищи, в прошлом мы приезжали на заводы и в мастерские, и нам задавали десятки вопросов. Мы надеемся и в дальнейшем быть вам полезными. Но сегодня нам с вами предстоит поменяться ролями. На этот раз вопросы будем задавать мы. Сегодня мы не учителя, а ученики! И мы просим вас, товарищи, не робеть перед громким званием нашего института, пришло время ученым идти на выучку к вам, передовым практикам.
Видимо, эти слова возымели свое действие. Наши гости один за другим начали подниматься на трибуну, и в их выступлениях уже не чувствовалось следа прежнего смущения или робости перед сидевшими в зале работниками института и инженерами-сварщиками Киева, которых мы также пригласили на встречу.
Первые же выступления стахановцев подтвердили мои догадки о том, что их рекорды достигаются не только за счет лучшей организации труда и рабочего места.
— Все дело в повышении силы тока, только в этом! — уверенно заявил сварщик с Киевского паровозоремонтного завода. — Доведешь ток до четырехсот ампер — и сразу выработка повышается вдвое.
— Мысль совершенно верная, — бросил реплику я, — а как вы этого добиваетесь?
— Тут путь один, — ответил стахановец, — применяем более толстые электроды, в полтора-два раза толще обычных. Идея как будто нехитрая, а результаты замечательные.
Я не расставался с карандашом, записывал все, что было интересного. Получалось, что все стахановцы избрали в общем один и тот же путь: смелое повышение силы тока. Каждый пробовал, искал самостоятельно, но все пришли к одному и тому же.
Я делал свои заметки и думал: «Да, только на этом пути и мы можем двигаться вперед. Иначе…»
И, словно заканчивая мою мысль, как раз в эту минуту сварщик из киевского депо обратился с трибуны прямо ко мне:
— Не обижайтесь на нас, Евгений Оскарович, но раз уж пришлось вот так встретиться, скажу вам просто, по-рабочему: пока нас, таких, что дают вдвое против нормы, еще мало. Но завтра, будут сотни, а то и тысячи. Как бы не получилось, что догоним мы ваши автоматы, а там, чем черт не шутит, и оставим их позади. Не грех бы над этим подумать нашим товарищам-ученым, пока есть время…
Я первым зааплодировал этому человеку, а за мной все присутствовавшие. Сказано было и сильно и верно.
После этой встречи со стахановцами я серьезно задумался.
Что и говорить, автоматическая сварка попадала отныне в затруднительное положение! Меня и раньше не на шутку тревожил тот факт, что лишь небольшая часть наших сварочных головок действует и варит в цехах. Многие из них лежали на складах, внедрение их шло крайне медленно, работающие автоматы насчитывались единицами.
Мы знали, что иные заводские руководители отказываются строить сложный и дорогостоящий станок и предпочитают вместо него поставить двух-трех ручных сварщиков. Я говорил своим сотрудникам:
— В самом деле, кому же нужны будут наши установки, если один стахановец сможет заменить автомат?
На это мне возражали:
— Но автосварка имеет свои неоспоримые преимущества, прежде всего более высокое качество шва и облегчение труда рабочих.
— Это, конечно, верно. Но вот другое ее преимущество — более высокая производительность — уже утеряно или вскоре будет утеряно. Зачем закрывать глаза на факты? Электрод в руках стахановца становится серьезным соперником автомата.
В личных беседах с сотрудниками, на собраниях в институте я твердил одно и то же:
— Мы поставлены перед выбором — сдаться без боя, признать свое поражение или вступить в открытое соревнование со стахановцами.
Моя тревога передавалась многим. Но не все товарищи у нас в институте понимали остроту обстановки.
Некоторые недальновидные люди убаюкивали себя тем, что раз на нашей стороне качество швов, то и особенно волноваться пока не из-за чего. Они самообольщались таким, например, соображением: стахановцы в своих рекордах достигли пределов возможного, а у автоматической сварки все еще впереди.
Я в лицо называл этих людей «медлителями» и прямо предупреждал их:
— Равнодушие, глухота к сигналам жизни могут нам дорого обойтись! Разве это привилегия одних лишь стахановцев — работать электродами увеличенного диаметра при повышенной силе тока? Почему автомат не может варить по-стахановски?
В то же время жизнь выдвинула перед нами еще одну весьма сложную задачу. Заводы, выпускавшие ответственную аппаратуру, рассчитанную на высокое давление, настойчиво требовали в своих письмах: «Механические свойства швов должны быть улучшены. Найдите, придумайте, как это сделать!»
Ручная сварка немедленно отозвалась на призыв практиков. Советские ученые создали для нее электроды с высококачественными покрытиями, это, в свою очередь, дало возможность повысить сварочный ток.
Получалось, что ручные сварщики били нас и в этом деле. А нам нечего было и думать, применяя по-прежнему при автосварке голую проволоку или одни лишь стабилизирующие покрытия, ответить на справедливые претензии промышленности.
Я так сформулировал цель, возникшую перед нашим научным коллективом:
— Нам необходимо одновременно решать двуединую задачу: резко увеличить сварочный ток и создать для автоматов электродную проволоку с высококачественной толстой обмазкой. Нужно отдать себе отчет в том, что груз старых взглядов тянет нас назад. Единственное спасение — смело, без оглядки отрешиться от них, научиться мыслить другими мерками.
После этого мы провели сложные и всесторонние исследования, в подробности которых я тут входить не буду, и впервые повысили токи вдвое — до 500 ампер и применили электроды необычного для нас диаметра — до 8—10 миллиметров.
Наконец-то я видел реальные перспективы для движения вперед.
Но тут возникли новые и, как вначале казалось, непреодолимые трудности.
Как подвести ток к толсто обмазанной проволоке?
Над этим ломали голову все. При ручной сварке задача решается совсем просто, там с этой целью конец стержня-электрода оставлен голым. А в автомате проволока подается непрерывно из бухты.
Какие только варианты мы ни пробовали, к каким только методам ни прибегали, всего не перечислить… И только после долгих поисков и вариаций к нам пришла первая удача. Проволока, нагретая электричеством, прокатывалась в специальном станке, где ей придавался крестовый профиль, а в другом станке опрессовывалась обмазкой. Выступающие четыре ребра проволоки обеспечивали непрерывный подвод сварочного тока. Крестовая проволока позволяла вести сварку на токе 350–450 ампер при диаметре электрода в 6 миллиметров. Большой шаг вперед! Этот тип проволоки получил признание на ряде крупных предприятий, в том числе на заводе «Красный Профинтерн». Институт разработал для этого завода полный технологический процесс автоматической сварки цистерн, проекты всех необходимых станков и проект потока на всех операциях, вплоть до испытания 50-тонных цистерн водой.
А соревнование наше со стахановцами продолжалось, проходило через все новые этапы. Новаторы догоняли нас, наступали нам на пятки, подхлестывали, мы же старались выжать все, что могли из своих автоматов, и «оторваться от соперников».
Иногда мы менялись ролями: первую тропку прокладывали стахановцы, и догонять приходилось нам. Передовые ручные сварщики, например, уже умели работать электродами диаметром в 10 миллиметров, для нас такие диаметры были недоступны. А необходимость в этом была самая острая: на заводах переходили к сварке все более толстых листов металла. При ручной сварке тут не возникало особых осложнений. А вот нам приходилось туго: проволоку диаметром больше 6 миллиметров уже трудно сворачивать в бухты.
Мы попробовали подойти к делу иначе — производить сварку длинными и толстыми стержневыми электродами. Казалось, мы добились цели: скорость сварки выросла в три — три с половиной раза. Но, увы, победа эта была обманчивой. Испытания качества швов принесли нам разочарование: рекомендовать свои стержни для сварки ответственных конструкций мы не могли.
Как это ни печально было, а приходилось признаться самому себе, что дальнейшее повышение производительности автосварки открытой дугой за счет повышения тока исключено. В этом направлении все наши возможности исчерпаны.
Сознание того, что мы подошли к какому-то пределу, глубоко тревожило меня. Я не мог обманывать и успокаивать себя тем, что внешне все обстоит благополучно. Мне говорили:
— Институт никто не ругает, наоборот, даже похваливают. Наркоматы и Президиум Академии наук УССР объявляют нам благодарности, в нашем активе договоры со многими заводами. Все не так уж плохо.
Но я видел, что перед нами возникает угроза тупика, хотя за плечами у нас месяцы, годы беспрерывных исканий, опытов, исследований. Я, конечно, не считал, что мы проработали впустую. Интуитивно я чувствовал, что в дальнейшем весь накопленный опыт не должен пропасть. Но что же такое это «дальнейшее»?
Я не раз говорил своим ученикам, тем, кто разделял мое чувство беспокойства:
— В своем стремлении повысить силу тока мы подошли к черте, за которой начинаются такие потери в качестве, что на нет сводится весь выигрыш в производительности. Это мы все признаем. Но если на старом пути некуда больше двигаться, надо оставить его и выбираться на новую дорогу. Где же она? Вот этого мы с вами как раз и не знаем. А должны узнать!
А сам думал: «Даст ли нам жизнь время на то, чтобы в неторопливом ритме работы академического научного учреждения нащупать правильное решение?»
Я в этом не был уверен.
И очень скоро произошло то, чего я опасался больше всего. Мы дождались весьма неприятного инцидента.
Появилась опасность, что жизнь просто пройдет мимо нас, оставит нас в стороне.
В 1938 году вагоностроительный завод в Нижнем Тагиле обратился к нам с просьбой разработать проект установки и технологию автоматической сварки продольных балок большегрузных железнодорожных платформ. Все в институте чувствовали себя именинниками, откровенно гордились этим предложением:
— Значит, мы завоевали признание далеко за пределами Украины, нас знают, в нас верят!
Меня радовало, что заказ прибыл с крупнейшего завода, располагающего самым современным оборудованием. Ручная сварка имела на нем очень широкое применение. И вот открывалась возможность начать ее вытеснение сварочными автоматами.
Заманчивая задача!
Проект установки, выполненной нашими конструкторами в самый короткий срок, всем в институте понравился. Мы надеялись, что и уральские вагоностроители похвалят его. Отправляя на завод чертежи и инструкции по технологии сварки, я сопроводил их письмом, в котором писал:
«Просим вас, товарищи, сразу же сообщить, как проявила себя установка в работе, какую дает производительность, как с качеством швов, каковы результаты лабораторных анализов. Все это нас очень интересует».
Но за неделей проходила неделя, за месяцем месяц, а с завода мы не получали ни слова.
Это молчание начало тревожить меня. Я стал подозревать что-то неладное. Прошло слишком много времени!
Я не выдержал и снова написал на завод: так, мол, и так, дорогие товарищи, вы сами обращались к нам, интересовались автосваркой, договор подписывали, торопили, подгоняли, а теперь даже не сообщаете о производственных результатах. В чем же дело?
А дело, как выяснилось из ответного письма, было в том, что чертежи нашей установки лежали без движения. Они устарели прежде, чем их получили на Урале.
Товарищи сообщали:
«Скорость сварки, предусмотренная проектом, — десять метров в час — нас уже не устраивает. Пока шла переписка между заводом и институтом, пока у вас в Киеве создавались чертежи, стахановцы-сварщики нашего завода почти вдвое обогнали будущий институтский автомат».
На заводе подумали-подумали и решили, что нет смысла в установке, производительность которой уже принадлежит вчерашнему дню.
В этом же письме уральцы сообщали и о своем мастере — стахановце Силине. Силин первым на заводе применил сварку наклонным электродом и, сам того не подозревая, походя похоронил наш проект.
Завод не отказывался от дружбы с институтом, Более того, он призывал нас создать установку, которая варила бы со скоростью вдвое-втрое большей, чем это предусматривалось раньше. Если мы беремся, завод готов заключить с институтом новый договор.
Письмо это ошеломило меня.
Горький, очень горький, но заслуженный урок!
Несколько раз я перечитывал письмо и испытывал чувство жгучего стыда:
— Что ж, очень неприятно проглотить такую пилюлю, но от правды никуда не денешься. Товарищи полностью правы, и нужно разобраться поглубже в том, что произошло.
Никому не известный уральский мастер и специальный научно-исследовательский институт вступили в негласное соревнование. Арбитром в нем была жизнь. Победил стахановец. Победил прежде всего потому, что ближе стоял к жизни и быстрее нас сумел отозваться на ее требования.
Конечно, его победа возникла не на голом месте, она подготовлена всем развитием советской сварочной науки и стахановского движения. Кстати, и тот метод, который избрал Силин (наклонный электрод), я не считал наиболее удачным. Я был по-прежнему убежден в том, что решающие победы электросварке принесет все более полная ее механизация.
И все же факт оставался фактом: успех Силина и его товарищей на этом и других заводах — это не что иное, как прямая критика нашего отставания. Это относится и ко мне. Да, слишком долго я терпел всякие отговорки и ссылки на то, что «прежде всего качество», а скорость, производительность приложатся, так сказать, со временем…
6. НА ВЕРНОМ ПУТИ
Я еще, и еще раз обдумывал пути, по которым мы до сих пор двигались. Мы ни одного дня не знали покоя, искали, экспериментировали, шли на выучку к практикам, но, увы, результаты всей этой большой и напряженной работы оказались недостаточными.
Так я пришел к выводу, что в нашей борьбе за производительность автосварки мы часто распыляли свои усилия на мелкие, частные задачи.
— Где же главная задача?
— Нужен сварочный ток не в сотни, а в тысячи ампер! Вот тогда-то будет достигнуто резкое увеличение производительности автоматов.
Но чтобы подвести ток такой силы к электродной проволоке, подвести к самому ее концу, нужно освободить проволоку от обмазки.
В институте разгорелись ожесточенные споры и дискуссии:
— Назад к голой проволоке? Не будет ли это отступлением от того, что уже достигнуто?
— Нет, не будет! Принципиально мысль правильная. Но если отказаться от обмазок, где же взять другую защиту от воздуха, от разбрызгивания металла?
— Вот именно! Ведь это и есть тот камень преткновения, который не удается обойти и ручным сварщикам, когда они пытаются поднять силу тока выше пятисот ампер.
— Как же выбраться из этого замкнутого круга? Ведь чем больше ток, тем больше разбрызгивание!
Тут следует напомнить, что одно из главных назначений обмазок — защищать расплавленный металл от воздуха. До сих пор мы привыкли считать покрытие электрода единственным средством для этого.
Сейчас всех в институте занимал один вопрос:
— Нельзя ли найти другой способ защиты от воздуха, который позволил бы оставить проволоку голой?
Искать такой способ долго не пришлось. Важно было выбраться на верную дорогу. Теперь наша коллективная мысль работала в нужном направлении, работала собранно, целеустремленно. От одного варианта мы шли к другому и вспомнили, наконец, об опытах наших соотечественников, изобретателей электросварки Николая Николаевича Бенардоса и Николая Гавриловича Славянова, об опытах с битым стеклом и об идее шлаковой защиты сварочной дуги.
Как все подлинно великое, эта идея поразительно проста.
Еще на заре возникновения электрической сварки Бенардос, а затем Славянов отметили, что для получения пластичного наплавленного металла необходимо защищать его шлаковым покровом и применять раскислители, например кремний или марганец. Еще в 1892 году в своей книге «Электрическая отливка металлов» Славянов прямо рекомендовал засыпать зону сварки толченым стеклом, то есть силикатом и ферросплавами.
Славянов не только подал эту замечательную мысль, он же первым доказал на практике ее исключительную ценность. Производя свои опыты, ученый погружал металлическую дугу в слой толченого стекла, который и был прообразом современного сварочного флюса.
Вчитываясь в эти сведения, я поражался. Почти пятьдесят лет тому назад Славянов дал науке то, чего мы сейчас напряженно искали!
Сотрудники спрашивали меня:
— Неужели целые десятилетия выдающееся открытие пролежало под спудом и никто не воспользовался мыслью Славянова?
— Трудно в это поверить. Нужно искать, — ответил я.
И вскоре мы нашли в литературе указания на то, что ученик Славянова, один из старейших советских изобретателей в области сварки — Дмитрий Антонович Дульчевский успешно продолжил опыты своего учителя.
Работая на транспорте, Дмитрий Антонович задумался над тем, нельзя ли применить электросварку при ремонте паровозных топок. Они изготовлялись в то время из красной меди, а за границей, да и у нас до той поры считали невозможной дуговую электросварку медным электродом. Вместо нее применяли сварку ацетилено-кислородную. Дульчевский не посчитался с этим. Он засыпал слоем угольного порошка дугу, горящую между медным электродом и таким же изделием, и изолировал все плавильное пространство от вредного действия воздуха. Эффект получился отличный, жизненность и практическая ценность идеи Славянова была снова доказана.
Мы довольно долго блуждали, пока, наконец, обратились к блестящей мысли Славянова, но зато теперь нашли ключ ко всей проблеме, так долго мучившей нас. Сейчас у нас все было подготовлено к тому, чтобы сделать последний, решающий шаг. Получалось, что наша прежняя работа над автоматической сваркой не была напрасной, в ней не хватало только окончательного, завершающего слова. Правда, слова очень важного!
Я уже не раз на своем опыте убеждался в том, что трудные и смелые задачи куда интереснее решать, чем задачи простые и мелкие. И пусть это не покажется парадоксом, — легче решать!
Когда человеку предстоит не через бугорок перевалить, а взять в науке штурмом крутую, недоступную вершину, он собирает, мобилизует, а затем отдает все лучшее, что в нем есть, он становится сильнее, умнее, талантливее. А значит, и работать ему становится легче!
Задача, которая стояла сейчас перед нами, была действительно сложной и трудной.
В институте началась совсем новая жизнь. Мысль создать способ автоматической сварки под слоем порошкообразного вещества — под слоем флюса — увлекла всех. Ясность перспективы, четкое понимание цели научной работы окрыляли нас и придавали нам и силы и смелость.
В конце лета 1939 года бригада из нескольких сотрудников приступила к первым лабораторным опытам. В эту бригаду я подбирал людей с особым разбором. Владимир Иванович Дятлов с 1935 года заведовал у нас отделом технологии. Это был образованный и энергичный человек, талантливый ученый, большой специалист по металлургии сварки. Он быстро завоевал авторитет и уважение, в институте своим глубоким и часто оригинальным подходом к
каждому исследованию. Антон Макеевич Лапин, также знаток металлургии сварки, обладал хорошими познаниями в области доменных шлаков. Это было очень важно для успеха задуманного дела. Ценным человеком для бригады являлся и лаборант Владимир Степанович Ширин с его многолетним опытом сварщика, находчивостью и умением быстро решать сложные технические задачи.
Эти люди всегда отдавались работе целиком, но сейчас и их нельзя было узнать.
Уже пустели все кабинеты и лаборатории, а эту тройку никак не удавалось выпроводить из института. Жены сначала роптали, но вскоре вынуждены были примириться не только с тем, что мужья совсем «отбились от дома», но и с воскресными побегами своих благоверных на квартиру к товарищу для подготовки новых расчетов и опытов.
— Верно ли, что вы забросили свое ружье? — как-то спросил я у Дятлова, который слыл страстным и заядлым охотником.
— Какое там сейчас ружье, — махнул рукой Владимир Иванович, — когда не дается в руки этот проклятый флюс.
Поиски флюса мы начинали с самого элементарного.
Славянов рекомендовал стекло, мы пошли по его стопам. Разбили обыкновенную бутылку, тщательно измельчили ее в порошок, засыпали им место сварки и включили сварочную головку.
Шов получился. Но что это был за шов! Корявый, бугристый, весь в порах и раковинах… Он, конечно, никак не мог удовлетворить нас.
Значит, одно лишь стекло не годится. Что же добавлять к нему? Готового ответа не было ни у кого. Начались поиски.
Вот когда оказалась кстати работа, проделанная нами в недавнем прошлом, над высококачественными электродами! Начиная ее, мы блуждали в потемках, и в подборе обмазок царила самая настоящая кустарщина и «интуиция».
С этим «научным знахарством» нельзя было мириться. Вскоре мы начали капитальные исследования влияния разных обмазок на химический состав и механические свойства шва. Они позволили нам осмысленно подходить к выбору покрытий, предвидеть изменения в составе металла шва и, зная, какой шов необходим, точно выбирать компоненты для покрытий.
Кухне, господствовавшей в подборе обмазок, был нанесен тогда первый удар.
Теперь, опираясь на этот опыт, мы уже не действовали вслепую.
Мы пробовали то один, то другой состав флюса, меняли входящие в него компоненты и их дозирование. Это была долгая, утомительная и весьма прозаическая работа, человеку со стороны она показалась бы крайне скучной. И выдержки и терпения она требовала немалого. Но зато у нас постепенно крепла вера в то, что флюс мы создадим.
Правда, швы, которые мы умели варить к концу 1939 года, были все еще неважными. Однако у нас уже не было сомнений в том, что нужного качества мы добьемся.
На всех совещаниях Дятлов заверял:
— Это только вопрос времени. Успехи еще слабоватые, но мы на верном пути.
Он был, конечно, прав. Но я все же опасался, что эксперименты могут изрядно затянуться. Часто от незнания все сначала кажется весьма простым и легким, но по мере «влезания» в работу задачи все усложняются, требовательность к самому себе возрастает, и это может иногда породить переход от уверенности и воодушевления к растерянности, к замедлению хода исследований. Этого тем более следовало опасаться, что одному из членов бригады были свойственны именно такая неуравновешенность, резкие колебания в настроениях.
Я всегда считал, что темп в научной работе играет большую роль.
Установить для себя точные, сжатые сроки — это значит заставить мысль работать энергично, напористо, целеустремленно. И, наоборот, неопределенность, расплывчатость в сроках выполнения темы нередко порождают вялость, леность мысли. Жесткий срок — это хлыст, который подгоняет и не дает распускаться, раскисать, выискивать «уважительные причины» для самооправдания.
Можно было просто назначить срок завершения работы и объявить его приказом. Это сделать легче всего. Я решил поступить по-другому. Я приготовил проект письма от института на Уралвагонзавод, в котором писал:
«Дорогие товарищи, мы учли вашу суровую критику, много поработали и сейчас беремся показать вам новый метод сварки. Институт обязуется создать установку и продемонстрировать заводу сварку со скоростью 30 метров в час, то есть втрое быстрее, чем до сих пор. Такой режим сварки даст заводу возможность выпускать в день гораздо больше балок, чем при сварке наклонным электродом».
Этот проект письма я зачитал на собрании научных сотрудников института. Сроки назначил довольно суровые:
— К весне 1940 года у нас должно быть готово все — флюс, переделанный станок, режим сварки.
— К 1 июня пригласить в институт представителей завода и показать им в действии установку для сварки закрытой дугой под флюсом.
Многие из сотрудников были сильно обеспокоены таким плотным графиком, возникли разногласия и споры. Но в конце концов мои предложения были приняты единодушно.
Конечно, я мог отправить письмо на Урал и без этого. Но я хотел, чтобы весь коллектив института почувствовал полноту ответственности. Внутренняя убежденность и вера всегда значат гораздо больше, чем формальная расписка в том, что с приказом начальства ознакомился.
Слово дано всеми, все и отвечают за его выполнение!
Уральцы наше предложение приняли. Оно понравилось им, к тому же товарищи ничем не рисковали: мы сами оговорили в письме, что завод выплатит нам по договору известную сумму только в том случае, если мы выполним все свои обещания.
Теперь бригада, занимающаяся сваркой под флюсом, и весь институт имели большой стимул:
— Завод ждет от нас реального дела, о неудаче не может быть и речи!
Июнь 1940 года стал в институте чем-то вроде боевого пароля.
Разработка флюса и технологии скоростной сварки велась со все большим напряжением.
Не только члены специальной бригады, но и все мы вместе с ними жили сейчас единой целью, единой задачей. Я стремился сделать так, чтобы как можно больше людей в институте помогали бригаде, ибо уже тогда не сомневался, что в скором времени всем сотрудникам суждено стать энтузиастами и знатоками автоматической сварки под флюсом. Я ведь знал по опыту, что если человек вложит хоть небольшую долю своего личного труда в рождающееся в науке новое дело, оно становится для него близким и дорогим, и он затем с огоньком и с душой отстаивает его и продвигает в жизнь.
Ошибки и неудачи не слишком огорчали меня. Если я видел, что из-за них у кого-нибудь из участников бригады опускаются руки, я всегда говорил такому сотруднику:
— Это не должно вас пугать. Когда вы создаете что-то новое, ошибки неизбежны, в этом нет ничего страшного.
— Да, но из-за них мы теряем время.
— Конечно, и это досадно. Но и ошибки полезны Они также учат, они помогают исключить неверные пути, а значит и приближают к цели, к единственно верному решению.
В то время мы получили американский технический журнал, в котором нас заинтересовала одна заметка.
Это была короткая информация размером в пол-колонки с рекламной картинкой. В этой заметке, а затем и в других статьях, американцы расписывали «открытый» ими новый метод сварки.
Сообщения были весьма туманными. В них говорилось, что с помощью этого нового метода удается увеличить скорость сварки и применить токи в три-четыре раза больше обычных.
Самая сущность метода в американских журнальных статья была, как говорят, «научно зашифрована». Указывалось только, что применяется защитное вещество, имеющее стекловидную форму. Состав этого вещества, разумеется, не приводился, не давались сведения и о скорости сварки.
Не было никакого сомнения: американцы просто-напросто использовали идею защитного флюса, выдвинутую и впервые реализованную русским ученым Славяновым еще в прошлом веке.
Американская фирма «Линде» получила патент на способ сварки под слоем сыпучих гранулированных веществ. Эту фирму, видимо, нисколько не смущало наличие книги Н. Г. Славянова «Электрическая отливка металлов», а также тот факт, что Д. А. Дульчевский свои опыты впервые описал еще в 1923 году. В 1927 году он получил справку о приоритете, а в 1929 году — советский патент на изобретение способа дуговой электрической сварки под слоем порошкообразных горючих веществ.
Таким образом, впервые изобретенный Славяновым и развитый Дульчевским способ сварки под флюсом официально был зарегистрирован как наше отечественное изобретение задолго до того, как фирма «Линде» получила свой патент…
Но этим дело не кончилось. Фирма «Линде» заявила в печати, что американский способ сварки под флюсом «Юнионмелт» ничего общего не имеет со сваркой по способу Н. Г. Славянова. Это, дескать, вовсе не дуговая сварка, здесь нет электрической дуги, и источником тепла служит расплавленный шлак, который при прохождении тока нагревается до высокой температуры. Эта версия выдвигалась, видимо, умышленно в целях маскировки.
В дальнейшем, в той части книги, которая относится к периоду Отечественной войны, я расскажу о том, как была опровергнута и эта теория.
7. ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСКАНИЙ
Свое обещание нам удалось выполнить. К концу мая 1940 года мы готовы были держать ответ перед заводом. Институт построил сварочный станок с необходимой аппаратурой, разработал флюс и технологию сварки.
Свой новый метод мы решили назвать «автоматической скоростной сваркой под флюсом». О том же, как окрестить флюс, у нас были различные мнения. Одним хотелось связать его с фамилиями отдельных сотрудников, другим — с названием института. Я предложил именовать наш первый флюс для автосварки АН-1. «АН» — расшифровывалось, как «Академия наук». Я считал нужным подчеркнуть роль и заслуги всей академии, которая еще десять лет назад поддержала мои начинания в области электросварки.
Десять лет…
Чего же мы добились за этот срок?
Я уже говорил о том, что рождение автоматической сварки под флюсом было в большой степени подготовлено нашей предыдущей работой. Это, бесспорно, так. Но именно то, что мы, наконец, выбрались на правильную дорогу, заставило меня самокритично просмотреть все, что делалось нами в прошлом.
Самым существенным недостатком работы института в ту пору я считал и сейчас считаю то, что он недостаточно сосредоточил свое внимание на одной центральной проблеме.
Мы подчас одновременно вели работу над множеством тем, мало между собой связанных. Иногда для одного сотрудника или небольшой группы людей подбирались занятия, соответствующие их подготовке и специальным знаниям. Разделы плана, его направление часто приспосабливались именно к особенностям того или другого человека.
Я уже приводил примеры бесплодного или малопродуктивного существования некоторых карликовых групп и лабораторий. Это было, с одной стороны результатом известной разбросанности, распыленности в работе, с другой стороны — неизбежным следствием того, что большинство наших сотрудников только совсем недавно сошло с вузовской скамьи, не оперилось еще, не нажило собственного опыта. Естественно, что эффект нашей деятельности в целом получался более скромным, чем он мог бы быть. К тому же далеко не все исследования имели реальное практическое значение.
Специализированный Институт электросварки создавался впервые, и мы только нащупывали стиль своей работы, искали, каким должно быть лицо такого своеобразного научного учреждения. Готовых образцов и рецептов взять было негде, только жизнь только практика могли направить нас на правильный путь. И здесь наряду с удачами неизбежны были, конечно, и промахи, ошибки.
Приведу один любопытный в этом отношении пример. В 1936–1937 годах мы увлеклись работой для нужд транспортного машиностроения, работой актуальной и крайне важной. Мы поставили себе цель: добиться уменьшения веса сварных вагонов и разработать научно обоснованный метод расчета их конструкций. Этим занимались Б. Н. Горбунов, Г. В. Раевский, А. Е. Аснис и другие.
Добились ли мы тогда успеха? И да, и нет! При постройке первого облегченного вагона нашего типа была достигнута солидная экономия в металле, при эксплуатации вагона увеличивалось количество полезного груза. Казалось бы, все хорошо… Однако эта наша работа мало заинтересовала промышленность. Почему? Видимо, потому, что наши товарищи, не будучи специалистами в вагоностроении, излишне увлеклись сложными расчетами конструкции, вопросами облегчения веса, конструированием вагонов, вместо того чтобы главное внимание свое направить на разработку технологических, сварочных вопросов, как и надлежало Институту электросварки. А как раз в этом больше всего и нужна была заводам наша помощь…
Со временем мы поняли, что дублировать, подменять специалистов в других областях техники нам незачем, к общим задачам у нас должен быть свой, особый подход. Мы и после этого не отказались от того, чтобы «вторгаться» в конструкцию, настаивали, если это диктовалось требованием сварки, на тех или других ее изменениях, но теперь уже действовали, как сварщики, а не как конструкторы-проектировщики вагонов, судов или цистерн. Этот более правильный метод принес нам впоследствии ряд успехов.
Я оцениваю нашу работу в прошлом с вышки сегодняшнего дня и поэтому стараюсь разобраться в том, что было временным, частным успехом, а что вело нас, несмотря на временные срывы и неудачи, к конечной решающей цели.
Это суровый, но правильный критерий. Ведь что греха таить, — и сейчас есть еще немало таких научно-исследовательских учреждений, где люди стремятся объять необъятное, всюду и за всем поспеть, а главного прицела в своей работе не имеют, размениваются на мелочи, на третьестепенные «проблемы».
Когда создавался институт, многим товарищам в Академии наук, как я уже говорил, казалось, что для научного учреждения он носит слишком специальный, «узкий» характер. Десятилетний опыт показал, что, наоборот, полезнее было бы еще больше специализировать свою деятельность.
Избрав одну стержневую научную проблему — непременно действительно важную для промышленности! — следовало переключить весь коллектив института на глубокую и всестороннюю ее разработку. Тогда каждый сотрудник, работая в своей отрасли, мог бы активно, с полной отдачей сил и способностей участвовать в решении общей для всех задачи.
В 1939–1940 годах я уже видел эту стержневую проблему, видел и верил, что она полностью определит все содержание нашей научной работы в дальнейшем. Это автоматическая сварка под флюсом!
Здесь нам удалось получить особо ценные для промышленности результаты. Скоростная автоматическая сварка под флюсом стала подлинно новым словом. Но чтобы окончательно утвердиться в этом, надо было безбоязненно и честно оглянуться на пройденный путь, отбросить все, что тянуло нас назад, и со всей энергией начать борьбу за продвижение в жизнь нового метода сварки.
Мне кажется, что тут уместно очень кратко рассказать о его сущности и о его достоинствах.
Автоматическая сварка под флюсом, так же как и ручная, использует для плавления металлов тепло электрической дуги. Существенное отличие состоит в том, что при скоростной сварке дуга горит под слоем плавящегося флюса внутри заполненной газами и парами оболочки и поэтому не видна для глаза. Флюс полностью изолирует от воздуха как дугу, так и расплавленный металл. Сварочная головка подает электродную проволоку и поддерживает неизменной длину дуги.
По мере отложения шва дуга передвигается вдоль места сварки. Часть флюса превращается в шлаковую корку, равномерно покрывает шов и легко удаляется после его остывания. Шов представляет собой сплав электродного и основного металла.
Такова в самых общих чертах схема процесса. Сама по себе, она еще очень мало говорит читателю. Поэтому попробуем раскрыть скобки — на конкретных примерах, цифрах и фактах показать, в чем же мы видели решающие преимущества автосварки под флюсом.
В те годы рядовой ручной сварщик сваривал в час в среднем пять метров шва, наш автомат — 30! (Сейчас, в наши дни, эта цифра далеко оставлена позади, в отдельных случаях мы варим со скоростью до 150 метров в час!) В чем тут «секрет», откуда такой резкий скачок? Разгадка в применении токов до 2000 ампер! При ручной сварке это невозможно. А в автомате подвод тока к электроду непосредственно у самой дуги позволяет применять невиданные до сих пор токи.
Флюсовая защита обладает замечательным свойством: она концентрирует на небольшом участке основную массу тепла, выделяемого сварочной дугой. При ручной сварке только одна четвертая часть тепла идет, так сказать, в дело, три четверти мощности дуги пускается «на ветер». Совсем другая картина при работе нашей установки. Почти девяносто пять процентов тепла расходуется на расплавление металла и электрода и на плавление флюса. Бесполезная «утечка» тепла ничтожна.
Мощность дуги собрана теперь в один кулак! И, как прямое следствие этого, металл изделия в зоне сварки расплавляется гораздо глубже, в один проход можно проварить его на большую толщину. Разумеется, скорость сварки от этого значительно возрастает.
Еще одна существенная особенность: поскольку в автоматы заправляется голая проволока — отпадает необходимость в дорогостоящих и сложных в изготовлении электродах со специальной обмазкой.
А как разительно меняются условия труда сварщика!
Великое благо для него то, что дуга в автомате горит невидимо, выделение газов ничтожно, и уже не нужно каждую минуту защищать глаза от слепящего, резкого света, руки — от опасных огненных брызг.
Все основные операции выполняет станок. Автосварщик уже не гнется, не горбится, он работает сидя или стоя в удобном положении и устает несравненно меньше, чем его товарищ с ручным держателем. Такого оператора не нужно готовить месяцами, в несколько дней он может научиться управлять станком. Установка нескольких автоматов в сварочном цехе позволяет высвободить большое число квалифицированных рабочих.
Не меньше, чем это, радовало нас высокое качество швов. Сыпучий флюс становился надежной защитой расплавленного металла от губительного проникновения кислорода и азота. Шов получался плотным, однородным, красивым.
Говоря еще короче, в автоматической сварке под флюсом я видел воплощение всех тех целей, которые я и мои сотрудники поставили перед собой, начиная работы по механизации сварки. К ним мы настойчиво шли через все искания, ошибки и неудачи. Этими целями были: высокая производительность, хорошее качество швов, освобождение сварщиков от нелегкого ручного труда.
Когда я радовался свершению своих заветных замыслов, это вовсе не означало, что уже тогда, в 1940 году, я считал, что мы достигли идеала. Конечно, я этого не думал, не мог думать. Я знал, что автосварке под флюсом предстоит еще пройти долгий и полный трудностей путь развития. Но была у нас уверенность в главном — в том, что принципиально задача решена правильно. Первая удача воодушевила нас, и мы были готовы принять на свои плечи любую, самую черновую, самую кропотливую работу, чтобы сделать скоростную автоматическую сварку достоянием всей нашей промышленности.
8. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Приезд в Киев представителей Уральского вагонного завода был назначен, как и намечалось сразу, на июнь. Институту предстояло показать, на что он способен — продемонстрировать автоматическую сварку стыкового шва с необычной до сих пор скоростью — 30 метров в час.
Я видел, что люди волнуются в ожидании ответственной встречи и не в силах этого скрыть. Но они именно волновались, а не нервничали.
Всем было ясно, что это не просто отчет перед одним из заводов, — речь шла о гораздо большем. Новый метод впервые должен был получить оценку практиков. От их слова, от их приговора зависело многое, если не все.
В те дни я часто приходил в сварочную лабораторию и подолгу наблюдал за работой установки. Там я проводил больше времени, чем в своем кабинете Затем ко мне являлись Дятлов или Лапин с результатами механических испытаний и металлографического анализа шва. Придраться к ним было трудно, результаты получались вполне удовлетворительные. Но лишь когда они повторились десятки раз подряд, я созвал совещание, на котором впервые высказал вслух мысль, занимавшую меня все последние недели:
— Что, если, кроме уральцев, нам пригласить товарищей и с других крупных предприятий? А может быть, не только с заводов, но и представителей научных и хозяйственных организаций, которые интересуются сваркой? Устроить нечто вроде небольшой конференции. Пусть нас судят уже все сразу! А если сварка под флюсом понравится — приобретем, может быть, не одного, а многих сторонников. Ваше мнение?
Я выжидательно смотрел на сотрудников, сидевших в моем кабинете. Они казались мне немного смущенными. Страшновато им, конечно. А вдруг неудача? Стоит ли, мол, срамиться сразу перед всеми?
Да и у меня самого все же немного скребло на сердце, хотя все обстояло как будто благополучно.
— А знаете, мне нравится эта мысль! — первым отозвался Дятлов. — Если боимся, то и уральцам нечего показывать. А если уверены в себе, в установке и спокойны за результаты, так давайте дерзнем. Неужели после всего и — отступим?
— Зачем же отступать? — заметил Севбо. — Не для одного же завода это все затеяно! Я так думаю: хоть сто статей напиши потом во всякие журналы и вестники, не заменят они одной такой конференций. Покритикуют нас за какие-то недоделки? Что ж, это как раз то, что нам сейчас нужно больше всего.
Все присутствующие высказались за созыв конференции.
Мы начали к ней готовиться, рассылать приглашения.
Со всех концов страны — из Москвы, Ленинграда, Урала, с Украины съезжались в Киев делегаты заводов и научно-исследовательских институтов. Охотно прислали своих представителей и некоторые союзные наркоматы.
Товарищи с Уралвагонзавода немало подивились такому широкому собранию. Они и не представляли себе, какой толчок большому делу дали в недавнем прошлом своей суровой критикой.
— Ехали принимать проект станка для себя, — говорили они, — а попали на всесоюзное совещание!
Мы в институте среди других гостей откровенно выделяли уральцев и ни от кого не скрывали, что именно они заставили нас другими глазами взглянуть на всю свою работу.
Тот день, когда впервые была проведена перед гостями открытая демонстрация скоростной автоматической сварки под флюсом, навсегда вошел в историю института и, пожалуй, до сих пор живет в памяти каждого его сотрудника.
И внешний вид сварки и скорость, с которой двигалась головка, поразили всех делегатов. В лаборатории слышались их восклицания:
— Тридцать метров в час! В шесть-семь раз быстрее хорошего ручного сварщика!
Я видел, что все произвело сильное впечатление. Дуга горит под флюсом, и ее слепящие лучи скрыты от глаз. Вместо сварщика, прикрывавшего лицо щитком и согнувшего спину над ручным держаком, вдоль установки прохаживается человек и только изредка нажимает кнопки управления. И хотя ему не видно, что происходит под слоем плавящегося шлака, он все время остается спокойным и хладнокровным.
А когда, наконец, два стальных листа толщиной почти в полтора сантиметра были сварены встык в один проход и взглядам гостей открылся красивый, серебристый шов, все собравшиеся у станка невольно зааплодировали.
Радостно было у меня на душе, но и в эту торжественную минуту я помнил о том, что завтра состоится самое строгое, самое кропотливое рассмотрение результатов анализов, микро- и макрошлифов, будут заданы каверзные вопросы, может быть, возникнут споры и претензии. Что ж, все это неизбежно, необходимо, естественно и не страшит нас!
В те дни произошли два важных события. Первое закрепляло начатое дело. Второе — открывало автоматической, сварке широкую дорогу в жизнь
Уральцы, как и вся конференция в целом, признали данные лабораторных анализов вполне удовлетворительными, а скорость сварки даже превзошла все ожидания. Завод без колебаний принимал проект установки, предложенный нами, и соглашался тотчас же подписать договор.
Итак, на этот раз победителем в нашем давнем соревновании с ручными сварщиками вышел институт
— Теперь мы можем от всего сердца поблагодарить вас, — сказал мне инженер с Уралвагонзавода
— А мы вам будем благодарны всегда, — ответил я.
И эти слова были с моей стороны не проявлением взаимной вежливости, а выражением самой глубокой убежденности.
За двумя участниками конференции я наблюдал с особым вниманием. Это были представители Главстальконструкции, мощной всесоюзной организации ведавшей изготовлением стальных мостов.
Еще посылая им приглашение приехать в Киев я обдумывал одну идею, но пока ни с кем не решался поделиться своими мыслями.
Я боялся разочарований и до поры до времени таил все про себя. И когда эти два, особенно важных для меня, гостя, не отрывая взгляда, следили за тем как вдоль стыка стальных листов ползет электрод, я, в свою очередь, не сводил глаз с их лиц, стараясь угадать произведенное впечатление.
Мне не долго пришлось сомневаться: эти два товарища одними из первых поздравили нас и с большим увлечением заговорили о явных и теперь неоспоримых для них преимуществах нового способа сварки.
И тогда я напрямик изложил им идею, которая давно волновала меня и лишала покоя:
— Вскоре в Киеве начинается строительство большого моста через Днепр. Одних только угловых швов предстоит сварить до 120 километров… Какой же смысл прибегать к ручной, медленной и не столь надежной сварке теперь, когда, как вы сами видели, автомат доказал свое полное превосходство? Если это предложение будет одобрено главком, институт берется разработать для мостостроительного завода проект установки, а также технологию сварки и послать на завод своих людей.
Это была очень важная минута в моей жизни. Что скажут товарищи из главка?
Два дела моей жизни — мосты и электросварка — слились сейчас воедино, в одном замысле, в одной идее.
— Вот как удачно получилось, Евгений Оскарович, ведь мы сами собирались потолковать с вами об этом же! — с довольным видом проговорил главный инженер Главстальконструкции Хохлов. — Ваше предложение нам очень по душе, и мы готовы не откладывать дела в долгий ящик. Думали варить наклонным электродом, но теперь убедились — ваш метод куда эффективнее. Обратили вы нас в свою веру.
Через несколько дней на моем столе лежал договор, подписанный мной и Хохловым. Все мои предложения были приняты.
Давно у меня не было такого праздника на душе!
9. ПАРТИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ И УЧИТ
После того как новый метод нашел такую активную поддержку в Главстальконструкции, казалось, уже можно не сомневаться в том, что киевский Наводницкий мост будет первым в мире мостом, сваренным скоростными автоматами.
Обычно сдержанный и уравновешенный Платон Иванович Севбо на этот раз торопил, подстегивал своих конструкторов. Он и сам не расставался целый день с карандашами и рейсшиной, и конструкторское бюро в три недели разработало проект автосварочной установки портального типа и цепного кантователя для поворачивания тяжелых элементов ферм.
Уже в июле, то есть всего лишь через месяц после конференции и заключения договора, рабочие чертежи были отправлены на завод в Днепропетровск. Вслед за ними выехал и наш сотрудник, чтобы пустить и отладить установку.
Но при сварке на монтаже очень трудно обеспечить высокое качество конструкций. Поэтому было решено, что все сварочные работы производятся на заводе, а за их ходом все время будут наблюдать «полпреды» нашего института. Здесь, в крытых цехах можно поворачивать элементы моста с помощью кантователя в удобное для сварки положение, установка будет надежно защищена от холода, дождя и снега. Сваренные на заводе элементы затем отправят в Киев и здесь, на месте, смонтируют при помощи клепки. Конечно, и тут будет обеспечен наш глаз, наш технический контроль.
— Теперь все должно пойти как по маслу… Завод варит элементы форм, институт следит за качеством швов, монтажники собирают мост на берегах Днепра
Именно так все представлялось в идеале некоторым нашим товарищам. Но, как это нередко бывает в жизни многое пошло совсем по-иному.
На днепропетровском заводе (его представителей не было на конференции) отнеслись к «киевской затее» с явным холодком и под всякими предлогами стали оттягивать изготовление установки. Надо полагать пугала новизна не изведанного на практике метода и неизбежный в таком деле элемент риска.
— Может быть, в самом деле клепке суждено уступить дорогу скоростной электросварке. Но почему именно мы должны первыми идти на всякие эксперименты? — рассуждали чрезмерно осторожные товарищи из дирекции завода. — Ведь последнее слово еще не сказано, сторонники клепки в мостостроении, наверное, попытаются взять реванш. А раз так, то неизвестно еще, чем все кончится.
И заводские перестраховщики не ошиблись: такая попытка действительно была сделана.
Пока на заводе мариновали чертежи сварочной установки, в Киеве, Москве, Ленинграде, в наркоматах и проектных организациях разгорелся ожесточенный спор.
Мы в институте мечтали создать цельносварной мост, мост без единой заклепки. Но мечты мечтами, а пока что к решению такой большой и смелой задачи мы еще сами не были готовы. Первым шагом к этой цели по моему замыслу и должна была стать постройка моста клепанно-сварного типа.
На этом, еще ограниченном, поле сражения мы надеялись нанести первый удар своим противникам из числа тех мостостроителей, которые продолжали упорно держаться за испытанную и тысячи раз проверенную клепку.
А таких людей, одержимых страхом перед автоматической скоростной сваркой, было в то время немало, В крайнем случае они соглашались на применение ручной сварки, все остальное, по их мнению, было «от лукавого»…
И когда в октябре 1940 года меня пригласили на совещание к секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии Украины Н. С. Хрущеву, я понял, что предстоит генеральное сражение.
Никита Сергеевич не впервые занимался Наводницким мостом, он знал все нужды стройки, вникал во все детали подготовительных работ. Я наделся, что на этот раз, на этом совещании, должен будет окончательно решиться волновавший нас вопрос: каким быть Наводницкому мосту — сварным или клепаным?
В просторном кабинете товарища Хрущева мы встретились со своими противниками. Мы вежливо здоровались друг с другом, справлялись о делах, о здоровье, мирно рассаживались рядом. Внешне ничто не предвещало грозы. Но это было обманчивое спокойствие.
Никита Сергеевич, чуть заметно улыбаясь, внимательно посматривал на участников совещания. Он знал, что обе стороны явились во всеоружии и готовы к бою.
Открывая заседание, товарищ Хрущев секунду-другую поколебался, кому первому предоставить слово, а потом назвал фамилию представителя комиссии экспертов. Пусть, дескать, выложит свои карты на стол… Так, во всяком случае, понял я Никиту Сергеевича.
С первых же слов эксперта для меня стало очевидным: противники скоростной сварки приобрели активного союзника. Этот почтенный инженер, несомненно, человек перепуганный. Пуще всего на свете он страшится ответственности. Он твердо усвоил золотое правило: «нет» всегда спокойнее и легче сказать, чем «да».
Все доводы и аргументы эксперта были направлены к одной цели: призвать участников совещания к «непоспешанию», убедить их в том, что вся предшествующая практика мостостроения — за клепку.
Но свой самый главный козырь он приберег для концовки выступления, так сказать, «под занавес».
Эффектным жестом эксперт извлек из портфеля заграничный журнал в яркой глянцевой обложке с закладками в нескольких местах. Заранее предвкушая впечатление, эксперт предложил всем желающим познакомиться с несколькими фотографиями. Журнал пошел по рукам, а оратор тем временем комментировал снимки.
— Смотрите внимательно, товарищи. На фото изображены рухнувшие мосты. Это мосты, при строительстве которых применялась сварка.
Едва взглянув на журнал, я сейчас же узнал его. Это же тот самый номер журнала, который эксперт как-то взял у меня «просмотреть»!
Ловкий ход! На людей, не искушенных в сварке, зрелище провалившихся мостов — даже на фотографиях — может действительно произвести сильное впечатление…
Я передал журнал товарищу Хрущеву, а сам думал: «Строительство сварных мостов в Западной Европе действительно пока приносит только неприятности. То из одной, то из другой страны приходят вести о серьезных осложнениях и даже авариях. Недавно стали известными и совсем скандальные случаи падения пролетов в воду. Об этом как раз сейчас и говорит эксперт, напирает на факты катастроф со сварными мостами возле Берлина и на канале Альберта в Бельгии. Да, это правда, в Брюсселе меньше чем за пять лет рухнули все четыре моста. Такие же несчастья приключились и с двумя железнодорожными мостами в Германии.
Для людей слабонервных этих примеров больше чем достаточно, чтобы навсегда отбить охоту к применению сварки на мостах. Ясно, что на это и рассчитывает докладчик, недаром он излагает все с видом первооткрывателя, словно до него никто и не слышал, не читал об авариях на Западе…»
Я украдкой взглянул на Никиту Сергеевича: «Интересно, как он воспринимает этот панический рассказ?»
Товарищ Хрущев слушал молча, со спокойным, внимательным лицом, только в глазах его вспыхивали на мгновение огоньки, а пальцы теребили журнал.
— Все? — спросил Никита Сергеевич, когда эксперт, наконец, умолк. — Да, страшновато все выглядит в вашем изложении. Ну, что ж, послушаем сейчас другую сторону. Может быть, не так уже безнадежны наши дела. Прошу вас, Евгений Оскарович.
Я знал, что от сегодняшнего моего выступления зависит многое.
Если отбросить демагогию в речи эксперта, факты все же оставались фактами: сварное мостостроение на Западе терпит провал за провалом.
Для меня и для моих сотрудников еще не ясны были в то время все причины, которые приводили к частым катастрофам. Но в одном мы не сомневались: дело здесь не в самой сварке, не в основных ее принципах, а в неправильном, кустарном ее применении, в работе вслепую. С этого я и начал свое выступление.
— Строители мостов в Германии, в Бельгии и в других странах, — говорил я, — сделали попытку перейти от клепки к сварке, но оставили без каких-либо существенных изменений конструкцию мостов. Это — раз. Не задумались они и над тем, что томасовская сталь, принятая при клепке, совершенно не годится для сварки и должна быть заменена мартеновской. Это — два.
Наконец — и это очень важно — сама сварка производилась вручную, примитивно. А это, как известно, не может гарантировать ни того особо высокого качества, которое необходимо при сооружении мостов, ни должной культуры производства.
Иначе говоря, на Западе работали и продолжают работать впотьмах, без творческого осмысливания всего того нового, что влечет за собой сварка в теории и практике мостостроения. Все это чистейшее делячество, оно не могло не отомстить за себя, и вот — отомстило. — Я поднял над головой журнал. — Это не должно нас устрашить! Мы идем верным путем: от науки к практике. И если на Западе ничего не получается, это вовсе не значит, что нам следует пасовать перед трудностями.
Не к лицу это науке Советской страны, страны, которая дала электросварку всему миру!
Затем я кратко изложил предложения института:
— Должна быть выбрана специальная сталь, обеспечена подлинная культура сварки и жесткий контроль над качеством работ, и, самое главное, мост должен быть сварен не вручную, а скоростными автоматами под флюсом.
При соблюдении всех этих условий можно не бояться зловещих пророчеств уважаемого представителя комиссии экспертов. Не так страшен черт, как его малюют.
И, конечно, нужно призвать к порядку ленивых и косных людей на днепропетровском заводе, довольно им цепляться за старое,
Я сел и с волнением теперь ожидал, что же скажет Никита Сергеевич. Ведь вопрос тонкий даже для специалистов, недаром в нашей среде идут такие упорные дискуссии.
Товарищ Хрущев поднялся с кресла и ладонью придавил журнал к столу.
— Мост будем варить, дорогие товарищи, — твердо сказал секретарь ЦК. — Да, варить! Неудачи других стран — нам не указ. Как известно, трудности для того и существуют, чтобы побеждать их. Заводским товарищам сумеем внушить должное уважение к новому методу. Не выходит на капиталистическом Западе, должно выйти у нас! Поддержат в дальнейшем наших товарищей эксперты — будем рады, работы хватит для всех. Станете запугивать, мешать — придется, извините, посторониться.
Никита Сергеевич молча протянул злополучный журнал незадачливому докладчику. Тот механически взял его, покраснел и не нашелся что сказать.
Только сейчас, когда становился ясным исход нашей упорной борьбы со скептиками, я ощутил, какого напряжения стоил мне этот день. Зато я уже твердо знал: дорога будет расчищена, теперь дело за институтом. Но будущий мост только начало, нужно смотреть дальше. И я подошел к товарищу Хрущеву.
— Никита Сергеевич, вы знаете о нашем новом методе сварки и только что поддержали его. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели его на практике. Если найдете время, заезжайте к нам в институт, мы вам покажем.
— Охотно приеду и все посмотрю, — ответил товарищ Хрущев. — Ждите меня через два-три дня.
Все в институте с нетерпением ждали приезда секретаря ЦК. Мы словно предчувствовали, что эта встреча будет иметь особое значение для жизни института и вообще для всей судьбы автоматической сварки.
Приехав к нам, Никита Сергеевич попросил, чтобы его сразу же проводили в лабораторию, где можно посмотреть в действии новый сварочный автомат. Вместе с ним туда направились я и несколько сотрудников. Через пять минут станок был пущен. Секретарь ЦК внимательно следил за тем, как вдоль куска стали ползет головка, автоматически подавая электрод с заданной скоростью. Впервые приходилось товарищу Хрущеву видеть сварку, при которой дуга скрыта от глаз. Удивительной казалась ему и та большая скорость, с которой на куске стали наращивался невидимый пока шов.
Я давал только самые краткие необходимые пояснения о сущности и особенностях нового способа сварки. Никита Сергеевич быстро разобрался в его достоинствах. Когда сбили черную корочку запекшегося шлака и обнажилась чешуйчатая поверхность сваренного стыка, Никита Сергеевич обернулся ко мне:
— Все вижу сам, Евгений Оскарович. Вы и ваши товарищи сделали большое, можно сказать, великое дело. Автоматическую сварку непременно нужно использовать в нашей промышленности. И сделать это мы постараемся сразу же, с большим, с государственным размахом. Прошу вас, не откладывая, написать мне докладную записку. Укажите точно, с каких заводов, по вашему мнению, лучше начать. И что для этого нужно сделать правительственным органам. Это первое.
Второе: изложите, что требуется вам, институту, в чем нуждаетесь, чем мы можем помочь вам. Не стесняйтесь в своих требованиях, дело того стоит. А я уже лично доложу обо всем Союзному правительству. И о том, что видел у вас, и о ваших и своих предложениях. Договорились? Согласны?
— Согласны ли мы? — невольно воскликнул я. — Это полностью отвечает нашим желаниям!
Товарищ Хрущев попросил подарить ему на память кусок металла со сделанной при нем наплавкой и положил его к себе в машину. Потом я часто видел этот образец на рабочем столе Никиты Сергеевича.
Свой проект докладной записки правительству я зачитал на совещании научных сотрудников института.
Каждое предложение или поправка тщательно взвешивались и обсуждались. Но у всех чувствовалась некоторая неуверенность и растерянность: какими мерками руководствоваться? На какие средства рассчитывать?
Этого никто не знал. Поэтому мы осторожничали, умеряли свои аппетиты. И все же, перечитывая в последний раз докладную перед тем, как подписать ее и отправить Никите Сергеевичу, я испытывал сильное смущение: не увлеклись ли мы, не много ли требуем?
Через несколько дней товарищ Хрущев сам позвонил мне:
— Прочитал вашу докладную записку. Все в ней хорошо, — одно плохо… Чего вы скромничаете? Просите больше, все, что вам нужно, просите, предлагайте смелее. Я уже говорил вам: не стесняйтесь! Государство на важное дело не поскупится. И предусмотрите ассигнования на строительство нового здания для института, на первоклассное, самое лучшее оборудование для всех лабораторий и мастерских. Ясно? Вот и хорошо! А выпуск флюса нужно поручить специально одному заводу. Не будет в избытке флюса — не будет на деле и скоростной сварки. Ведь верно?
Все было верно. Докладную пришлось переработать.
Нужно переучиваться, начинать мыслить другими масштабами. «Видимо, мы сами, — думал я тогда, — не совсем понимаем всего значения дела, начатого в стенах института».
Так это и было. Партия помогла нам правильно оценить и само наше открытие и его перспективы.
10. ПРОВЕРКА ЖИЗНЬЮ
Я помнил обещание Никиты Сергеевича — во время его предстоящей поездки в Москву познакомить Союзное правительство с докладной запиской института.
Это и радовало и тревожило меня.
Теперь нужно было во что бы то ни стало и в самые короткие сроки доказать жизнеспособность скоростной сварки под флюсом, наглядно продемонстрировать, что это не хилое лабораторное создание, которое боится суровых испытаний жизнью и доброго заводского сквознячка.
Первый такой экзамен институтское детище успешно держало на вагоностроительном комбинате «Красный Профинтерн» в Бежице.
На этот завод выехали наши научные сотрудники Дятлов, Лапин и Горлов и лаборанты Ширин и Ульпе. За два месяца они стали своими людьми в цехах. В рабочих перепачканных комбинезонах они вместе с заводскими мастерами собирали, пускали и регулировали сварочную установку, вместе с ними огорчались, устраняли неполадки и радовались, когда швы стали получаться отличными.
Люди из других цехов приходили поглядеть на новый метод сварки, часами
не отходили от станка, а потом отправлялись в дирекцию с просьбой установить у них такие же автоматы.
В письмах Дятлова и Лапина чувствовалось, что они вовсе не стремятся поскорее вернуться в Киев, что работа на заводе увлекла и захватила их. Они писали мне:
«Полная и окончательная вера в будущее скоростной сварки пришла к нам именно здесь, в цехах, под заводскими крышами».
Второе испытание новый метод проходил на днепропетровском заводе. Но оттуда неожиданно пришли тревожные вести. Посланный на завод сотрудник сообщал, что в сварных швах появились поры.
«Противники сварки торжествуют, — писал он, — ведут злорадные разговоры о том, что институт «доигрался до скандала».
Новому делу еще предстояло завоевать признание, а тут оно опорочивалось сразу же, в самом младенческом возрасте. В письмах сотрудника чувствовалась явная растерянность:
«Все как будто в порядке, технология строго соблюдается, аппаратура отрегулирована, флюс не вызывает беспокойства, а проклятые поры не исчезают… На заводе грозятся остановить сварку. Что делать?»
Вслед за письмом полетели телеграммы с просьбами «немедленно дать указания…».
Худшей истории нельзя было и придумать! Громкая докладная записка и сплошной брак в первых же десятках швов, сваренных на мостостроительном заводе. Сейчас же послать человека, чтобы разобрался на месте?.. Нет, этого нельзя перепоручать никому!
Первым же поездом я выехал в Днепропетровск.
Прямо с вокзала я отправился в цех. Вся работа установки, каждой ее части, каждого узла подверглась генеральной проверке. Все действительно было в полном порядке, автомат работал безотказно и гнал… брак.
Тут было от чего потерять равновесие!
Снова пускали установку и снова получали ненавистные поры.
Я растерянно смотрел в окно: все небо затянуло грязно-серыми тучами, хлещет проливной дождь, сыро, зябко… Так же хмуро было и на душе.
И вдруг меня словно осенило:
— Где у вас хранится металл?
— Как это, где? Как обычно, во дворе, — пожал плечами начальник цеха.
— А дождь давно льет?
— Вот уже неделю как хлещет.
Я побагровел:
— Сейчас же проводите меня туда, во двор.
Через несколько минут мне стало все ясным: детали будущего моста лежали под открытым небом. Вся их поверхность была покрыта густым рыжим слоем ржавчины.
Потоки воды низвергались на меня и на моих спутников.
— И вы еще гадаете о том, откуда берутся поры и свищи? — гремел я на весь двор. — Это же настоящее преступление! Потрудитесь все убрать под навес и хранить только там, а все эти ржавые балки в местах стыков тщательно чистить перед сваркой!
Этот разнос возымел мгновенное действие. Все мои требования были выполнены в точности, и поры из швов, как я и ожидал, бесследно исчезли.
Что касается нашего сотрудника института, то ему пришлось пережить несколько горьких минут. Я довольно резко разъяснил ему, что если он представляет себе работу в институте как служение в некоем храме чистой науки, то вряд ли из него выйдет когда-нибудь прок…
Нечего таить греха, после его панических писем я и сам разволновался. А вдруг мы действительно поспешили выпустить из лаборатории свое открытие? Вдруг окажется, что оно еще не твердо стоит на собственных ногах?
Теперь эти сомнения окончательно рассеялись.
Строительство киевского сварного моста имело сложную и длинную историю, которой суждено было завершиться только в наши дни. И мне хочется тут же досказать до конца эту историю, так как с ней связана крупная победа советской науки и много личной радости в моей жизни и работе.
После поездки на завод дело там заметно пошло на лад.
Но грянула война, прервала всю мирную созидательную работу, в том числе и изготовление киевского моста. Отдельные его элементы, которые успели сварить на заводе до июня 1941 года, были использованы спустя три года при восстановлении другого моста на Днепре и по сей день исправно несут там службу. В 1946 году товарищу Н. С. Хрущеву представили для ознакомления проект нового железнодорожного моста через Днепр в Кременчуге взамен разрушенного гитлеровцами. Никита Сергеевич сразу же обратил внимание на то, что пролетное строение этого моста запроектировано клепаным. Отложив на время рассмотрение проекта, он поручил мне ознакомиться с ним и представить в виде докладной записки мое мнение по поводу применения сварки.
Я, конечно, охотно согласился. В этой записке я изложил все преимущества сварного мостостроения сравнительно с клепаным и подсчитал, какую экономию металла и рабочей силы дало бы применение сварки при изготовлении мостов, которые предстояло восстановить на наших железных дорогах.
В результате в том же 1946 году было принято постановление Совета Министров СССР о необходимости развивать сварное мостостроение на транспорте. В этом постановлении намечалась не только широкая программа исследований, но и строительство опытных цельносварных мостов, создание специализированных мостовых заводов Министерства путей сообщения и т. д. Правительство потребовало, чтобы это министерство и другие организации всерьез занялись сварным мостостроением.
Товарищ Хрущев горячо поддержал выдвинутое нами предложение о том, чтобы новый киевский мост через Днепр строить цельносварным. Уже в 1949 году проект этого моста, создававшийся при моем непосредственном участии, был рассмотрен и утвержден правительством Советской Украины.
На всех строителях этого крупнейшего сооружения лежала особая ответственность: этот мост должен был стать самым большим в мире цельносварным мостом! В беседах со мной Никита Сергеевич подчеркивал необходимость обеспечить особо высокое качество изготовления его конструкций. Институту поручили контроль за качеством сварочных работ как на днепропетровском заводе, так и на монтаже, на нас же возложили наблюдение за выплавкой, испытанием и поставкой стали для моста. И мост от первого шва, сваренного на заводе, до последнего монтажного стыка на берегах Днепра рождался при самом активном и горячем нашем участии.
На этот раз завод блестяще справился с возложенной на него труднейшей задачей. Для изготовления элементов моста заводом был создан специальный цех с высокой культурой сборочных и сварочных работ Руководители этого предприятия И. И. Борисенко и Д. П. Лебедь смело внедрили в производство новую технологию и прочно стали на позиции сварного мостостроения.
В 1948 году в Киеве была созвана конференция, которой предстояло подвести итоги того, как выполняется это постановление правительства. Надо сказать, что выполнялось оно плохо. Неудивительно, что на этой конференции мне пришлось выдержать еще один серьезный бой с противниками применения сварки в мостостроении, не сложившими оружия, и снова отстаивать свои взгляды по этому вопросу.
Как и несколько лет тому назад, опять выдвигались требования все новых и новых исследований. В ответ на это я заявил, что моя настойчивость и непримиримость в деле широкого применения автоматической сварки для изготовления сварных мостов опирается на научно обоснованную уверенность в огромных возможностях этого прогрессивного способа сварки; что я выступал и буду впредь выступать против современных подражателей чеховскому человеку в футляре, которые продолжают и в наши дни твердить: «как бы чего не вышло»; что на мой взгляд нужно не ждать у моря погоды, а строить как можно больше опытных сварных мостов. Живая практика, сама жизнь покажут, кто из нас прав.
За годы войны и в первые послевоенные годы автоматическая сварка под флюсом окончательно доказала свою жизнеспособность. Был накоплен большой опыт ее практического применения, проведено много исследований по технологии сварки и прочности сварных конструкций, создана специальная сталь для сварных мостов и новые типы сварочных автоматов.
Разработанные в Институте электросварки новый способ и аппаратура для вертикальной сварки в условиях монтажа мостов позволили сделать большой шаг вперед: отказаться от сварного моста, в котором, однако, монтажные узлы пролетных строений соединены при помощи клепки, и впервые смело перейти к цельносварным мостам, выполненным автоматами.
В связи с этим стал вопрос об изменении ранее намеченной конструкции городского моста через Днепр в Киеве и о составлении нового его проекта.
Н. С. Хрущев интересовался не только самим мостом, оригинальностью его пролетного строения. Одновременно он руководил также созданием целого комплекса связанных с мостом сооружений по благоустройству города на обоих берегах реки.
До 1914 года Киев был соединен с левым берегов Днепра только одним Цепным мостом. Для сообщения между этим мостом и центром города служил Николаевский спуск, построенный еще в 1854 году. Эта крутая и неудобная дорога проходит через Печерск, самую высокую часть Киева. Никита Сергеевич задался целью создать более удачное сообщение между Днепром и городом, которое удовлетворяло бы требованиям развивающегося автомобильного транс порта.
Строительство этой новой дороги прервала война.
Сейчас, когда пишутся эти строки, к новому городскому мосту через Днепр ведет прекрасная асфальтированная и озелененная широкая магистраль. Начинаясь у городского моста через Днепр, она, минуя пригород Киева, выходит к началу широкой Красноармейской улицы — прямого продолжения Крещатика. Новая магистраль не имеет крутых подъемов и приближаясь к городу, проходит по бывшим заброшенным землям, которые теперь превращены в прекрасные площадки для застройки. По новой автостраде уже открыто троллейбусное движение.
Благоустроенная широкая и удобная набережная с трамвайной линией соединяет новый мост и нижнюю часть города — Подол. Там, где набережная встречается с магистралью, строится интересный въезд на мост, по своей конфигурации несколько напоминающий клеверный лист.
Проезд с магистрали на мост осуществляется по путепроводу, построенному над набережной.
Подъезды к мосту запланированы так, чтобы потоки автомашин, движущихся в любых направлениях нигде не пересекались. Это позволяет предельно использовать пропускную способность моста.
«Клеверный лист» будет максимально озеленен многими сортами декоративных деревьев, кустарников, живописными клумбами. Все это интересное сооружение осуществляется также по инициативе Н. С. Хрущева.
На правом берегу, слева от въезда на мост, разбит парк, примыкающий к Днепру.
На левом берегу Днепра, невдалеке от моста, протянулась вдаль широкая, асфальтированная дорога. Здесь берут начало автострады на Чернигов и на Полтаву — Харьков. Подъезды на этом берегу к мосту планируются в двух уровнях: по верху специально построенного путепровода пройдет магистраль, соединяющая мост с автострадами, под путепроводом — движение машин вдоль набережной.
Пески левого берега, значительно менее живописного, чем правый, также будут озеленены.
Н. С. Хрущев уделял большое внимание и архитектурному оформлению самого моста. На киевском берегу колоннада высотой в десять метров образует как бы ворота у въезда на мост. На левом берегу у въезда на него — две гранитные двадцатиметровые колонны, освещаемые снизу красивыми фонарями. Вдоль всего моста с обеих сторон линии стройных фонарей и массивные, художественно выполненные чугунные перила.
…В июле 1953 года я стоял на берегу Днепра и любовался строгим профилем ферм самого большого в мире цельносварного моста. Моя многолетняя мечта осуществлялась. Я мысленно представил себе уже законченный мост, и с особой силой почувствовал величие эпохи, до которой мне было суждено дожить.
Невольно вспомнились беседы с Н. С. Хрущевым, вспомнилось, с каким увлечением он говорил о том, что для нашего советского человека надо строить не только прочно и надежно, но и красиво, чтобы жизнь приносила людям как можно больше удобств, радости и эстетического наслаждения. Он имел в виду и сварной мост, и набережные на днепровских берегах, и весь наш город-красавец, город-сад.
Проезжая по новой автостраде, прогуливаясь сейчас вдоль набережной, я видел, как все эти замыслы осуществляются, как хорошеет столица Советской Украины, как все прекраснее становится вся наша жизнь.
Мои размышления прервал подошедший ко мне научный сотрудник нашего института. Он сообщил что только что закончена автоматическая сварка под флюсом 184-го монтажного стыка ферм высотой 3,6 метра и что просвечивание швов стыка и на этот раз показало их отличное качество.
Это означало, что не пройдет и четырех месяцев, как новый мост будет открыт для движения[3].
Тридцать пять лет жизни я отдал мостам. Двадцать пять последних лет занимался электросваркой. В этом цельносварном мосте через Днепр воплощался итог всей моей долгой трудовой жизни: электросварка встретилась с мостостроением, и эта встреча принесла советской науке и советской технике новую победу.
…Я забежал далеко вперед и сейчас хочу вернуться к 1940 году, к тому, что произошло после поездки в Днепропетровск.
Всю обратную дорогу в поезде меня не покидало чувство какого-то особого праздничного подъема. Я невольно еще и еще раз вспоминал все этапы рождения сварки под флюсом и возвращался мысленно к тем дням, когда институт терпел поражение в соревновании со стахановцами.
Да, это была большая встряска! Этот урок никогда не следует забывать.
Вскоре после моего возвращения из Днепропетровска в Киеве состоялась встреча научных работников столицы Украины со стахановцами предприятий, в которой участвовал и наш институт.
Мне казалась очень поучительной история о том, как новаторы-стахановцы обогнали ученых и этим принудили их быстро и решительно перестроиться. Об этом стоило рассказать в назидание всем своим коллегам. Я взял слово, запись этого выступления у меня сохранилась, и я позволю себе здесь ее воспроизвести:
«Около года тому назад, принимая участие в такой же встрече научных работников с передовиками, новаторами киевских предприятий, я говорил о больших достижениях рабочих-стахановцев в области электросварки. Я указывал на то, что с повышением сварочного тока и применением электродов большого диаметра стахановцы добились резкого увеличения производительности своего труда, что стахановцы являются «опасными конкурентами» автоматической сварки, что недалеко то время, когда стахановцы перегонят ее, хотя она считается в 2–2,5 раза производительнее ручной сварки.
Мои предположения сбылись полностью. Под напором стахановцев. Институту электросварки пришлось искать выход из создавшегося затруднительного положения и изыскивать меры, как повысить производительность автосварки. (Затем я коротко рассказал о том, что уже известно читателю, и подвел первые итоги…) При толщине металла 15 миллиметров новая скоростная сварка оказалась в одиннадцать раз производительнее, чем ручная, и в шесть раз производительнее обычной автоматической сварки обмазанным электродом!
Итак, в короткий срок институту удалось намного перегнать стахановцев, наседавших на его сварочные автоматы. Однако роль «побежденных» в данном случае весьма почетная и заслуженная. Это именно они обратили внимание института на его отставание и заставили его поставить новую исследовательскую работу с целью повысить производительность сварочных автоматов.
Не будь стахановцев, мы до сего дня продолжали бы довольствоваться сравнительно небольшой производительностью своих автоматов.
Этот случай из жизни Института электросварки является ярким примером того, какое значение имеет новаторство передовиков производства для нас, научных работников, как толкает Оно вперед нашу мысль, как сближает нас с жизнью, с ее потребностями».
После меня выступил один из «побежденных» — передовой киевский сварщик. Он благодарил наш институт за то, что тот дал заводам первый образец сварочного скоростного автомата, и пообещал, что стахановцы и в дальнейшем постараются крепко подстегивать нас!
Через несколько дней после этого совещания в моем кабинете раздался громкий продолжительный звонок междугородной.
Меня вызывала Москва.
Товарищ из Совета Народных Комиссаров сообщил:
— Никита Сергеевич Хрущев сейчас находится в Москве и просит вас выехать туда же. Возможно, пробыть в столице придется продолжительное время, Какой передать ответ?
— Передайте, что на днях выеду, — сказал я, не задумываясь. — Точную дату сообщу по телеграфу.
Как быстро, однако, развиваются события… Итак, наступают решающие дни. Что ждет меня в Москве?
Несколько часов затем я никого не принимал. Над многим, над очень многим нужно было подумать одному в полном уединении. Потом я позвал секретаря и велел пригласить к себе всех научных сотрудников института…
11. МОСКОВСКИЙ ДНЕВНИК
С первого дня приезда в Москву я начал вести записи о своем пребывании и работе в столице. Заметки эти делались нерегулярно, время от времени, в редкие свободные часы. Но и в них отразилось все то, что волновало и занимало меня в эти кипучие, напряженные месяцы моей жизни.
15 декабря 1940 года
Трудно поверить, что только сегодня утром я приехал в Москву. Столько неожиданного принес уже первый день!
С самого начала этот приезд в столицу был необычным: на вокзале меня встречали, ко мне сейчас же прикрепили машину, в гостинице «Москва» меня, оказывается, уже ожидал номер из трех комнат. Признаться, такое проявление особого внимания сильно смутило меня. Ведь не одно же тут «уважение к сединам»? Видимо, правительство чего-то ждет от моего приезда и придает ему значение.
Может быть, Н. С. Хрущев уже успел дать ход моей докладной записке? Не найдет ли только правительство слишком смелым то, что мы предлагаем в ней? Ведь и без нас у него достаточно других забот.
Обдумывая все это, я отдыхал в глубоком кресле у широкого окна своего номера.
Внизу по улице катилась неиссякаемая автомобильная река. Она то замирала на несколько секунд у светофора, то снова устремлялась вперед. Нетерпеливые гудки машин, возбужденный и жизнерадостный гул столичных улиц немного смягченными долетали сюда, на четвертый этаж.
С удовольствием вслушивался я в неумолчный московский шум. Это чувство, наверно, было вызвано моим приподнятым настроением.
«Как же все-таки обернется дело?»
И словно отвечая моим мыслям, затрещал на столе телефон.
Сюда в номер звонил тот же товарищ, что звонил и в Киев.
— Отдыхаете, товарищ Патон?
Я засмеялся:
— Вынужден.
— Отдыхайте со всей добросовестностью, — пошутил товарищ из Совнаркома, — на завтра припасли вам много работы. Просим посетить нас и просмотреть проект постановления правительства и ЦК партии о внедрении скоростной сварки под флюсом.
Постановление правительства и ЦК? И к моему приезду уже готов проект!
Я, конечно, потерял спокойствие.
— Это просто замечательно. Но зачем же откладывать на завтра? Сейчас же буду у вас… Это же через дорогу. Нет-нет, для отдыха есть ночь, и, потом я прекрасно выспался в поезде. Сейчас же направляюсь к вам.
Через час я вернулся из Совнаркома к себе в номер и углубился в чтение бумаг.
Я словно снова перечитывал свою докладную записку Н. С. Хрущеву. Все, что намечал институт, вошло в проект правительственного документа. Но какой размах приобрели в нем все наши предложения! Во всем была сделана решающая поправка на неизмеримо большую широту и, в то же время, на более сжатые сроки. За выполнение каждого пункта установлена личная ответственность наркомов. Щедрой рукой отпускается все, в чем могут нуждаться заводы для внедрения у себя автоматической сварки. 1,2 млн. рублей выделяется на премирование заводских работников, отличившихся при ее освоении.
Один из последних пунктов я перечитал несколько раз. Предполагается ассигновать три с лишним миллиона рублей на постройку и оборудование нового здания института и сто тысяч рублей на премирование особо отличившихся научных сотрудников. Мне лично выделяется премия в 50 000 рублей.
Такой высокой оценки нашей скромной работы мы, конечно, не ожидали. Но главное не в этом. Главное — то, что мы получаем самые широкие возможности для работы. Почти три с половиной миллиона… А еще недавно, в те годы, когда мы только начинали, я радовался и двумстам тысячам рублей.
И со всем этим мне предлагали подождать до завтра!
Свои поправки и замечания я стал делать тут же на полях проекта.
Еще сжать сроки для поставщиков сварочных головок, флюса, электродов, моторов и расписать им Программу не в целом на год, а поквартально.
Некоторые заводы заменить другими.
Вдвое увеличить задание по выпуску флюса.
Обязать наркоматы представить планы внедрения автосварки не только на 1941, но и на следующий год…
Делая все эти пометки, я невольно задумался.
Только полгода назад скоростная сварка под флюсом начала выходить из «лабораторных пеленок», и вот для ее распространения в промышленности уже создаются все условия. К усилиям группы ученых присоединяются усилия десятка наркоматов и множества заводов. А в нескольких шагах отсюда, в Кремле, руководители народа думают над той же проблемой, что и мы у себя в институте.
И сразу невольно мелькнула другая мысль: вот бы мне родиться лет на двадцать-тридцать позже. Как-никак, пошел восьмой десяток! А ведь радостно жить и трудиться в нашу замечательную эпоху. Я жалею о том, что моя молодость и зрелость прошли в затхлой атмосфере царской России. Зато сейчас я снова молод. Я знаю, что молодость у нас в стране определяется не только годом рождения, но и стремлением и умением упорно работать на благо своей страны, своего народа.
21 декабря 1940 года
Передо мной уже не проект, а само постановление правительства. В нем автоматическая сварка под флюсом названа самым прогрессивным видом сварки. Это ли не высшее признание нашего скромного труда?
Еще так недавно мы двигались на ощупь, растирали в порошок бутылочное стекло, старались разгадать тайны дугового процесса, происходящего под слоем сыпучего флюса. Но как только мы выбрались на дорогу, оказалось, что нашего ответа ждала вся промышленность и, едва мы добились первых реальных успехов, немедленно приняла на вооружение наш метод.
Скоростная автосварка, под флюсом отныне перестанет быть предметом дискуссий! В правительственном документе черным по белому записано:
«Совет Народных; Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) отмечают значительные преимущества метода автоматической электросварки голым электродом под слоем флюса в сравнении с прочими методами дуговой сварки».
И тут же отмечается большая работа, проделанная нашим институтом по разработке аппаратуры и технологии скоростной автоматической сварки.
Позавчера меня пригласили в Кремль. У заместителя Председателя Совнаркома В. А. Малышева собрались все наркомы, помянутые в проекте постановления. Приехал, конечно, и Никита Сергеевич, человек, стоявший у колыбели нашего дела, первый его друг и пропагандист.
Люди, которых знает вся страна, внимательно слушали меня — украинского ученого, вникали в подробности, своими вопросами старались выяснить, что может дать новый метод сварки для промышленности.
Впервые я так близко сталкивался со старшими командирами нашей индустрии.
Вслушиваясь в замечания наркомов, я думал о великой ответственности людей науки перед народом. Любая наша, пусть самая маленькая, ошибка становится преступной, если она выйдет незамеченной из лаборатории и будет неизбежно помножена на неудачи в десятках цехов.
Мне вспомнилось, как когда-то, в конце прошлого века (словно в какой-то другой жизни!), я обивал пороги в царском министерстве путей сообщения, тосковал от невозможности полностью применить свои силы. А сегодня я, вместе с членами Советского правительства, слово за словом редактирую государственный документ — путевку в жизнь нашему открытию…
После заседания я подошел к Малышеву:
— Вячеслав Александрович, наш институт еще очень мало сделал, мало показал, а нам дают уже такие награды, премии. Это излишне, неудобно как-то.
Малышев засмеялся:
— А это у нас, у большевиков, Евгений Оскарович, такой порядок заведен. Мы тех людей, которым верим, отмечаем сразу и за Прошлое и за будущее.
А они с лихвой отрабатывают советской власти за доверие. Работу в вашем институте надо поставить с размахом. Получите все, что нужно для этого. Пора вам построить и жилой дом для сотрудников, они это заслужили.
— Спасибо за доверие, Вячеслав Александрович, — ответил я. — За эти дни в Москве я многому научился.
— Вот и хорошо! — многозначительно улыбнулся Малышев. — Мы еще с вами поработаем.
Смысл этого скрытого намека дошел до меня только на другой день, во время встречи с товарищем Хрущевым. Мы вспоминали его приезд в институт, тот день, когда он впервые увидел спекшуюся корочку флюса и сумел разглядеть будущее нового метода.
Сейчас Никита Сергеевич с большим увлечением говорил:
— Да, это было совсем недавно. И вот мы уже делаем первый решающий шаг к вытеснению малопроизводительного и тяжкого труда ручного сварщика и к переводу сварки на механизированный индустриальный метод. Великое дело, а? Партия и правительство берутся вместе с вами, Евгений Оскарович, за то, чтобы изгнать кустарщину и отсталость из сварки. Что говорить, — скоростному методу принадлежит великое будущее. Кстати, как вы расцениваете наше постановление?
— Как историческое для дела сварки, для науки о сварке, — не задумываясь, ответил я. — В нем полностью определено, что, кому и когда надо сделать.
— Совершенно верно, — горячо заметил товарищ Хрущев, — но принять хорошее постановление — это еще не все. Постановление не венец, а только начало дела. Партия учит нас, что за каждым, самым авторитетным документом должен стоять человек или люди, глубоко заинтересованные в его выполнении.
Улыбаясь, Никита Сергеевич смотрел мне прямо в лицо:
— Где же, в данном случае, нам взять в Москве такого человека?
Я, к сожалению, ничего не мог подсказать. Ведь речь шла о детище нашего института.
— Тогда позвольте вам передать, — сказал Никита Сергеевич, — приглашение переехать на полгода — на год в Москву и принять прямое участие в руководстве выполнением нашего постановления. Возможно, мы встретимся и с неповоротливостью, с косностью, а то и с прямым сопротивлением консерваторов. Нужен человек, влюбленный в свою идею, способный всегда и всюду дать бой ее противникам. Вы ведь знаете, старое, мертвое не хочет само сходить со сцены.
Он выжидательно помолчал.
— Что же вы скажете?
Я был глубоко взволнован. Значит, крепко поверили и в наше открытие и в нас самих. Как оправдать такое доверие?
— Я и весь институт приложим все старания, чтобы не обмануть надежд правительства. Вас же, Никита Сергеевич, горячо благодарю за все сделанное.
Никита Сергеевич внимательно посмотрел на меня:
— Это очень хорошо, что вы согласны. Но одного горячего желания работать все же мало. Надо дать вам такие права, чтобы с вами считались. Вы будете назначены членом совета машиностроения при Совнаркоме. Председателем в этом совете Малышев. При любых трудностях или помехах обращайтесь к нему и ко мне. Пишите, не стесняйтесь, не бойтесь побеспокоить.
Я был тронут до глубины души, но меня мучила. одна мысль, и я не мог, не хотел ее скрывать.
— Большое счастье, Никита Сергеевич, получить такие возможности для своего дела, Но совсем оставить институт на целый год я не могу. Прошу разрешить мне хоть одну неделю каждого месяца проводить в Киеве.
— А эти поездки туда и обратно не будут слишком утомительными для вас? — спросил товарищ Хрущев.
— Нет. И потом это нужно в интересах дела.
И вот послезавтра я выезжаю домой. Согласие правительства на совмещение работы в Москве и в институте получено. Везу с собой постановление Совнаркома и ЦК партии — самую драгоценную награду для всех наших.
15 января 1941 года
Вот уже две недели как я снова в Москве. Теперь перебрался надолго. Чувствую себя немного непривычно и неуютно в большом совнаркомовском кабинете и первым делом заменил школьной невыливайкой громоздкий «министерский» чернильный прибор на своем рабочем столе.
Рабочий день у меня начинается в десять утра и заканчивается (с трехчасовым перерывом) в двенадцать ночи. Но я не изменил своим привычкам, встаю в шесть утра и до того, как отправиться в Совнарком, часа два работаю дома. Душ или ванна сейчас же после сна (в любую погоду) дает зарядку бодрости на весь долгий день.
Тружусь тринадцать-четырнадцать часов в сутки, сейчас все зависит от нашей энергии и настойчивости. Правда, режим дня я установил настолько суровый, что мой секретарь не выдержал и сбежал. Пришлось подыскать другого.
Нашему институту и Центральному научно-исследовательскому институту технологии машиностроения поручено снабдить двадцать крупнейших заводов страны рабочими чертежами автосварочных установок и обеспечить техническую помощь в их пуске и освоении. Десятки совершенно различных установок! И всего лишь через полгода они уже должны действовать, варить вагоны, цистерны, котлы, вагонетки.
Но эти двадцать заводов лишь тогда смогут пустить установки, когда получат сварочные головки, щиты управления, мощные трансформаторы, флюс, кремнемарганцевую проволоку. И ответственность за изготовление всего этого большого и сложного хозяйства возложена на меня лично.
Через соответствующие наркоматы все заказы уже размещены, и теперь мы снабжаем заводы оборудованием, приборами, материалами. Киевскому заводу «Автомат» поручено изготовить двести сварочных головок по чертежам нашего института. Я помог заводу получить фонды на нужные материалы и моторы, организовал испытание головок на заводе.
Киевский завод «Транссигнал» должен выпустить десятки пультов управления и аппаратных ящиков по нашим чертежам. У этого предприятия трудная миссия: придется применяться к схемам каждой сварочной установки в отдельности по мере их разработки в институте. Остальные заказы получили заводы Ленинграда, Харькова, Донбасса.
Крепко запомнились мне слова Никиты Сергеевича о том, что самое хорошее постановление — это только начало дела. То же самое и с выполнением заказов. Нужно держать все время в поле зрения всю картину в целом, не давать никому отставать, ибо срыв одного заказа может поставить под угрозу выполнение всего постановления.
20 марта 1941 года
Мне присуждена Сталинская премия первой степени «За разработку метода и аппаратуры скоростной автоматической сварки»! Об этом объявлено в газетах. Это для меня не только огромная радость, но и полная неожиданность. Насколько я знаю, Украинская Академия наук не выдвигала моей кандидатуры…
Позавчера в «Правде» напечатана моя подвальная статья «Скоростная сварка». В ней я рассказал не только об истории рождения нашего метода и его преимуществах, но и о том, как он прокладывает себе путь в промышленность, о пионерах этого дела на передовых заводах. Надеюсь, статья вызовет интерес к скоростной сварке и у других. Столичные сварщики уже загорелись. После моего недавнего доклада на их совещании москвичи наметили много конкретных мероприятий.
Так же горячо отозвалась на мой доклад и всесоюзная конференция инженеров и ученых, работающих в области сварки. Теперь, после лестных и приятных слов, будем ждать от них совместной с нами реальной, живой борьбы за новое дело.
По нашему предложению все заводы, перечисленные в постановлении, выделили авторитетных представителей, они пишут нам, приезжают в Москву, и мы держим с ними крепкую связь. Стараемся заглядывать вперед, думаем о будущих хозяевах установок, на курсах при институте в Киеве учатся заводские руководители скоростной автосварки. Со всеми ими я познакомился лично.
Из разных концов страны на заводы поступает и монтируется оборудование. На днях директор завода «Автомат» Топорков привез Малышеву образцы головки и получил солидную премию. Но ему преподнесли не только поощрение, а заодно и подекадный график выпуска и отправки двухсот головок.
На заводах нас стали немного побаиваться: мы не позволяем проявлять даже малейшего пренебрежения к качеству сварочного оборудования. Приходится добиваться точного соблюдения сроков, ведь каждый завод имеет свой основной план, и наш заказ для него «дополнительная нагрузка». Кряхтят, но справляются и делают в общем все на совесть.
Вначале я задумывался над таким вопросом: должен ли всем этим заниматься ученый, должен ли он воевать с теми, кто смотрит на все только со своей ведомственной колокольни? Или, может быть, наше дело дать народу то или другое открытие и затем перейти к новым исследованиям? Ведь наше прямое призвание в этом. Теперь, после нескольких месяцев работы в Москве, сама эта мысль кажется мне дикой. Что может быть в наших советских условиях нелепее фигуры жреца «чистой науки»?
Вот, например, Наркомчермет долго канителил, уклонялся от того, чтобы уменьшить диаметр и вес бухт электродной проволоки, выпускаемой для сварочных автоматов. Заказ долго не передавали заводам. Большие, тяжелые бухты, оказывается, «выгоднее» для них. Какому-то чиновнику лень было возиться с такими «мелочами», и из-за его упрямства могло пострадать все дело внедрения сварки под флюсом.
В «Главстекло» без конца толковали об изготовлении сварочного флюса, но не давали ни одного килограмма.
Какой же прок, спрашивается, был бы от всех наших открытий и самых распрекрасных лабораторных установок, если бы заводы остались без проволоки и флюса? Может ли тут ученый умывать руки, если ему дорога его наука? И как должен поступить я?
И память снова подсказала сказанные Никитой Сергеевичем слова о том, что за каждым новым делом должны стоять и бороться за него люди, влюбленные в свою идею, в свое открытие.
Я написал докладную записку товарищу Малышеву. Составлена она была в колючих и сердитых выражениях, невзирая на то, что касалась весьма ответственных товарищей.
Малышев тотчас назначил генеральную проверку выполнения всего постановления. Наш доклад об итогах этой проверки был немедленно поставлен на заседании совета машиностроения. И всем, кто имел за душой грехи или грешки, пришлось в тот день несладко.
Правда, один из членов коллегии Наркомчермета попытался выгородить своего подчиненного, виновного в срыве выпуска кремнемарганцевой проволоки.
— Какие-то изобретатели сочиняют новые «ОСТы», а отдуваться должны мы, — высокомерно заявил этот оратор.
Я не вытерпел и вскочил с места:
— Вот как! Правительство оценило скоростную сварку, а для вас это одна обуза, «какое-то изобретательство»? Сколько же это еще будет продолжаться?!
Вслед за мной поднялся Малышев. Он кратко, но весьма вразумительно дал понять, что правительство не потерпит такой разболтанности в выполнении его директив. Столь же решительное внушение было сделано товарищам из «Главстекло».
Ох, не хотел бы я в ту минуту быть на их месте!
Результаты крутого вмешательства правительства сказались с разительной быстротой. Завод им. Дзержинского в Днепродзержинске и Белорецкий завод на Урале незамедлительно получили заказ на изготовление двух тысяч тонн электродной проволоки, стекольный завод «Пролетарий» в Лисичанске энергично взялся за выпуск флюса.
30 марта 1941 года
Мы стремимся не к успехам на отдельных участках, а к тому, чтобы решать все вопросы комплексно, двигать дело вперед сразу всем фронтом.
Наряду с применением специальной кремнемарганцевой проволоки велись исследования по сварке обычной малоуглеродистой проволокой в ЦНИИТ-МАШе в Москве, и у нас в институте в Киеве, и на заводе «Электрик» в Ленинграде. Совместные усилия принесли успех. В таком же творческом соревновании-содружестве рождались новые, более совершенные типы флюсов, рассчитанные на применение доступной всем малоуглеродистой проволоки.
Жесткие сроки, предельная конкретность заданий, необходимость проектировать не вообще, а для конкретных заказчиков-заводов, определяли весь характер научной работы в институте.
В 1941 году у нас появилась новая модель сварочной головки «А-66». В сравнении с прежними образцами она обладала бесспорными достоинствами, прежде всего большей надежностью в работе. Мы увеличили скорости подачи электродной проволоки, обеспечили подвод больших токов, устроили надежное копирное приспособление для направления электрода по шву, закрытому слоем флюса.
Такая сварочная головка подвесного типа требует сооружения станка для ее перемещения вдоль свариваемого изделия. Эти станки обычно громоздки и довольно сложны в изготовлении и эксплуатации.
Еще в позапрошлом году мы начали думать над тем, как бы преодолеть это неудобство, ведь оно в значительной мере задерживало дальнейшее развитие автоматической сварки. Особенно нас подхлестывали своими требованиями судостроители. Они нуждались в компактном, удобном и небольшом по весу сварочном аппарате, который перемещался бы вдоль шва собственным ходом, без специального станка. В том же 1939 году в институте родился такой самоходный автомат, который мы назвали сварочным трактором. (Подсказано это название было внешним сходством и тем, что наш автомат двигался по стальным листам, как сельскохозяйственный трактор по полю.) Первые наши тракторы предназначались для сварки обшивки плоскостных секций судовых корпусов и для приварки палубы и днищ.
Когда появилась сварка под флюсом, мы вернулись к этому своему трактору-первенцу. После переработки его конструкции от старой модели осталось немногое. Теперь он был оснащен головкой образца 1941 года, появился бункер для флюса, ходовые бегунки перемещались по разделке шва, а скорость сварки можно было регулировать в пределах от 5 до 70 метров в час.
Но, конечно, этот трактор имел весьма ограниченное применение, пока преобладали станки. Над их проектированием наши конструкторы работали с полной нагрузкой. Это были станки для сварки балок с прямыми швами, для сварки продольных и круговых швов котлов и труб и карусельные станки для сварки круговых швов в горизонтальной и наклонной плоскостях, были также и универсальные установки для всех видов швов.
Никогда еще институт не жил такой полной, насыщенной жизнью, никогда еще наши люди не чувствовали такого удовлетворения. Правда, первые же опыты наглядно показали нам (пусть это даже звучит парадоксом, но это так), что чем больше мы продвигаемся вперед, тем больше встречаем трудностей.
Но зато это были трудности не застоя и болотного прозябания, а стремительного движения к большой цели.
Еще недавно, создав в лаборатории наш отечественный советский флюс, мы чувствовали себя победителями. Но вот завод «Пролетарий» выпустил первую большую партию флюса в 200 тонн… и мы пережили крупный конфуз. Этот флюс, сваренный в пламенной печи завода, оказался негодным. (В институте все опытные сварки производили под флюсом, выплавленным в электропечи.) Для завода дело это было совершенно новым, но и мы, специалисты, не могли объяснить, в чем же загвоздка, где причина неудачи.
Товарищи в институте терялись в догадках, глубоко переживали то, что поиски ничего не дают, бомбардировали меня тревожными письмами и звонками. Я потребовал продолжения опытов, дал некоторые советы, но сам волновался не меньше моих сотрудников. Дело ведь не шуточное, не будет флюса — не будет и скоростной сварки.
А время не ждало. На заводе «Пролетарий» вопрос ставили остро:
— Или вы нас выручите, или мы остановим печь!
В Лисичанск выехал наш научный сотрудник. Заводские товарищи сидели в институте. Результаты опытов они сообщали друг другу и мне по телефону.
И в конце концов настойчивость привела нас к успеху. Догадка о том, что флюс, выплавленный в заводской пламенной печи, недостаточно раскислен, оказалась правильной. Мы предложили внести некоторые поправки в технологию производства, завод принял их, и флюс сразу улучшился, «вошел в анализ».
Теперь мешки с долгожданным флюсом можно было смело отсылать на десятки заводов, которые с нетерпением ожидали, чем же кончатся эксперименты.
Еще раз одержал победу наш девиз:
«Не считай свою научную работу законченной, пока ее не проверила жизнь, практика».
25 мая 1941 года
Теперь можно признаться: сроки, установленные в постановлении, иногда и мне самому казались слишком сжатыми:
— В полгода провернуть столько дел?
Но оказалось, что жизнь в нашей стране опережает самые смелые планы. Сейчас только май, а на многих заводах уже не только смонтировали установки, но и пустили их в ход.
Я последнее время живу «на колесах», не сидится сейчас на месте в удобном кресле.
Побывал в Калинине, Брянске, Подольске, Горьком, Ленинграде — на крупнейших заводах страны. Нигде не упускаю возможности прочесть лекцию для инженеров, показать наш фильм о скоростной сварке (круглая коробка с кинолентой всюду кочует со мной), провести совещание сварщиков-скоростников, причем непременно в кабинете у самого директора завода и с его личным участием.
Устаю я основательно, но зато собственными глазами вижу, как наши головки варят под флюсом огромные котлы, железнодорожные вагоны, крупные балки.
Прямая задача моих поездок на заводы — проверка выполнения постановления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) о внедрении скоростной автосварки на этих предприятиях.
Интересной была поездка в Ленинград. Один из его крупнейших кораблестроительных заводов сделал уже для себя по нашим чертежам автосварочную установку портального типа и сваривает на ней балки судового набора и другие элементы корпусов.
Балтийский завод производственной автосварочной установки еще не имеет и сварку под флюсом осваивает пока на небольших станках в лаборатории, там же исследуя первые опытные швы. Видно,
заводской народ вошел во вкус нового метода и готовится применить его в цехах. Вместо громоздких установок для сварки секций здесь вполне разумно собираются использовать наш сварочный трактор.
На заводе «Электросила» также действует лишь маленькая лабораторная установка, но чувствуется, что тут еще не представляют себе, какую большую помощь сможет оказать скоростная сварка при изготовлении громадных корпусов гидрогенераторов. Я старался направить их мысль в эту сторону. На «Электросиле» меня интересовал и другой вопрос. Совнарком СССР поручил этому заводу разработать образец электрического пылесоса с коллекторным мотором постоянного тока для отсоса остатков флюса после сварки. Такое же задание имел электромеханический завод в Ярославле. На «Электросиле» я ознакомился с ленинградским пылесосом. Вскоре образцы с двух заводов я передал в наш институт для сравнительного испытания. Дело кончилось тем, что электрические аппараты были признаны ненадежными и мы перешли к более простым приспособлениям — форсункам, которые действовали сжатым воздухом из заводской сети. Это толковое предложение внес наш инструктор И. К. Олейник.
Настоящее удовлетворение принесла мне поездка в г. Калинин на вагоностроительный завод. Еще в 1940 году институт спроектировал ему установку для сварки под флюсом больших балок вагонных рам. Сейчас эта установка уже успешно действовала под руководством того же Олейника. Видя, что тут работают люди энергичные и верящие в электросварку, я предложил им спроектировать многоточечную контактную машину для приварки железной обшивки к каркасам цельнометаллических пассажирских вагонов. Дирекция увлеклась этой идеей, и мы начали переговоры.
С вагонным заводом в Мытищах, недалеко от Москвы, мы связывались еще до 1940 года, когда наша группа вагоностроителей изыскивала оптимальную сварную конструкцию пульмановских тележек для Московского метро. Завод изготовил для нас несколько таких тележек, а аспирант института А. Е. Аснис проводил вибрационные испытания их для выяснения наилучшего типа.
Я слышал, что на мытищинском заводе инженеры Штерлинг и Мумриков испытывают в цехе предложенную ими сварку лежачим обмазанным электродом, что они считают ее полуавтоматическим способом и противопоставляют скоростной сварке под флюсом. Я ехал в Мытищи, чтобы подробно ознакомиться с полученными результатами и выяснить, может ли действительно лежачий электрод конкурировать с нашим методом. Но по приезде я не нашел в лице двух заводских инженеров «противников». К этому времени они сами убедились в превосходстве сварки под флюсом, на заводе единодушно отдали ей предпочтение и начали внедрение в производство.
С заводом им. Орджоникидзе в Подольске нас также связывают старые отношения. Еще в 1939 году этот завод заинтересовался сваркой котлов и цилиндрических сосудов для нефтеперерабатывающих заводов. Завод заключил с институтом договор на проект большого роликового стенда для автосварки под флюсом кольцевых и продольных швов в котлах и подобных им цилиндрических сосудах. Эта установка, построенная на месте по нашим чертежам, в те дни уже осваивалась в цехе. Пускал и отлаживал ее инструктор института. Мне, естественно, было интересно проследить за ее работой, и я на автомашине отправился в Подольск. Наш инструктор и местные инженеры продемонстрировали мне установку на ходу. Она оказалась на редкость удачной и удобной и работникам завода очень нравилась. Я немедленно сообщил об этом в Киев П. И. Севбо и настоятельно рекомендовал ему использовать эту установку в качестве образца.
Общее впечатление от всех этих поездок: заводской народ доволен установками, невиданными скоростями и хорошим качеством швов. Сварка под флюсом прекрасно агитирует сама за себя!
Но мы не только обмениваемся комплиментами с производственниками. Скоростная сварка делает лишь первые самостоятельные шаги, и приходится иногда не слишком вежливо внушать должное уважение к ней.
Иные люди думают, что если перед ними автомат, то с ним можно поступать как угодно. Например, на заводе «Красное Сормово» я натолкнулся на такое возмутившее меня зрелище. Небо обложено тучами, моросит дождик, а люди преспокойно варят себе на открытом дворе. Какая уж тут может быть культура сварки!
Устроил форменный разнос, накричал:
— Не приходит же вам в голову ставить на дворе токарные и другие станки?! А станок для автосварки все стерпит?
Мокрый флюс — это полная гарантия того, что в швах образуются лоры. Надо полагать, вид у меня был довольно разъяренный, потому что сварку тотчас же перенесли под навесы…
— А еще говорят «академическое спокойствие»! — пошутил кто-то тогда за моей спиной.
На многих заводах я встречаю наших институтских инструкторов по внедрению автоматической сварки. И. К. Олейник, А. И. Коренной и другие наши товарищи не покидают цехи, пока не пустят установку и не заставят ее работать без капризов.
Теперь я вижу, какая это была счастливая мысль ввести штат таких инструкторов. Кажется, в других институтах их нет. Но и автосварки под флюсом еще совсем недавно тоже не было.
Когда скоростная сварка шагнула из стен института в широкую жизнь, передо мной сейчас же встал вопрос:
— А кто же ее будет двигать дальше, внедрять на заводах?
— А наше ли это дело? Разве этим на самих заводах некому заниматься? — твердили мне даже у нас в институте некоторые сотрудники.
Я был другого мнения.
— Но как же все-таки поступить? Научных сотрудников у нас маловато, да и вряд ли есть смысл на очень долгие сроки отрывать их от основного дела.
Я стал подбирать в институт инженеров-производственников — преимущественно из своих недавних студентов или даже вчерашних дипломантов. Скажу прямо: специалистов по ручной сварке по возможности избегал. Я опасался, что старый опыт, инерция будут тянуть их назад. Поэтому охотнее зачислял людей прямо с вузовской скамьи, и уже в нашем институте мы учили их скоростной сварке.
Мы искали, нащупывали наиболее удобную форму работы, которая способствовала бы внедрению скоростной сварки в производство.
Сначала планировалась посылка на каждый завод комплексной бригады в составе технолога, конструктора и электрика. Но деятельность наша все расширялась, пускать установки нужно было на двадцати предприятиях, а людей не хватало. Приходилось посылать по одному человеку — в роли инструктора. Ни. одного из них я не выпускал на заводы в «самостоятельное плавание», не учинив допроса с пристрастием. Умышленно ставил им «каверзные» вопросы, с которыми можно столкнуться в цехе. Ведь там на инструктора будут смотреть, как на «бога», и оконфузиться ему не подобает.
Но и потом я не давал инструкторам покоя. Сейчас я заставляю их каждые несколько дней писать мне в Москву, немедленно подавать сигнал о всяких неудачах или сюрпризах, смело жаловаться на тех больших начальников, с которыми нам легче справиться тут, в Москве.
Приезжаю на завод я обычно без предупреждения, чтобы увидеть неприкрашенную картину. Например, в Брянске, на заводе имени Урицкого, я застал нашего инструктора Коренного в превеликом смущении. Уже месяц он варил хребтовые балки шестидесятитонных платформ. Режим сварки у инструктора был отрегулирован по всем правилам, и все же в швах неожиданно стали появляться пресловутые поры.
Инструктор гордился тем, что скрупулезно придерживался инструкции, и недоумевал, почему же автомат гонит брак. А ошибка Коренного как раз в том и состояла, что он обожествлял институтский режим, применял его, не сообразуясь с местными условиями производства.
Я немедленно приказал производственную сварку прекратить, вести ее только на образцах, пока поры не исчезнут окончательно. Разобравшись в причинах возникновения брака, я посоветовал, как их устранить.
Через четыре дня поры исчезли.
Вернувшись в Москву, я узнал, что другой наш инструктор — Олейник самостоятельно решил ту же задачу, и тотчас же сообщил Коренному в Брянск об опыте его товарища. Когда со временем Коренному пришлось заняться сваркой котлов в Пензе, я предварительно направил его в Подольск, где это дело было уже налажено одним из наших инструкторов.
Иногда я сам удивляюсь тому, как широко «раздвинулись» стены нашего института. Мы прокладываем дорогу заводам, они подпирают, поправляют нас своим опытом. А общее движение от этого ускоряется.
Я убедился в том, что только такими объединенными усилиями можно достичь настоящего успеха в науке и технике.
Поэтому мне весьма странно слышать жалобы некоторых ученых, которые часто готовы обвинять практиков в том, что те, дескать, недооценивают, не подхватывают их технические идеи. Хорошая идея — это еще далеко не всё… Мы знаем немало случаев, когда из-за пассивности ученого, неуменья бороться за внедрение своего изобретения в жизнь важные открытия годами лежат под спудом.
Найти что-то и похоронить в своих лабораториях, не довести до конца — кому это нужно? Переведите свое открытие на язык техники, на язык производства, доведите его до заводов, поставьте на ноги, сломайте сопротивление тех, кто цепляется за старое, а потом уже хвалитесь победами.
Думаю, что все-таки прав я, хотя подобные мысли не всем приходятся по вкусу.
5 июня 1941 года
В последние дни я получил два весьма полезных урока.
Недавно я записал, что жизнь опрокинула наши опасения о сроках. Вслед за этим она показала мне, что освоение сварки под флюсом двадцатью заводами в первые же полгода — задача в общем скромная в наших советских условиях.
Не только заводы, перечисленные в постановлении, но и многие другие предприятия начали осаждать нас заявками на сварочное оборудование. От них ничего никто не требовал, они сами прослышали о новом методе и, не испугавшись неизбежных хлопот, торопились подхватить его. И мы охотно отдаем комплекты сварочной аппаратуры из своих резервов тем, кто вместе с нами «заболел» этим делом.
Мы чувствовали себя смельчаками, называя цифру «20», а действительность нас опередила. Это хороший урок жизни. Так сказать, урок снизу.
А вот урок сверху. Он также научил меня многому.
Однажды ко мне приехал начальник Главного управления трудовых резервов товарищ Москатов.
Я не сразу догадался о цели его визита. Ведь к вузам, где мы собирались готовить инженеров по скоростной сварке, Москатов касательства не имеет.
— Скажите, — начал он издалека, — верно я слышал? Вы добиваетесь, чтобы сварочные кафедры пяти индустриальных институтов начали немедленно готовить для вас специалистов?
Я кивнул головой.
— Техников и мастеров вы рассчитываете получить из сварочных техникумов?
— Совершенно верно.
— Отлично. А младший командный состав и бойцов откуда возьмете? Сварщиков, наладчиков?
Вопрос этот мне казался элементарно простым.
— Заводы сами подготовят. Да и сколько того народа поначалу понадобится?
Москатов усмехнулся:
— Н-да… А вот правительство смотрит дальше нас с вами. Сегодня действительно нужно немного таких людей. А завтра, а послезавтра? Ведь у нас скоро будут работать тысячи аппаратов по скоростной сварке. В будущее-то мы с вами не заглянули, Евгений Оскарович? Правительство поручило нам уже в июне этого года начать обучение инструкторов-наладчиков. И не как-нибудь, а сразу в двенадцати училищах. Что вы на это скажете?
Что я мог сказать? Передо мной мгновенно раскрылись такие горизонты, что вся наша большая сегодняшняя работа показалась мне первым скромным приступом к чему-то огромному. Тысячи аппаратов, тысячи сварщиков! А ведь всего лишь год назад только три-четыре человека в стране — мои ближайшие помощники, — волнуясь и нервничая, начинали сваривать под флюсом два куска стальной балки.
19 июня 1941 года
Вышла из печати моя книга-учебник по скоростной сварке.
Я писал ее по утрам, вставая на рассвете, и в выходные дни, забирая с собой рукопись на дачу, облюбованную в свое время Алексеем Максимовичем Горьким, на берегу Москвы-реки. Там, в уединении и тишине, дело подвигалось довольно быстро, писалось, работалось легко. Обычно в субботу с вечера я уезжал туда и оставался там на все воскресенье.
Когда книга была закончена, правительство распорядилось, чтобы она была напечатана в небывало короткий срок: в шесть дней!
Спрос на книгу настолько большой, что уже необходимо готовить к печати новое издание! И я предчувствую, что в него придется внести немало капитальных поправок. То, что вчера казалось незыблемым, жизнь бесцеремонно опрокидывает и заставляет пересматривать.
Недавно я побывал в Киеве, проверил, как идет подготовка к строительству нового здания института. Пришлось кое-что изменить в планах и проектах. Надо уже сейчас создавать лаборатории, которые понадобятся завтра, добывать оборудование для разрешения научных тем, которые сегодня обрисовываются еще смутно, но очень скоро встанут перед нами во весь рост.
Да, только шагать с жизнью в ногу — этого мало для настоящей науки, наука должна опережать сегодняшние потребности народного хозяйства, иначе она очень быстро отстанет и выродится.
Прошло шесть месяцев моего пребывания в Москве, может быть, самых насыщенных и напряженных месяцев всей моей многолетней жизни.
Что же сделано за это так быстро пролетевшее полугодие?
Отвечу кратко: постановление партии и правительства об освоении скоростной сварки полностью выполнено всеми заводами, кроме двух. Это одновременно и характеристика работы института.
Наркоматы по нашему предложению составили планы внедрения скоростной автосварки на второе полугодие, а мы свели его в общесоюзный план и, конечно, с резкими поправками на увеличение. Да, то, что сделано, — уже в прошлом, правда, оно дало нам больше опыта и знаний, но теперь все наши помыслы устремлены в завтрашний день.
Особенно интересуют нас заводы Урала. Я долго обдумывал, кого же из. института послать туда, и напоследок решил, что не грех проехаться и самому директору. Правда, путешествие дальнее и для меня обременительное, но зато я увижу Урал с его богатырской индустрией, своими глазами смогу убедиться, насколько изменили его пятилетки. Ведь Урал я знаю только по романам Мамина-Сибиряка, и представления мои о нем, вероятно, безнадежно устарели.
Послезавтра, 21 июня, двинусь в путь.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
1. КОМАНДИРОВКА НА УРАЛ
Вечером двадцать первого июня 1941 года я выехал из Москвы на Урал.
Тагильский экспресс мчался строго по прямой на восток. Порывистый ветер врывался в открытые окна и трепал легкие шелковые занавески. Он подхватывал над трубой паровоза длинные хвосты огненных искр, и золотые светлячки прочерчивали бесконечным пунктиром мягкие июньские сумерки.
Едва столичный вокзал остался позади, в окнах на две-три секунды промелькнули знакомые очертания путепровода, спроектированного мною свыше сорока лет тому назад. Моя первая самостоятельная работа после окончания Петербургского института инженеров путей сообщения… Почти полвека пролетело с тех пор. И каких полвека!
Впереди тысячи километров пути и несколько свободных суток без деловых совещаний, поездок в наркоматы и на заводы, без телефонных звонков, ответов на письма, чтения корректур и научных отчетов, без строгого расписания дня, где взяты на учет каждые десять минут.
Садясь в поезд, я заранее предвкушал прелесть отдыха.
Но уже с самого утра я стал томиться от вынужденного безделья. В вагоне началась та обычная жизнь, которая непременно возникает в поездах дальнего следования: одни просили у проводника шахматы, другие доставали из портфелей увесистые тома романов.
Легко и быстро завязывались знакомства. В центре внимания, конечно, оказывались коренные уральцы. По их словам, на земле не сыскать края более красивого, богатого и щедрого, чем их Урал.
Бороться со своей натурой трудно и, вооружившись очками, я разложил на столике тематический план института на 1941 год. Захотелось еще раз на досуге поразмыслить над ним.
Два раза я перелистал план, но никак не мог сосредоточиться. Казалось бы, уединившись в купе мягкого вагона, можно хоть на время вырваться из круговорота повседневных дел. Но это было не так. Жизнь властно проникала и сюда.
Навстречу экспрессу беспрерывным потоком шли тяжеловесные товарные составы, мерно постукивали на стыках рельсов черные от пыли и мазута цистерны, мелькали пассажирские поезда.
Было что-то волнующее и захватывающее в этом встречном вихре поездов! Все, что проходило перед моими глазами, говорило о большом напряженном труде наших людей, напоминало о непочатом крае дел для творческой исследовательской работы.
В несколько мгновений исчезал из поля зрения пассажирский состав, а мой наметанный глаз успевал заметить обилие заклепок на боковинах вагонов. Нелепо тратить столько времени, труда и металла на клепку, когда доказана возможность постройки двадцатипятиметровых цельносварных вагонов! Вспомнились беседы с инженером Травиным, инициатором и неутомимым пропагандистом этого дела. Опытное оборудование для сварки цельносварных вагонов разрабатывалось у нас в институте.
Делаю пометку в соответствующем разделе плана: ускорить!
Снова нескончаемые составы цистерн. Хотелось на остановке подойти к стоящему рядом составу, стереть грязь на стыках стальных полотнищ, проверить, склепаны или сварены цистерны. Но я и так знал, что на сотню цистерн попадутся только одна-две сварные.
Достаю из портфеля взятый с собой для окончательного просмотра отчет о внедрении сварки в строительство цистерн.
Да, сегодня он мне что-то не кажется уже таким утешительным! Кое-что сделано, но все это только начало. После возвращения в Москву — приналечь и на этот участок.
Я уже не скучаю. Даже здесь, в пути, жизнь неотступно учит, корректирует, направляет, подсказывает. И все же приятно сознавать: то, что мы делает сегодня, то, что намечаем на завтра и отразили в своем плане, находится не где-то в стороне от жизни, а на главном направлении.
От этих мыслей меня отвлекло замечание соседа по купе:
— Почему это молчит радио? Вчера весь вечер говорило и пело, а сегодня ни звука. Испортилось, что ли?
И едва он произнес это, из динамика прозвучал напряженный и взволнованный голос московского диктора.
Внутри словно все оборвалось. Нет сомнений, случилось что-то очень важное, чрезвычайное.
— Неужели?.. Неужели война?
Не хотелось верить.
Да, это была война. В то навеки памятное воскресенье 22 июня 1941 года, в поезде Москва — Нижний Тагил, я вместе со всем советским народом узнал об этом. Фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу Родину. Гитлеровские орды вторглись на советскую землю. В числе других городов, немцы налетели и на тыловой Киев, пытались разрушить мосты, в том числе и мое любимое детище — городской мост через Днепр. Они стараются стереть с лица земли мирные, далекие от фронта города. Уже по одному этому можно судить о том, с какими отпетыми разбойниками нам придется сражаться. Ясно, война предстоит нешуточная.
Мысль работает лихорадочно:
«Что делать, где сейчас мое место? Мне 71 год, но война касается непосредственно и меня».
Первое решение:
«Надо немедленно возвращаться в Киев, в институт, к семье. Может быть, институт и дом, где мы живем, уже превращены в развалины, может быть, под этими обломками… Да, ехать обратно, нечего колебаться!»
Вглядываюсь в нахмуренные, сосредоточенные лица моих соседей-москвичей. Видимо, и они думают о том же, решают для себя тот же вопрос:
«Домой или продолжать путь?»
До Тагила еще далеко. На первой же большой станции можно сойти и пересесть на встречный поезд.
Ну, а как же тогда с уральскими заводами? Ведь военные события не отменяют моей командировки? Это не частная поездка, я выполняю задание правительства.
А другой голос подсказывает:
«Ты отвечаешь за единственный в стране Институт электросварки, смертельная опасность угрожает в любую минуту твоей семье».
Проводник объявляет о том, что поезд подходит к крупному железнодорожному узлу.
Смотрю на соседей. Никто не трогается с места, не собирает вещей. Решение всеми принято молча и единодушно. Это и мое решение.
На этой станции я опустил два письма. Первое — в Киев, второе — в Москву, председателю Совнаркома СССР И. В. Сталину.
Я писал ему:
«В мои годы я уже вряд ли могу быть полезным на фронте. Но у меня есть знания и опыт, и я прошу Вас использовать меня как специалиста там, где Вы найдете возможным и нужным. Родина в опасности, и я хочу свои последние силы отдать ее защите».
Отправив это письмо, я почувствовал облегчение. Я словно присоединился, пусть пока только мысленно, к действующей армии.
Е. О. Патон с моделью танка — подарком от коллектива Н-ского завода.
Е. О. Патон с сыновьями В. Е. Патоном и Б. Е. Патоном обсуждает новую модель сварочного трактора, сконструированного В. Е. Патоном.
Я снова развернул тематический план института на 1941 год. Теперь это уже был иной год: год войны. Сколько ей суждено продлиться? Месяцы, годы? Все равно, она должна быть победоносно завершена.
Я читал пункт за пунктом, читал другими, «военными» глазами. Многое из того, что еще сегодня утром казалось самым важным и неотложным, сейчас отодвигалось в сторону, на второй план.
Цельнометаллические вагоны подождут, теперь важнее увеличить, ускорить выпуск вооружения. Исследовательские темы дальнего прицела, которые дадут осязаемые результаты лишь через два-три года, пока тоже в сторону.
На первый план выдвинуть вопросы, решение которых необходимо для войны, для победы. Какие именно? Это покажет жизнь. Пока мне это еще не ясно. Война будет суровой проверкой для всей науки, а значит и для нас, для нашего института.
Радио в поезде почему-то снова молчало. На одной из станций я вышел на перрон послушать последние известия. Где-то в глубине души еще таилась надежда:
«Может быть, все это окажется не таким серьезным, может быть, немцев уже отбросили?»
Но сводка с фронта была грозной. Враг всюду встречал упорное, героическое сопротивление, истекал кровью, терял отборные части, но все же лез вперед. Разбойничьи бомбежки городов, в том числе и Киева, продолжались.
Мимо шагали люди. Фронт за тысячи километров, но и тут война сразу наложила на лица отпечаток суровости и глубокой озабоченности. Каждый думает о том, каким будет его место в строю. Думаю над этим и я. Мы, электросварщики, люди сугубо мирной, созидательной профессии. Что ж, придется переучиваться. Сварные швы могут соединять в одно целое не только боковины вагонов, но и броневые плиты танков.
В Нижний Тагил поезд прибыл серым и холодным утром. Эти непривычные для южанина прохлада и суровость лесных и горных пейзажей Урала заставили по контрасту вспомнить солнечные, яркие краски благодатной Украины. Сейчас по ее полям двигались не только комбайны, но и танки, в западных ее районах лилась кровь, небо багровело от зарева пожарищ, шла битва не на жизнь, а на смерть. А здесь предо мной расстилался могучий Урал, эта гигантская кузница страны. Сюда не залететь ни одному фашистскому асу!
На первом из уральских заводов я провел два дня.
Здесь все обстояло благополучно. Это был тот самый уральский завод, для которого мы спроектировали свою первую автосварочную установку. Наш инструктор Олейник пустил ее, наладил, и она без перебоев варила балки для железнодорожных платформ. Завод произвел на меня большое впечатление. Это было крупное и богатейшее предприятие со стале- и чугунолитейными цехами, кузнечно-прессовым отделом литых вагонных колес, газовым заводом, большой центральной лабораторией. Значение скоростной электросварки здесь товарищи понимали, и я успокоенным уехал отсюда в другой город.
Столько мне приходилось видеть на своем долгом веку, мостовые конструкции всегда собирались под открытым небом. Здесь же все делалось под крышами, в огромных великолепных цехах. Завод этот — настоящее детище пятилеток. Установку для сварки под флюсом крупных балок двутаврового сечения мне показал главный инженер завода Фролов. С ним я познакомился в Москве, когда мы начинали проектировать эту установку. Теперь Фролов с гордостью демонстрировал ее в действии.
На заводе мне сказали:
— Вас сегодня разыскивал заместитель Председателя Совнаркома Вячеслав Александрович Малышев.
— Малышев? — удивился я. — Да ведь мы на днях расстались в Москве?
— Он вылетел сюда на самолете в первый же день войны. И очень хочет видеть вас.
На заводе Малышева уже не было, и я отправился вслед за ним на станцию. Мы встретились в вагоне. Вячеслав Александрович рассказал, что он объезжает уральские заводы, которым предстоит перестроиться на военный лад. Он уже побывал на одном из них, где будет развернута в больших масштабах прокатка тонкого алюминиевого листа.
Меня поразило, что буквально через несколько дней после начала войны наше правительство принимает такие энергичные меры и, предвидя возможные случайности, создает в промышленности «вторую линию обороны».
Вячеслав Александрович кратко, но выразительно осветил мне ту роль, которую призван сыграть Урал в снабжении Красной Армии вооружением и боеприпасами. И я понял, что у партии и правительства есть глубоко продуманные, ясные и обширные планы расширения оборонной промышленности.
Малышев подчеркнул, что война предстоит серьезная и, возможно, длительная.
— Тут, на Урале, холодно, природа сурова, — сказал он, — но скоро будет очень жарко от большого и напряженного человеческого труда.
Я понял: это одновременно и совет подумать над тем, что здесь, на Урале, где в последние годы создана могучая индустрия, сотрудники нашего института могли бы с большой пользой применить свои силы и знания.
Прощаясь, Вячеслав Александрович сказал:
— Если хотите, можете воспользоваться моим самолетом, вернуться в Москву, а оттуда — в Киев.
— Это очень заманчиво, — ответил я, — большое спасибо, но мне еще нужно побывать в Свердловске, на Уралмаше.
Уралмаш произвел на меня еще большее впечатление, чем два других завода. Нельзя было не восхищаться этим «заводом заводов». Здесь создавалось уникальное металлургическое и машиностроительное оборудование. Завод выпускал не серийную продукцию, а отдельные гигантские агрегаты, и это создавало известные трудности в применении скоростной сварки. Какой смысл строить относительно дорогие сварочные установки для изготовления одной или двух уникальных машин? Еще в Москве, вместе с представителем завода, мы обсуждали, какой же тип станка избрать для Уралмаша. Я предложил сварочный трактор. Сейчас, на заводе, я убедился, что совет этот пришелся кстати. Сварочный трактор быстро завоевал признание и применялся вполне успешно
После поездки на этот завод, слова Малышева о том, что здесь, на Урале, скоро будет «жарко», стали мне еще понятнее. Да, тут будет разворачиваться наш главный арсенал, сюда, в случае необходимости, передвинется крупная промышленность Юга страны.
2. ГДЕ НАШЕ МЕСТО?
Второго июля 1941 года я вернулся в Москву.
За десять дней моего отсутствия столица стала неузнаваемой. Она жила напряженной, подтянутой, по-военному четкой и строгой жизнью. Встречались и растерянные, дрогнувшие перед лицом событий люди. Но таких было мало, всюду я видел твердость, решимость, мужество.
Вечером огромный город, обычно сиявший мириадами огней, погружался в полную темноту. Первое затемнение, которое мне пришлось видеть!
На третий день после приезда я прочитал в «Правде» выступление по радио товарища Сталина.
Советские люди умеют смело смотреть в глаза правде, самой суровой, беспощадной. И каждому становилось понятным, что надо делать в тяжелую годину испытаний, какое место занять в общем строю, как перестроить свою жизнь.
Я увидел, что недооценивал всю опасность обстановки, не понимал, что на карту поставлено само существование Советского государства, что дело идет о его жизни и смерти.
Теперь я вообще отказался от поездки в Киев. Нужно было самым срочным образом решить наиболее жизненный для нас вопрос о том, куда переводить институт.
— Как вы смотрите на южные районы востока страны? — спросили меня в Москве.
— Это соблазнительно. Там солнце, тепло и фрукты, но нам это не подходит. Мы хотим находиться там, — ответил я, — где немедленно начнут выпускать вооружение и боеприпасы.
Приняв такое решение, я сейчас же позвонил в Киев, в институт.
Моих близких дома уже не было: еще 2 июля они выехали в Уфу вместе с семьями других академиков. Отдаю распоряжение:
— Всех людей и все ценное оборудование подготовить к эвакуации.
Товарищи беспокоятся:
— Все оборудование? А хватит ли вагонов?
— В Москве мне обещали помочь.
— Куда будем переезжать? Некоторые называют районы Средней Азии.
Решительно отвергаю эти проекты.
— Нет, это не годится. Наше место на Урале в центре тяжелого машиностроения. Там мы будем работать для победы с полной нагрузкой.
В своем заявлении в Правительственную Комиссию по эвакуации я точно указал, в какой уральский город и на какой завод мы хотим переехать. Мы могли облюбовать большой областной город, где были бы наиболее удобные условия как для научно-исследовательской работы, так и для размещения института, где легче было бы разрешать и все бытовые проблемы. Но я умышленно выбрал не Свердловск, не Челябинск — крупные промышленные центры, где в большом количестве имелись свои научные силы, а новый промышленный район, где нужда в нашей помощи была гораздо острее.
— Эту вашу просьбу охотно удовлетворяем, — сказали мне в комиссии. — Ваше стремление поработать в промышленном районе и избрать своей базой крупнейший завод можно только приветствовать. Мы пойдем вам во всем навстречу.
Это обещание строго выполнялось. Наркомат путей сообщения, несмотря на все трудности тех дней, выделил двадцать товарных вагонов для переброски института. Уже 12 июля я получил все документы и телеграфировал об этом в Киев.
Накануне я выступил на совещании в президиуме Всесоюзного научно-инженерного общества сварщиков, созванном его председателем по моей инициативе.
— У нас мало квалифицированных специалистов по сварке, — сказал я. — Каждый из нас знает много предприятий, расположенных далеко от центра, которые остро нуждаются в таких специалистах. Поэтому важно, чтобы мы своим опытом, своими знаниями оказали эффективную помощь стране в дни войны. Пусть же каждый проявит такую инициативу и выберет себе завод, где он может быть полезен, и добьется отправки туда. Наш институт такой выбор уже сделал. Едем на Урал. На заводе нельзя ограничиваться ролью консультанта, надо принять на себя определенный участок работы и отвечать за него.
Конечно, не все члены общества имеют возможность выехать на места на продолжительный срок. Такие товарищи могли бы объединиться в коллектив-комитет и проводить работу, не покидая Москвы. Нужно войти в контакт с наркоматами, главками, проводящими сварочные работы, и помогать им советами, консультациями, проектированием. Комитету не следует ждать, пока к нему обратятся, а надо самому действовать активно.
Все мои предложения были одобрены.
Остаток вечера и часть ночи после этого совещания мне пришлось провести в бомбоубежище.
Фашисты яростно рвались к Москве с воздуха. Их ночные налеты становились все более частыми и ожесточенными. Сплошная стена зенитного огня преграждала путь гитлеровским летчикам, все вокруг сотрясалось от разрывов зенитных снарядов, от пулеметных очередей советских ночных истребителей. На крышах домов москвичи гасили немецкие зажигалки.
В эти дни я думал над тем, как увеличить выпуск авиабомб.
В ту ночь я почти не спал, к утру подготовил свои предложения и отправился с ними в соответствующие организации. Через день была составлена докладная записка правительству об автоматической скоростной сварке авиационных бомб. Впоследствии этому начинанию суждено было сыграть видную роль.
Москву я покинул 19 июля, получив из Киева сообщение о том, что накануне в вагонах, предоставленных из Москвы, институт двинулся в дальний путь.
По дороге на Урал я заехал в Уфу за семьей. Там я нашел многих киевских ученых. Мои рассказы о том, что институт развернет свою работу на уральских заводах, вызвали большой интерес. Нам открыто завидовали. Я советовал всем своим коллегам, работающим в области техники, сделать то же самое.
Подавляющее большинство товарищей из Украинской Академии наук жаждало одного — отдать все свои силы защите социалистической Родины. Дружное возмущение вызвало поведение одного оборотистого профессора, который бегал по городу и старался нахватать побольше высоких ставок и «совместительств» с хорошими пайками.
В Уфе я повидал президента Академии наук УССР Александра Александровича Богомольца. Встретились мы очень сердечно и беседовали целый час. Я рассказал Богомольцу о наших планах, о том, как мы думаем внедрять автосварку на заводе, о том, что надеемся получить от завода помощь в создании сварочной лаборатории и мастерской.
— Значит, вы собираетесь развернуть свою работу на одном этом заводе? — спросил Богомолец.
— Не совсем так. Наш замысел в том, — ответил я, — чтобы сначала развернуться действительно на одном крупном заводе, а затем накопленный опыт перенести на многие другие предприятия. Завод же этот и в дальнейшем должен остаться основной базой для наших последований и начальной проверки оборудования, аппаратуры и прочего.
— Это прекрасно, — сказал Александр Александрович, — думаю, что и другим нашим техническим институтам следует так построить свою работу.
Никакой помощи от Академии наук я не просил, так как знал, что сама академия пользуется гостеприимством Башкирской республики и пока не располагает собственными материальными благами. Как мне потом передавали, это удивило Богомольца. Он привык к тому, что к нему в то время часто обращались с различными просьбами преимущественно бытового, житейского характера. Наш разговор был чисто деловым.
Попасть из Уфы на Урал было тогда не просто, а каждый день вынужденного безделья казался мне бесконечным. Поэтому я обрадовался, когда меня познакомили с одним техником, сопровождавшим бригаду киевских строителей на Урал. Мы достали жесткий вагон и отправились в нем с товарным поездом. Со мной ехала моя семья.
Нашему товарному составу все время приходилось уступать дорогу поездам с более важными и срочными грузами. Тащились мы невыносимо долго. Я страдал от этого и опасался, что наши товарищи доберутся из Киева раньше меня. Двигались мы строго на север, и природа с каждым днем пути становилась все более суровой. Когда поезд пересекал реки, я с любопытством присматривался к мостам. Некоторые из них были моими «старыми знакомыми», хотя в натуре я видел их впервые. Составляя после гражданской войны пособия по восстановлению разрушенных мостов, я обращался за материалами и к организациям, отстраивавшим эти мосты. Все они и сейчас честно несли службу.
3. НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ
На заводе меня ожидал сюрприз. «Передовой отряд» института уже был на месте.
Эти наши товарищи добрались на Урал не совсем обычным способом. В 1939 году по проекту института в Киеве был построен опытный сварной товарный вагон-пульман облегченного типа. Вагон предназначался для вибрационных и ударных испытаний и, естественно, не имел права хождения по железным дорогам. И вот в этом «научном» вагоне наши товарищи умудрились благополучно проделать длиннейший путь.
Теперь они с юмором рассказывали о том, какую ловкость и изворотливость пришлось проявить, чтобы добраться до места. Ведь при каждом переходе на новую железную дорогу этот «незаконнорожденный» вагон отцепляли, бросали на путях или загоняли в тупик.
Я горячо пожимал руки первым товарищам, прибывшим из родного Киева, — Дятлову, Раевскому, Аснису, Гутман, Костржицкому и Маталас.
— Как вас приняли здесь на заводе? — между прочим, спросил я их.
— Впечатление такое, что дирекция не очень-то рада нашему приезду, — ответил за всех Дятлов.
Мы вместе отправились на завод, и я, к сожалению, убедился, что эти предположения не лишены основания.
Завод этот подчинялся главку, для которого мы проводили перед войной исследования разных марок низколегированных сталей. По сравнению с малоуглеродистой сталью, они обладали более высокой прочностью, это давало заводу возможность сократить расход металла, уменьшить вес изделий. Инструктору института, пускавшему тут перед войной установку, были рады и его работу ценили.
И все же, несмотря на такую старую связь, директор завода встретил нас настороженно.
На это у него были свои причины: в период постройки завода на нем перебывали многочисленные представители нескольких научно-исследовательских институтов. Работали они, по словам директора, плохо, а денег поедали много. И хотя на нас не было таких жалоб, директор все же опасался принимать под свое крыло целый научно-исследовательский институт.
Научное учреждение на заводе? Это и непривычно и не очень понятно. Из отдельных намеков и недомолвок я догадался, в чем дело. Здесь, по-видимому, рассуждали так: «Сейчас идет война, нужно выпускать гораздо больше продукции, а эти ученые будут только путаться под ногами и своими далекими от заводской жизни затеями отнимать время, отвлекать внимание и нарушать налаженный ритм производства».
Но нас, конечно, приняли, выделили помещение для института, правда, скромное, обеспечили жильем. Мы остались на заводе. Я понимал, что это пока только формальное признание, настоящий авторитет еще предстоит завоевать.
Завод находился в восьми километрах от города в большом лесном массиве. Это огромное предприятие имело цехи длиной в полкилометра и самую современную технику.
Жилой соцгородок, расположенный в вырубленной части леса, из года в год разрастался, и лес отступал перед ним все дальше. Центральную часть поселка составляли прекрасные многоэтажные каменные дома, которые могли бы украсить любую улицу Киева.
В домах — все удобства, вплоть до центрального отопления. В одном из таких домов на первом этаже поселили меня. Семья офицера-фронтовика охотно уступила нам одну из своих комнат. Это была небольшая комната в шестнадцать квадратных метров, но кто в то время думал о своих бытовых благах!
Нас в семье было сначала четверо: я, моя жена Наталья Викторовна, ее сестра Ольга Викторовна и сын Владимир. (До ноября 1943 года Владимир работал технологом на металлургическом заводе, куда его направили после окончания индустриального института в Свердловске, а затем перешел к нам в институт.) С января 1942 года нас стало пятеро: младший сын Борис, закончивший Киевский политехнический институт уже в дни войны, был переведен в Институт электросварки с завода «Красное Сормово».
Чтобы как-то разместиться в одной комнатушке, нам приходилось ежедневно проделывать сложные маневры с мебелью, на день вытаскивать раскладушки в коридор, а на ночь вносить их обратно. Вся жизнь семьи была тесно связана с заводом, даже сестра жены, старый и опытный работник по дошкольному воспитанию, трудилась в заводском детском саду.
Борис по образованию электрик. Чтобы его специальные знания могли принести пользу в нашем институте, ему предстояло прежде всего овладеть основами сварки. С первых же дней я отдал Бориса в «науку» к уже более опытным нашим товарищам. Я привел сына в лабораторию и сказал ему:
— Учись варить. Вот — проволока, вот — куски металла, флюс в ведре. Товарищи помогут, расскажут. А через некоторое время придется тебе самому учить других. Помни об этом.
Борис не являлся исключением, тот же путь тогда проходили многие. Арсений Макара до войны занимался усадочными напряжениями, Даниил Рабкин — борьбой с коррозией, Георгий Волошкевич — электрической частью аппаратуры, Софья Островская проектировала аппараты и машины для точечной сварки и т. д. На Урале все они стали технологами, сварщиками, знатоками производственного процесса.
В первые дни нашей жизни на Урале меня очень занимал вопрос о том, где и как разместить институт.
Нам предоставляли возможность получить помещение в соцгородке. На первый взгляд это казалось вполне естественным: ведь завод рядом. Но все же только «рядом»! А ведь мы хотели оказывать действенную и повседневную помощь непосредственно в цехах. Вот что ценно для завода и для нас самих.
И я пришел к выводу: институт следует разместить не в соцгородке, а на самой территории завода, в одном из его помещений, примыкающих к цехам.
На заводе согласились с моими доводами, хотя выкроить для нас две-три комнаты казалось просто проблемой. Впоследствии я не раз убеждался, что моя предусмотрительность целиком себя оправдала. Мы всегда были не рядом с заводом, а вместе с ним, в гуще его жизни, интересов, забот.
11 августа прибыл наш эшелон из Киева. Сначала его подали в заводской поселок, где сотрудников устраивали на квартиры, а затем, ночью, — на завод. Рано утром я отправился туда и возле состава встретил молодого сотрудника Арсения Макару. Он остался дежурить, остальных товарищей, ночевавших вместе с ним в поезде, уже забрали представители завода и повезли на заранее приготовленные квартиры.
Мы поздоровались с Макарой, как люди, не видевшиеся добрый десяток лет.
— Все ли благополучно доехали?
— Все.
Макаре не понравился мой вид. Он нашел, что я осунулся, похудел.
Я сразу предложил Макаре:
— Давайте пройдем по составу, проведем смотр имущества.
Мы начали обход, карабкаясь в один товарный вагон за другим. Картина получалась
невеселая. Под стенками вагонов только кое-где отсвечивали глянцевитые бока сварочных трансформаторов, из немногих ящиков выглядывали мундштуки автоматических головок.
Оборудования мало, очень мало, гораздо меньше, чем я ожидал, — сказал я Макаре. — Неужели люди были заняты только собой и своими семьями и не подумали как следует об институте, о его будущей работе на Урале? Где наше лабораторное оборудование, где станки экспериментальной мастерской, где библиотека, которую мы создавали годами?
Макара постарался успокоить меня. Оказалось, что большая часть оборудования еще до получения вагонов была отправлена водным путем вместе с другим имуществом Академии наук Украины.
— Это другое дело. Но когда все это попадет сюда? И попадет ли вообще?
Макара под каким-то предлогом отвернулся. Он явно не хотел видеть слез на моих глазах, а я не в силах был их сдержать. Я был ему благодарен за такую деликатность.
— Ну, что ж, Арсений Мартынович, давайте начнем пока с вами разгружать.
Я уже сердился на себя за то, что открыто обнаружил минутную слабость
— Что вы! — взмолился Макара. — Скоро придут наши товарищи и заводской народ, — мы с ними договорились. Это же тяжести какие!
Я не хотел терять времени и настаивал на своем. Но, увы, мы вдвоем действительно не смогли сдвинуть с места ни одного ящика. В таком деле я был неважным помощником крепкому, коренастому Макаре. Пришлось оставить эту затею.
Ожидая возвращения сотрудников из заводского поселка, я обдумывал положение.
Да, оборудование придется собирать и создавать почти заново. Я очень надеялся на то, что мы получим свое имущество, отправленное с академией. Впоследствии часть оборудования, проделав долгий и сложный путь по водным и железнодорожным путям, все же прибыла по назначению. Но кое-что затерялось, многое оказалось основательно поврежденным при бесконечных перегрузках.
Макара мрачно шагал рядом со мной. Я был почти уверен в том, что понимаю его мысли.
— Жалеете, что приехали, Арсений Мартынович? Надо было из Киева отправляться не сюда, а на фронт? Думаете ведь так? Только честно!
— Честно говоря, думаю, — громко вздохнул Макара.
— Ну, так вот, не жалейте об этом и не грызите себя. Здесь вы, специалист, сделаете для победы не меньше, чем на фронте, если не больше.
— Здесь? — усмехнулся Макара.
— Да, здесь. Помянете мое слово. Этому краю особую роль суждено сыграть в войне. А какой будет личная роль каждого из нас — это уже зависит от нас самих.
Не знаю, согласился ли внутренне Макара со мной в то утро, но и он и все его товарищи в дальнейшем смотрели на свою работу на Урале, как на ту же солдатскую фронтовую службу.
Не менее печально, чем с оборудованием, обстояло дело и с людьми. Многие ушли на фронт. Кадры института заметно поредели. Из четырех заведующих отделами на месте был только один Дятлов. Отсутствовали многие старшие научные сотрудники. Из старой гвардии, с которой был пройден весь путь от дней зарождения института, мало кто остался. Заметно был ослаблен отдел автоматической сварки, призванный сыграть сейчас основную роль. А из рабочих экспериментальных мастерских налицо не было никого.
Для меня становилось ясным: придется не только круто перестраивать всю работу для нужд войны, но одновременно и восстанавливать сам институт, восстанавливать силами молодежи. Это не пугало меня, не впервые приходилось мне начинать новые дела с молодежью, я всегда любил и, смею сказать, умел с ней работать.
На следующий день после прибытия эшелона на первом же собрании сотрудников я изложил им наши новые задачи так, как я их понимал:
— Мы на одном из крупнейших заводов, вокруг нас кольцо заводов-гигантов, здесь — кузница обороны страны. Теперь не время работать «в белых перчатках», в тиши кабинетов и лабораторий, тем более что и раньше это было нам не свойственно. Помощь заводу нужна сейчас же, ждать ему некогда. Надо засучив рукава много и усердно трудиться на любой «грязной» работе, если придется, то и мастерами, наладчиками, инструкторами в цехах. Мы должны найти свое место на этом заводе, здесь в больших масштабах внедрить скоростную автосварку, завоевать авторитет и признание. Следующий этап — работа на других заводах, и чем больше их будет, тем лучше.
Тематического плана, в прежнем смысле этого слова, сейчас составлять мы не станем. Главное место займет работа для заводов, выпускающих военную продукцию. Прежнее распыление сил теперь совершенно недопустимо, все и вся сосредоточить на главной проблеме: внедрении в производство скоростной сварки под флюсом.
Это общая установка. Мы должны найти ее конкретное применение. Мы не станем ожидать, пока завод обратится с просьбами и заказами. Давайте сами пойдем в цехи, познакомимся с производством и найдем для себя конкретные объекты работы по специальности. На это каждому сотруднику отводится три дня. Никто не имеет права медлить, полагаться на других, на начальство. Страна, фронт должны как можно скорее ощутить реальные плоды нашей работы.
Большинство участников этого первого совещания горячо отозвалось на мысли, высказанные мной. Им хотелось поскорее найти для себя живое, горячее дело, их не смущали трудности и необычный характер новых обязанностей.
Но полного единодушия все же не было.
Один из ведущих работников (сознательно не называю его фамилии, ибо впоследствии он старался делом исправить свою ошибку) восстал против «превращения исследовательского института в цех завода». Он открыто выразил свое недовольство:
— Научных работников хотят сделать мастеровыми. У нас особые задачи, а став на такой путь, мы потеряем лицо.
Этот сотрудник выражал настроение еще двух-трех товарищей. За его ворчанием скрывалось, как я считал, непонимание опасности, нависшей над Родиной, те «мирные настроения», отрешиться от которых нас призывала партия.
В таком духе я и ответил своему критику, хотя понимал, что одними словами нельзя переубедить, сама жизнь должна будет вылечить его от вредного высокомерия. Но осудить такие настроения нужно было немедленно и самым резким образом.
Да, сил у нас в то время было мало: всего лишь восемь старших научных сотрудников, столько же младших и два инженера. Тем важнее было скорее привести эти силы в действие.
Поход в цехи помог сразу нащупать участки, где можно приложить наши силы. И мы с первых же дней принялись за будничную, черновую работу, имевшую для завода существенное значение.
Электродная мастерская с большим трудом справлялась со снабжением цехов качественными электродами, не хватало муки и крахмала для их изготовления, а главное, мы были лишены никопольской марганцевой руды. Наши сотрудники срочно разработали из местного уральского сырья заменители этих компонентов. Другая группа занялась совершенствованием технологии сварки при изготовлении основной продукции завода. На нас стали смотреть как на людей полезных.
Но нам хотелось делать гораздо больше, развернуть работу пошире. Главному инженеру завода и главному конструктору я предложил наладить многоточечную контактную сварку для приварки тонкой обшивки к каркасам и спроектировать несколько новых установок для автосварки некоторых узлов.
Товарищи поддержали нас, но, к сожалению, только на словах. Это объяснялось, видимо, тем, что завод имел тогда достаточно ручных сварщиков и целиком полагался на них. Заглядывать в будущее на заводе не спешили.
Первая осечка нас не обескуражила. Несколько сотрудников побывало в цехе, который уже работал для фронта. Там вручную сваривали корпуса авиабомб.
Придя туда, я сразу же сказал своим помощникам:
— Это именно то, что нам нужно!
После обточки на станках половинки корпусов передавались ручным сварщикам. Мы, безусловно, могли их вытеснить своими автоматами и резко поднять производительность цеха. Об этом я думал еще в Москве.
Я обратился к главному инженеру:
Разрешите нам попробовать свои силы на сварке бомб. Ни о чем вас не просим, все сделаем сами. Свои автоматы мы установим рядом с ручными сварщиками, вы увидите результаты и тогда сами решите, что вам больше подходит.
Главный инженер согласился. Он ничем не рисковал.
В сентябре 1941 года мы приступили к изготовлению этих двух станков. Мастерской у нас не было, пришлось пользоваться наличными деталями, предназначенными совсем для другой цели. Станки получились на вид довольно неказистые, но зато наши уральские первенцы были сделаны быстро и с энтузиазмом. Собственными силами мы провели электромонтаж автоматов в цехе по соседству с рабочими местами ручных сварщиков. Наш инструктор Олейник немедленно приступил к освоению технологии.
И все же дружбы с цехом у нас не получалось. Все заготовки передавали ручникам, а автоматы стояли без дела. Программа выполнялась без них, а, о том, что вскоре могут увеличить вдвое-втрое, никто почему-то не задумывался. Начальство цеха жило спокойно и на автоматы смотрело, как на чужеродное тело.
Я предъявил «ультиматум»:
— Или автоматы будут обеспечены заготовками, или мы прекратим свои попытки.
Моя угроза никого не испугала. Все осталось по-прежнему.
Это происходило в конце 1941 года. А через полтора года, в июле 1943 года, администрация этого же цеха явилась к нам с челобитной. Товарищи просили разработать установку для автосварки бомб нового типа.
Теперь цеху приходилось выпускать их в огромном количестве. Это были те же люди, и они испытывали крайнее смущение.
Старая добрая русская пословица гласит: «Кто старое помянет — тому глаз вон». Мы не стали напоминать о прошлом, спроектировали установку и даже частично изготовили ее. Жизнь показала, кто оказался дальновиднее. Здесь нам пригодился и наш первый опыт, наши первые успехи и неудачи.
4. ЗДЕСЬ ТОЖЕ ФРОНТ
21 сентября 1941 года радио принесло неимоверно тяжелую весть: по приказу советского командования наши войска оставили Киев…
В этот день над институтом висела мертвая, гнетущая тишина. В глазах людей я читал глубокое, искреннее горе.
Фашисты в нашем Киеве, гитлеровский сапог топчет улицы прекрасного советского города! С этой мыслью нельзя было примириться, невозможно было к ней привыкнуть.
С особой силой вставал в памяти каждый уголок Киева, и острая боль пронизывала сердце. Перед моим мысленным взглядом возникали стройные четкие контуры Цепного моста, возрождению которого я отдал все свои знания. Значительно позже, перелистывая английский журнал, я набрел в нем на фотографию моего моста через Днепр. На фото одиноко, сиротливо торчали из воды полуразрушенные быки. Фашистские варвары беспощадно уничтожали то, что мы создавали своим трудом во имя Родины.
Проходили дни, недели, время не смягчало чувства боли, но сознание подсказывало: нужно еще энергичнее, еще преданнее работать, чтобы приблизить день освобождения Киева и всех захваченных врагом районов, приблизить час полной победы.
А пока что с фронта приходили печальные сообщения: фашистские бронированные полчища продолжали двигаться на восток.
Страна переживала трудные дни — октябрь 1941 года. Враг рвался к Москве, к сердцу нашей Родины. Фашисты трубили на весь мир о том, что видят в бинокль предместья столицы. Гитлер хвастливо назначил день своего торжественного въезда в Москву. Правда, ему все время приходилось переносить сроки, но опасность, в самом деле, была очень серьезной.
Мы жили в постоянной тревоге. На припорошенных первым снегом полях Подмосковья шла огромная битва.
Но мы были убеждены, что Москва, наша родная Москва, ни в коем случае не будет сдана врагу. Всенародная вера в победу была и нашей верой!
В эти дни на заводе был получен приказ свернуть работу в цехах, вывезти часть оборудования, освободить место для другого завода, эвакуированного с Украины. Здесь оставался лишь один старый цех, выпускающий авиабомбы.
Вскоре нам стало известно: правительство потребовало, чтобы эвакуированный завод сразу же развернул выпуск танков.
Отныне нам предстояло работать на одном из самых больших танковых заводов страны! О чем еще мы могли мечтать? Где еще так хорошо могла проявить себя во время войны скоростная автоматическая сварка?
Жизнь на уральском заводе замерла мгновенно. Мы приходили в цехи и смотрели, как снимают с фундаментов и вывозят оборудование, не нужное новому заводу.
Работа шла в лихорадочно-быстром темпе. И все же казалось, что понадобится не менее полугода, чтобы в опустевших цехах снова возникла жизнь.
Здесь всегда стоял грохот металла, и вот вдруг наступила удивительная тишина. Особенно поразило меня чириканье воробьев, ведь раньше приходилось кричать, чтобы тебя услышали в двух шагах. Тяжелые краны проносили над головой омертвевшие станки и опускали их на железнодорожные платформы, поданные прямо в цех.
Сколько пройдет времени, пока на заводской ветке появятся эшелоны украинского завода?
В середине октября основные цехи опустели. И в те же дни мы услышали на улицах соцгородка звонкую украинскую речь, сочные веселые шутки, голосистый смех своих нигде и никогда не унывающих земляков. На станцию прибыли первые составы. Я отправился туда. Легко представить себе мою радость: к нам прибыл завод, с которым институт связывала тесная дружба в довоенные годы!
Теперь все подъездные пути были забиты составами с оборудованием. Вдоль вагонов на вещах сидели люди. Инженеры, мастера, рабочие прибыли с Украины на Урал со своими семьями, их тотчас же устраивали, развозили по квартирам. Уральцы принимали украинцев в свои дома, как родных братьев, как близких дорогих людей, делились с ними всем, что имели. Никто, конечно, не считался с тем, что придется лишиться некоторых удобств.
Один завод уезжал на новое место, другой занимал его цехи. Два крупнейших предприятия со сложным, многообразным хозяйством! И все же никакого хаоса или беспорядка не чувствовалось. Движение сотен станков и машин и многих тысяч людей направляла одна твердая рука по единому, продуманному плану.
6 и 7 ноября в Москве выступил товарищ Сталин с докладом на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся и с речью на параде Красной Армии. Я был потрясен: парад советских войск на Красной площади, когда немцы стоят под стенами Москвы! Какой величественный символ силы и могущества нашего народа.
Нет нужды подробно напоминать, о чем говорил тогда Сталин. Но было в докладе одно важное место, прямо адресованное нам — людям украинского завода и украинского научного института, ставшим на Урале на боевую вахту: у нас не хватает танков, и в этом одна из причин временных неудач нашей армии. Советские танки по качеству превосходят немецкие, но все же танков у нас в несколько раз меньше, чем у врага. Сталин призывал ликвидировать это превосходство немцев и этим самым коренным образом улучшить положение нашей армии.
Перед советской военной промышленностью ставилась задача увеличить производство танков в несколько раз.
В несколько раз!
Я снова и снова перечитывал эти строки, а призыв партии уже становился явью.
Круглые сутки, день и ночь, шел монтаж завода. Всю ночь на его территории пылали огни, люди забывали о сне, отдыхе, пище, по двенадцать-четырнадцать часов подряд, а иногда и целыми сутками не уходили домой.
Два дня не побывал в цехе — и уже многое там не узнаешь!
На фундаментах еще устанавливали и монтировали оборудование, а тем временем под открытым небом, в лютые морозы, рабочие и инженеры собирали узлы первых уральских танков. Прямо с платформ здесь разгружали броневые плиты и тут же их резали, Обрабатывали и сваривали.
Страна не могла дать заводу ни одного лишнего дня: на раскачку, правительство требовало, чтобы на Урале начали выпускать танки немедленно. Герои фронта вправе были рассчитывать на самоотверженность тружеников тыла.
И вот наступил ясный морозный день, один из первых дней января 1942 года, который мне, наверное, никогда не забыть. Из ворот сдаточного цеха, поднимая тучи снежной пыли, вылетел мощный красавец танк и с рокотом промчался по заводской дороге.
С момента прибытия украинского завода до рождения этой боевой машины прошло менее двух месяцев!
Люди стояли вдоль заводской дороги и не закрывали лиц от снега, вылетавшего из-под гусениц танка, созданного их трудом.
Вместе с ними улыбался и я, думая о том, какая воистину стальная воля и какая блестящая организация дела нужны, чтобы в таких масштабах и в такие сроки перебазировать на восток сотни заводов и так быстро, сказочно быстро, ввести их в строй! И в том, что наш институт в дни испытаний сохранил себя, как цельный, жизнеспособный и деятельный организм, и нашел свое место в общем строю, я видел еще один штрих величественной эпопеи — эпопеи превращения страны в единый боевой лагерь.
Шестого декабря 1941 года советские войска перешли под Москвой в контрнаступление. Начался разгром немецко-фашистских полчищ в этом районе. Только за месяц до этого прямо с Красной площади, от стен Мавзолея, полки уходили в бой. Один месяц, и вот уже прославленные гитлеровские вояки панически бегут, бросая все, оставляя город за городом, район за районом. Хотелось знать, где сейчас немецкий генерал, назначенный Гитлером комендантом Москвы!
Первые крупные победы советских войск и первый танк, родившийся на Урале… Я понимал, что оба эти факта порождены одной силой. Я ощущал непобедимость этой силы.
С дирекцией завода у нас с первых же дней установились дружеские и деловые отношения.
Директора завода Юрия Зиновьевича Максарёва я знал как инженера высокой культуры и опытного руководителя с солидным стажем. На его плечи сейчас ложилась большая ответственность — завод должен был развернуть в огромных масштабах выпуск средних танков. Максарёв отдавал себе отчет в предстоящих трудностях и не скрывал их и от меня.
— Пока, на первых порах, — говорил он мне, — завод получает много готовых бронекорпусов из других мест, но долго такое положение продолжаться не может. Причина отставания нашего бронекорпусного отдела в ручном малопродуктивном труде. Известно ли вам, что корпус танка имеет десятки метров швов крупного сечения и большой длины? Вот вам только один пример: для приварки борта к подкрылку нужны два мощных шва по 5 метров каждый! А ручная сварка отнимает много времени и труда. Нужны сотни квалифицированных сварщиков, взять их негде, а из тех, что были у нас, многие ушли на фронт.
— Положение мне ясно, — ответил я Максарёву. — Единственное спасение — в переходе к скоростной сварке. Только в этом! Вот ответ на ваш пример: на швы, которые вы назвали, опытный сварщик затратит, примерно, двадцать часов, а наш автомат заварит их всего за один час. И управлять им может любой подросток!
Максарёв улыбнулся:
— В общем нам агитировать друг друга не приходится. Я вижу такую перспективу: сначала ваши автоматы будут работать на сварке отдельных узлов, а затем, я надеюсь, и всего корпуса. Моя самая энергичная поддержка институту обеспечена, а от вас я жду реальной и — главное — быстрой помощи.
Я ушел воодушевленным.
Теперь нам предстояло держать суровый и ответственный экзамен. Мы — на заводе, который должен дать стране тысячи, может быть, десятки тысяч танков. Но мы имеем пока самое смутное представление о том, как сваривать броневую сталь. Еще совсем недавно мы экспериментировали на маленьких образцах, а здесь заводской двор завален грудами броневых плит.
У отдельных наших товарищей все это вызвало растерянность; мне приходилось слышать такие голоса:
— Справимся ли мы с этой задачей?
— Мы ведь пока не готовы ответить на вопросы, которые неизбежно поставят перед нами танкостроители…
Но у большинства людей чувствовалось боевое настроение, они видели перед собой цель, ради которой стоит пойти на любой, самый тяжелый труд.
В ноябре на завод приехал Вячеслав Александрович Малышев, в то время народный комиссар танковой промышленности. Он сразу спросил меня:
— Помните нашу встречу и разговор в начале войны?
— Да, все получилось так, как вы говорили, Вячеслав Александрович. Ваш намек мы поняли и очень довольны теперь, что оказались здесь.
— Я тоже рад тому, что вы осели на одном из танковых заводов, — сказал народный комиссар, — но мне кажется, что вы не должны ограничивать себя одним заводом. На вашу помощь вправе рассчитывать вся танковая промышленность. Согласны с этим?
— Безусловно согласен.
— Тогда не будем терять времени, — сказал Малышев, вызвал машинистку и тут же принялся диктовать приказ:
— В связи с необходимостью в ближайшее время значительно увеличить производство корпусов при недостатке квалифицированных сварщиков на корпусных заводах, единственно надежным средством для выполнения программы по корпусам является применение уже зарекомендовавшей себя и проверенной на ряде заводов автоматической сварки под слоем флюса, по методу академика Патона.
…Предлагаю в ближайшее время всем директорам корпусных заводов серьезно заняться внедрением автоматической сварки для изготовления корпусов…
Этот приказ открывал перед нами широкие перспективы и давал нам возможность развернуть большую работу. Мы начали напряженно готовиться к ней. Прежде всего для внедрения скоростной сварки нужна аппаратура. У нас ее не было, заводы, осваивавшие автосварку до начала войны, снялись или снимались сейчас с места и на железнодорожных платформах передвигались на восток. Получить у них нужные для танковой промышленности сварочные станки оказалось невозможным. Я написал заводу «Автомат», выпускавшему до эвакуации из Киева сварочные головки. Он мог предложить нам только… одну головку. Итак, рассчитывать не на кого, приходилось начинать с того малого, что было у нас и на заводе.
Мы просмотрели вместе с Севбо альбом станков, спроектированных до войны.
— Приходится признать, — огорченно сказал главный конструктор, — что такие станки не годятся сейчас для массового производства. Они и громоздки и сложны в изготовлении.
Я опасался сопротивления Севбо и теперь был рад его критическим замечаниям.
— Обратите внимание на несоответствие между миниатюрными размерами сварочной головки и массивностью составных частей станка. Думаю, Платон Иванович, здесь вам предстоит сказать свое слово. Жизнь требует, чтобы мы создали новый сварочный аппарат, аппарат универсальный и в то же время, по возможности, простой.
Севбо полностью согласился со мной и засел за работу. Схему мы с ним уже продумали, дело у Платона Ивановича подвигалось быстро, и в конце ноября чертежи нового аппарата, названного нами «АСС» (аппарат скоростной сварки), поступили в мастерскую.
В этом автомате при помощи вертикальной трубы с подъемным механизмом к самоходной тележке крепилась вся сварочная и флюсовая аппаратура. Труба эта придавала аппарату сходство с жирафом, с любопытством вытянувшим шею. Так в быту за ним и укоренилось название «жираф».
Первый «АСС» мы отважились изготовить в своей мастерской.
Здесь стоит кое-что рассказать об этой мастерской и о том, как она родилась.
Трудности, пережитые еще при выпуске первой установки для сварки авиабомб, заставили нас призадуматься над созданием пусть самой скромной, но собственной производственной базы. Завод не мог пока взять на себя ее укомплектование станками и рабочими, а от нашей киевской мастерской сохранился только один токарный станок. Тогда всеми правдами и неправдами мы принялись собирать оборудование. Главным источником снабжения стало старое заводское «кладбище». Там мы раскопали несколько станков, давно мечтавших о заслуженном покое. Кое-что удалось все же добыть и в цехах.
Все эти трофеи мы привели в относительный порядок и установили в помещении лабораторий. Главным энтузиастом всего дела стал старший научный сотрудник, ныне покойный, Александр Михайлович Сидоренко.
Кое-какой техникой мы теперь располагали. Но кто станет на ней работать? Где взять токарей, фрезеровщиков, строгальщиков? Тогда мы бросили клич, и в мастерской появились подростки пятнадцати-шестнадцати лет, дети наших сотрудников и служащих, бедовые, расторопные ребята, не имевшие, однако, никакого представления о том, как даже подступиться к станкам.
Этот «механизированный детский сад» возглавил наш лаборант М. Н. Сидоренко в роли старшего токаря и другой лаборант Л. М. Богачек в роли старшего слесаря. Они учились сами и учили ребят. Заслуженные станки-ветераны, управляемые подростками, вскоре начали давать продукцию — аппараты для сварки танков.
Вот в этой-то мастерской в конце 1941 года и «сошел с конвейера» первый аппарат «АСС». На фоне своих малорослых создателей он выглядел весьма солидно. В начале января 1942 года на завод приехал заместитель наркома танковой промышленности Ефремов. Я продемонстрировал ему в работе последнее достижение наших конструкторов. Аппарат «АСС», подвешенный к небольшой эстакаде, позволял придавать электроду любое положение и двигался самоходом вдоль свариваемого изделия.
Ефремову наш «АСС» очень понравился. Он подивился тому, как его могли «сработать» в нашей кустарной мастерской, и тут же отдал приказ главному механику завода изготовить двадцать аппаратов. Завод сделал все заготовки для них, а мы у себя в мастерской довели дело до конца. К Первому мая мы изготовили два первых аппарата скоростной сварки и общими усилиями всего коллектива водрузили их в цехе. Так мы встретили на Урале традиционный праздник Мая.
5. МЫ УЧИМСЯ ВАРИТЬ БРОНЮ
На рабочем столе в моем кабинете и поныне стоит модель советского среднего танка. Это память о незабываемых военных годах, дорогой для меня подарок от коллектива завода.
До войны я видел танки только на парадах в Киеве и в Москве. Меня всегда восхищала мощь советских боевых машин, но мои представления о них были представлениями сугубо штатского человека. Вряд ли я смог бы отличить средний танк от тяжелого. Гораздо лучше я разбирался в стальных конструкциях, вагонах, цистернах.
И вот мы очутились на танковом заводе, которому в планах советского командования отводилась большая роль. На столе Максарёва я видел стоящий несколько в стороне специальный телефон. Он звонил два-три раза в сутки. Снимая трубку, Юрий Зиновьевич всегда был готов сообщить в Москву, сколько танков вышло за смену из заводских ворот.
Наш город в то время стали называть Танкоградом.
Под окнами жилых домов днем и ночью с грохотом проносились грозные машины, закованные в броню.
Вокруг завода, возле огородов, земля была изрыта танковыми гусеницами. На всех дорогах виднелись глубокие рубчатые отпечатки стальных траков.
На улицах часто встречались подтянутые сержанты и старшины — курсанты учебной танковой частя. Мы знали: это люди, которые на наших машинах будут громить врага.
Когда ветер дул в сторону города, сюда долетали звуки орудийных выстрелов — на испытательном танкодроме обстреливали бронекорпуса.
Здесь почти каждый считал себя, и не без основания, танкостроителем. Ими становились и мы. Обо мне всегда говорили, что я «спешу». Это всегда было верно, но сейчас не спешить было бы просто преступным.
Я выдвинул требование перед всеми нашими товарищами:
— Прежде всего нам следует отрешиться от «штатского» взгляда на танк, взгляда со стороны, взгляда гостя на параде. Это относится ко всем, в том числе и ко мне самому. Мы должны узнать танк, все требования к нему, понять его место в бою, его «душу». Какие швы наиболее ответственные? Каким из них чаще всего приходится принимать на себя вражеский удар? Где наиболее уязвимые места танка, когда он идет в атаку или на таран? Этого всего мы не знаем, а должны знать. Все это имеет прямое отношение к работе сварщиков.
Нам предстояло варить швы, и важно было понимать, с чем они встретятся в бою. Мы начали изучать швы танка, их расположение, назначение, и они постепенно перестали быть для нас абстрактными линиями на чертежах.
Что же сделать, чтобы швы были не слабее, а даже крепче брони?
Для этого нужно было научиться варить броню нашими автоматами под флюсом, полностью разработать новую технологию. Задача не из легких, ведь мы не имели никакого опыта и фактически приступали к делу впервые.
В лаборатории института началась напряженная исследовательская работа.
Многое из прошлой практики приходилось пересматривать, отвергать.
Трещины в броне! Как избавиться от них? Невооруженным взглядом трещины даже не видны, их обнаруживает только микроскоп, и то не всегда. Крошечные, незримые змейки тоньше волоска…
Пусть их не заметит самый взыскательный и строгий военпред, есть другой контролер — более страшный — вражеский снаряд! От этих проклятых трещинок зависит живучесть танка, безопасность и жизнь советского воина.
Я не переставал об этом думать. Я приходил в сварочную лабораторию к В. И. Дятлову и Т. М. Слуцкой, где они вместе с заводским инженером вели свою упорную борьбу с трещинами. Постороннему, не посвященному человеку, трудно было понять всю важность их занятий. Владимир Иванович и Тамара Марковна заправляли автомат то одной, то другой электродной проволокой, засыпали место сварки флюсом разного состава, варьировали режимы сварки.
Это была внешне неприметная и прозаическая, но исключительно важная исследовательская работа. Она длилась по десять-двенадцать часов в день, Во, увы, утешительных результатов все не было. Ненавистные трещины упорно порочили сварной шов. Сделаны были уже десятки шлифов, но удача не приходила.
Отчаиваться, пасовать мы не имели права. Опустить руки, сдаться — значило отказаться от сварки брони.
Наконец после долгих поисков мы нащупали правильную мысль. Первые опыты принесли радость и разочарование. Желаемый результат достигался, но скорость сварки резко сокращалась. Последнее расстроило нас, но все же мы обрели уверенность в том, что стали на верный путь. Отсюда уже было недалеко и до предложения, внесенного Дятловым и Ивановым: применить присадочную проволоку. Эта идея оказалась счастливой. Опыты с присадкой мы повторили многократно сперва в лаборатории, а затем и в цехе. Наконец-то швы стали получаться без трещин, а производительность сварки даже увеличилась.
Теперь к нам пришла вера в себя. Параллельно с тремя товарищами, которые трудились в лаборатории, другие наши люди, наша молодежь — Макара, Коренной, Островская, Волошкевич — совершенствовали технологию сварки брони непосредственно в цехе. Мы перестали бояться за поведение наших швов даже под самым жестоким обстрелом.
Мы гордились и сейчас гордимся тем, что советские танкостроители первыми в мире научились варить броню под флюсом.
До самого конца войны у немцев не было автосварки танковой брони, а у американцев она появилась только в 1944 году. Я все время интересовался тем, что делается в этом направлении за рубежом. На наши заводы часто привозили для переплавки разбитые фашистские танки. Швы на них были сварены вручную и весьма некачественно. Мы делали анализы, макро- и микрошлифы; они показали, что швы, как и сама броневая сталь, хрупкие и поэтому плохо сопротивляются советским снарядам. Видимо, немцы меньше считались с качеством брони и сварки, а стремились выпускать побольше танков, чтобы произвести моральное впечатление и запугать нас. Как известно, взять наших бойцов «на испуг» не удалось!
6. ИНСТИТУТ РАБОТАЕТ В ЦЕХАХ
И вот наступил день, когда мы должны были показать, на что способны наши автоматы, а значит, и мы сами.
Начальник бронекорпусного отдела Сойбельман назначил день для пробной сварки. Два станка, оставшихся от уральского завода, мы переделали и приспособили для сварки бортов. Швы на них длинные и большого сечения, скоростная сварка могла здесь показать себя во всей красе.
Как я уже рассказывал, предварительные опыты производились десятки раз в лаборатории. Но если раньше мы практиковались на кусках брони, то теперь перед нами настоящий борт танка, несколько метров непрерывных швов.
Сварка первого борта происходила в торжественной обстановке.
Вокруг станка, кроме нас, работников института и заводского начальства, собралась толпа любопытных, — ведь никто раньше этого не видел! Многие по старой привычке вооружились защитными стеклами, но воспользоваться ими так и не пришлось. Прямо над нами остановился мостовой кран, девушка, управлявшая им, смотрела вниз из своей кабины, несколько подростков, работавших в цехе, устроились на фермах крана.
Общее возбуждение захватило и меня. Сотни ответственных конструкций создал я на своем долгом веку, а вот в эту минуту, признаться, волновался и нервничал.
Заводская сварщица Валентина Бочарова включила автомат.
Как назло, дуга сразу не возбудилась, но через минуту-другую наш инструктор Александр Коренной все наладил. Это происходило в обеденный перерыв, и в наступившей напряженной тишине ясно слышно было, как под флюсом трещит сварочная дуга. Невидимая для глаза, она старательно плавила металл
Что происходит там, под слоем флюса?
Об этом можно было судить только по однообразному и характерному потрескиванию дуги и по дрожанию стрелки вольтметра. Своими колебаниями она отмечала ход процесса. Все было в порядке, тележка с заданной скоростью уверенно продвигалась от начала шва к его концу.
На лбу у Валентины Бочаровой блестели крупные капли пота. Я механически провел рукой по своему лицу, и рука стала влажной… Но спокойствие, спокойствие! Пока ни одного обрыва дуги, ни одного выплеска, ни одного «примерзания» электрода.
Выключив автомат, Валентина сбила корку спекшегося флюса:
— Конец!
Перед нами сверкал безупречно гладкий, красивый серебристый шов. Ни пор, ни раковин!
Я облегченно вздохнул, а за моей спиной кто-то восхищенно воскликнул:
— Да, хорош!.. Красавец шов!
Но, как всегда бывает, нашелся и скептик. Он проворчал:
— Уж больно гладко, на олово похоже. Есть ли провар? А ну-ка, посмотрим, — и ударил зубилом по шву.
Провар был! Труженица-дуга плотным и однородным швом прочно связала края двух броневых плит.
Нас со всех сторон поздравляли, а мы чувствовали огромную усталость от пережитого нервного напряжения.
Я вышел из цеха в морозную январскую ночь. Рядом стояли мои сотрудники. Мимо нас проносились танки. Швы на них были сварены вручную.
Впереди нас ждала большая работа. Мы помнили, что сегодняшний успех — только заявка, только начало.
Уже через неделю после пуска первой установки ко мне явился начальник цеха Демченко.
— Ну, что ж, Евгений Оскарович, — прямо приступил он к делу, — я, как говорится, всецело «за». Давайте сразу ставить вопрос по-производственному. Два станка могут выполнять всю программу по бортам. Но для этого нужны люди, инструкторы, способные потянуть это хозяйство. У нас этих людей нет, вы должны нам их дать.
Такой деловой тон мне понравился, хотя представитель завода задал нам нелегкую задачу. Ведь и у нас не было сотрудников, готовых немедленно взяться за работу в цехе. Опытные инструкторы, пускавшие установки перед войной, находились сейчас далеко, на других заводах, осваивавших автосварку.
— Очень хорошо, — сказал я, — инструкторов вы получите. Не советчиков, не консультантов, а практических работников. Вместе с вами они будут отвечать за программу.
Демченко ушел вполне удовлетворенным. Он только просил меня поторопиться.
Обещание дано, но как его выполнить?
Я позвал к себе младших научных сотрудников. Передо мной сидели люди, попавшие в наш институт прямо с вузовской скамьи и почти не нюхавшие производства. Я начал без всяких предисловий:
— С сегодняшнего дня вы, — я указал на Арсения Макару, Александра Коренного, Софью Островскую, — назначаетесь инструкторами на установки по сварке бортов. Остальные начнут в лаборатории готовиться к такой же работе, а когда появится больше станков, перейдут в цех. Там вам придется делать все и отвечать за все. При любых условиях автоматы должны выполнять план. Запомните, сейчас скоростная сварка держит экзамен на производственную зрелость, держит его на военном заводе.
Я следил за лицами моих молодых товарищей, не испугаются ли ответственности, не начнут ли придумывать всякие отговорки?
Нет, я не ошибся в них. Первая тройка, а за ней и остальные приняли новое назначение, как должное.
Новые наши инструкторы перешли на постоянную работу в цех.
Вначале им приходилось очень нелегко. Своими еще неумелыми руками они налаживали, а когда нужно было, ремонтировали аппаратуру, терпеливо учили заводских сварщиков, до хрипоты ругались с мастерами и крановщицами, норовившими, минуя автомат, подать собранный борт на ручную сварку. В то время бортов не хватало, и ручники буквально набрасывались на них: люди стыдились хоть минуту стоять без дела.
Потом, через много месяцев, Софья Островская рассказывала, что она пережила в первую ночь своей самостоятельной работы в цехе.
Четыре дня перед этим она тренировалась на лабораторной установке. Автомат плохо слушался, и она со страхом думала о том, что ждет ее в цехе. Но отступать некуда было. Островская храбро приняла установку у Коренного и с самым бодрым и уверенным видом вместе с заводским сварщиком приступила к работе.
К ее полному восторгу все сначала шло благополучно, два борта уже сварены без всяких казусов и осложнений. Инструктор и сварщик довольны друг другом и оба вместе — автоматом. И вдруг, приступив к третьему борту, Островская с ужасом увидела, что на автомате сгорел токоподводящий мундштук. Она немедленно выключила ток.
«Что делать? Стоять? Опозорить себя и институт? Ведь это же прямой срыв плана!»
К станку уже бежал сменный мастер. Нужно было любой ценой спасти положение!
Трубоэлектросварочный цех Челябинского трубного завода. Сварочное оборудование и технология электросварки труб разработаны Институтом имени В. О. Патона. Машины здесь полностью заменили человеческие руки, производительность выросла в несколько раз.
Здание, в котором разместился после войны Институт электросварки АН УССР имени академика Е. О. Патона.
Запасного мундштука в цехе не оказалось. Ничего никому не сказав, Островская помчалась в институтскую лабораторию. За ее запертой дверью мертвецким сном спала старуха сторожиха. Островская вовсю колотила в дверь, но так и не достучалась. Тогда она проникла в лабораторию… через окно, на свой страх и риск сняла мундштук с лабораторной установки.
Через полчаса головка автомата уже ползла по третьему борту.
Узнав об этом происшествии, я издал приказ, категорически запрещающий «разбазаривать имущество лаборатории», но фамилию виновницы инцидента по понятным причинам не назвал. А вот за срыв плана я, наверное, спросил бы с Островской по всей строгости.
По моему требованию инструкторы завели на установках специальные тетради-журналы. В них они отмечали производительность и качество работы автомата, записывали все неполадки, перебои или простои, причины их возникновения, а также претензии к цеху или заводу. Эти записи я проверял в самое неожиданное время, иногда являлся в цех ночью и сопоставлял оценки инструктора с положением дел в цехе. Потом на совещаниях у директора завода я всегда был во всеоружии, точно знал обстановку и ни у кого не запрашивал сведений.
Надо сказать, что из цехов при серьезных неполадках звонили мне в любое время суток. Я, конечно, являлся по первому же тревожному сигналу.
Для поездок на завод у меня был «собственный выезд» — плетеный возок на непомерно больших деревянных колесах с железными ободьями. На поворотах дороги возок круто накренялся, и я всегда недоумевал, как это мы с возницей (моим ровесником) не перекинемся. Этот знаменитый на весь завод тарантас неизменно вызывал улыбку у прохожих. Ночью и по воскресеньям мой «шофер» отдыхал, и я совершал свои рейсы пешком.
Прошло немного времени, и наши инструкторы стали хозяевами положения на своих участках. Раньше мастера смотрели на автоматы, как на занимательную игрушку, теперь они начали считать их основной силой. Они уже поговаривали о том, о чем в свое время мечтал начальник цеха:
— Нельзя ли заменить всех ручников автоматами?
Рядом с установками работала бригада из двенадцати ручных сварщиков. Наши два станка успешно соревновались с ними. И через три недели я заявил:
— Передайте нам всю сварку бортов. Ведь это то, чего вы добивались. Справимся сами.
Начальник цеха Демченко сопоставил результаты работы автоматов и бригады. Получалась убедительная картина. Производительность автомата была в восемь раз выше, чем у ручника. Один оператор на установке заменял целую бригаду квалифицированных ручных сварщиков. Сразу можно было высвободить двенадцать рабочих, в которых завод ощущал острую нужду.
— Остается только поблагодарить вас, — сказал Демченко. И вся бригада была переброшена на другие участки, где пока еще не удавалось применить скоростную сварку.
— Благодарите наших инструкторов, — ответил я, — это их заслуга.
Как-то вечером в моем «кабинете» сидел гость — работник наркомата, приехавший к нам из Челябинска. Этот аккуратно и чисто одетый молодой человек ведал электросваркой на заводах всего наркомата. Мы обсуждали с ним очередные дела.
В это время, закончив смену, ко мне явились с ежедневным устным рапортом Макара, Коренной и Островская, — эту практику мы переняли на заводе. Утомленные, в своих прожженных и перештопанных комбинезонах, они мало походили на научных сотрудников.
День выдался напряженный, и товарищи, апеллируя к наркоматовцу, жаловались на трудности с флюсом, проволокой, на неувязки в цехе. Высказав все, что у них наболело, инструкторы ушли.
Увы, мой собеседник не заметил того жара и искреннего увлечения, с которым они говорили о своей
тяжелой работе в цехах.
— Неужели это инженеры, научные сотрудники? — пожал он плечами. — Какие они грязные!
Я с нескрываемым удивлением взглянул на него.
— Что же. вас тут коробит? Идет война, и эти молодые люди, как видите, не жалеют себя, делают все, что нужно. Уверяю вас, это пригодится им и для научной работы. Они проходят суровую, но очень полезную школу. И я горжусь такими помощниками.
— Да, но знаете ли… — замялся гость.
Я видел, что меня не понимают, и переменил тему разговора. Слишком далек был этот человек от нашей жизни.
А жизнь, надо сказать прямо, была трудной, особенно у тех, кто работал непосредственно в цехах.
Помню характерный для того периода случай, который мне рассказал мой сын Борис. К тому времени он уже закончил «курс обучения» у Софьи Островской в лаборатории и начал работу в цехе. Борис, как и другие наши электрики, своими руками выполнял электромонтаж сварочных установок, в том числе и всю черновую работу. Приходилось резать, провода, монтировать аппаратуру, паять наконечники и на своих плечах таскать к месту монтажа тяжелую аппаратуру и оборудование.
Однажды, согнувшись в три погибели под металлическим «бубликом» проводов, Борис вошел в цех, свалил свой груз возле сварочного станка и принялся за прерванную перед этим работу. Он пробивал в стене дыры, чтобы укрепить здесь контактор. Увлекшись, он не заметил, что рядом остановился какой-то военный.
— Борис? Вот так встреча! — воскликнул он. — Что ты тут делаешь?
Перед Борисом стоял его товарищ по Киевскому политехническому институту, а ныне слушатель танковой академии, приехавший сюда на практику.
— Работаю научным сотрудником в Институте электросварки, — улыбаясь, ответил Борис.
Товарищ уставился на него с явным недоверием.
— Брось, Боря! Монтером работаешь?
— Говорю же тебе, научным сотрудником, — рассмеялся Борис. — У нас все так работают. На своем горбу соединяем науку с практикой. — И уже серьезно добавил: — Без этого сейчас нельзя. Надо уметь действовать и головой и руками. Вот когда так вот съешь с заводским народом пуд соли, сразу узнаешь, что ему от науки требуется.
На собственном примере Борис убедился, насколько правильно он ответил. Прошло совсем немного времени, и к нему стали обращаться из разных цехов за консультацией по серьезным вопросам электротехники.
Наши инструкторы начинали и заканчивали смену вместе с заводскими сварщиками, то есть не покидали своего места по десять-двенадцать часов. Вокруг них в то время еще работали десятки ручных сварщиков, и от резкого ослепительного света сильно болели глаза. Это называлось «нахвататься дуги». Товарищи носили темные очки, спасались примочками из крепкой настойки чая, припасенными домашними к приходу инструкторов с работы. И все же их преследовало ощущение, что глаза засыпаны песком.
Наши люди мечтали выспаться, но это удавалось редко, завод работал без выходных дней. Иногда прямо со смены молодежь отправлялась в заводской клуб на киносеансы в 12 часов или в два часа ночи, но через пятнадцать-двадцать минут многие тут же засыпали. Долгое время показывали фильм, где события происходят в Средней Азии, и на экране появлялись сочные, манящие фрукты, которым мы предпочли суровую природу Урала. Эта картина, естественно, пользовалась особой популярностью, и в ходу была шутка: «Пойдем в кино покушать фруктов». Но и эту «вкусную» картину, кажется, никто в институте не досмотрел до конца. Одолевал сон!
Как мог я не испытывать глубокого уважения к такой научной молодежи, тем более, что я никогда не слыхал ни одной жалобы или просьбы отозвать из цеха?
Люди работали самоотверженно, очень дружно и спаянно, старались делать даже больше, чем требовали их и без того сложные обязанности. Если у товарища что-нибудь не ладилось на установке, другие, не успев поспать и отдохнуть, сейчас же возвращались в цех, вместе выправляли положение, а в свое рабочее время снова находились на месте. И при всем этом наша институтская молодежь всегда оставалась бодрой, веселой, не унывала и не хныкала, не теряла способности к юмору, к шуткам.
Внешне я был строг и суров, но в душе чувствовал большую нежность к своим ученикам, которые стали мне в те дни еще ближе и дороже.
7. НОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Сварочные автоматы начали входить в быт, в повседневную жизнь цехов. Рабочие запросто подходили прикуривать от раскаленной флюсовой корки, а все работавшие неподалеку от автоматов считали себя знатоками скоростной сварки.
Скептиков становилось все меньше. Был в цехе один старик мастер, который причинял нам вначале много хлопот. Автосварку он признавал «условно», считал, что ничего лучше и надежнее ручной сварки нет на свете и что он лично, с его знаниями и опытом, шутя справится с установками на своем участке. С молодыми инженерами и инструкторами он не ладил, все старался делать сам, без помощи работников института.
Но вот как-то ночью у него на участке испортился автомат. Упрямый старик никого не хотел звать на выручку и без толку провозился с ремонтом шесть часов. Потом все же сдался и послал за инструктором. Через десять минут установка снова заработала к радости молодых сварщиков, поднявших мастера на смех.
Старик насупился, покряхтел, потом пересилил себя и сказал инструктору:
— «Патоны» (так называли на заводе наши автоматы) — дело серьезное, внимания требует. Им не скажешь: знать ничего не знаю, давай план! Не прав я был, без них теперь в нашем сварочном деле нет движения вперед. А назад к ручному держателю тоже хода нет. Учи меня. А директору своему скажи: понял я — за машинами правда!
Когда мне передали этот разговор, я подумал о том, что старик мастер, хоть и долго упирался, а все же понял самое главное.
Скоростная сварка принимала на заводе настоящие производственные формы. Я предложил дирекции завода выделить человека, который полностью отвечал бы за ее дальнейшее внедрение. Начальником автосварки назначили Портнова, молодого инженера, неугомонного и горячего человека. У нас в институте он изучил все, что требовалось для освоения сварки, быстро вошел в свою роль и начал «давать команды». Прежде чем распорядиться в цехе, он обычно советовался с нашими сотрудниками, и это избавляло его от многих ошибок.
Завод до приезда на Урал имел уже две сварочные установки. К их рождению мы имели самое прямое отношение.
В начале 1941 года, во время одной из встреч, Никита Сергеевич Хрущев посоветовал мне побывать на этом заводе, познакомиться с производством, помочь товарищам, привить им вкус к скоростной сварке.
Отправившись на завод, я увидел, что нам тут есть где приложить руки. По заказу завода мы спроектировали установку для сварки важного узла. Завод незамедлительно изготовил станок и пустил его. Приехав в этот город вторично, я встретился в обкоме партии с Никитой Сергеевичем.
— Очень хорошо, что не забыли моего совета и быстро оказали помощь заводу. Не упускайте его и дальше из виду. Сами знаете, как его продукция важна для страны.
Два таких станка завод привез с собою на Урал. Мы выговорили себе право подготовить их к пуску и ввести в строй. Начальник автосварки тоже с энтузиазмом взялся за дело.
В очень короткий срок станки были смонтированы и начали работать. Они походили на громадную букву «Г» и поэтому именовались в просторечии «глаголами». На них сваривались носы танков. Это была новая победа скоростной сварки.
Люди, работавшие на этих установках, доставляли нам немало веселых минут, которыми мы тогда особенно дорожили. Один из сварщиков в мирное время учился петь и свою страсть к вокалу сохранил и в тяжелых условиях военных лет. Отличался он тем, что, когда на его «глаголе» дела шли хорошо, он во весь голос распевал арию Тореадора из «Кармен» или арию герцога из «Риголетто». Если же в установке что-нибудь портилось, он менял свой репертуар, и тогда на весь цех неслось:
— Евгений, ты больше мне не друг! (Под Евгением, конечно, следовало разуметь меня…)
Поэтому, приближаясь к музыкальному «глаголу», наши конструкторы всегда прислушивались. Если звучат «Риголетто» или «Кармен», можно пройти мимо, если гремит гневное обращение к «Евгению», — нужно спешить на помощь.
После войны этот голосистый сварщик поступил в хоровой ансамбль.
Второй автоматчик в прошлом работал портным, а сейчас обрел свое место на оборонном заводе. Он питал особое пристрастие к знакомым профессиональным словечкам, и вначале его нелегко было понимать. Например, он прибегал к дежурному наладчику и взволнованно сообщал, что у него «рвется нитка» или «морщит шов». Это означало, что наблюдаются частые обрывы дуги или что шов формируется неравномерно, с перехватами и буграми. Работали эти люди преданно, забывая себя и не оглядываясь на цеховые часы.
Носовой узел с видимыми на готовом танке швами теперь был полностью переведен на скоростную сварку. Швы эти — очень ответственные: носом машина прокладывает себе путь в жарком бою.
Итак, под одной крышей, в одном цехе — четыре автосварочных станка. Такими показателями в мирное время мы похвалиться не могли.
Но над действующими установками нависла серьезная угроза. Аппаратура, безукоризненно работавшая в спокойных условиях лаборатории или в сравнительно неторопливом ритме довоенного периода, теперь начала пошаливать. Горели токоподводящие мундштуки, буксовали электромагнитные муфты. Стало ясным, что в своем стремлении автоматизировать как можно больше операций, мы чрезмерно усложняли установки. Чтобы аппаратура в нынешних условиях не подводила, необходимо было значительно упростить ее электрическую часть. Этот вопрос я выдвигал с первых месяцев нашего приезда на Урал. Теперь больше медлить нельзя было.
История упрощения электросхем, аппаратуры и значительного повышения их надежности показала нам, каким могучим ускорителем является близость к производству, как она подстегивает, подхлестывает мысль, заставляет быстрее работать, поворачиваться. В обычных темпах мирного времени, принятых в солидных научно-исследовательских институтах, эта работа, обрастая планами и методиками, растянулась бы, пожалуй, на полтора-два года, да и то мы бы считали себя молодцами.
По-другому все произошло сейчас на заводе, в годы войны. В короткий срок мы упростили схемы установок. Вместо «комодов с аппаратурой», которые наводили ужас на цеховых электриков, появились небольшие аппаратные ящики, устойчивые в работе, простые в управлении.
Теперь оставалось переделать уже работающие автоматы. Мы договорились с администрацией цеха остановить автоматы на двенадцать часов — срок более чем жесткий.
Аврал назначили на ночь. Еще с вечера я отправился в цех вместе со своими сотрудниками. Подготовительные работы мы проделали в мастерской, но, как всегда в подобных случаях, на рабочих местах возникло много неожиданностей, пуск установок задерживался. В довершение всех бед тележки после переделки не двигались по путям. Конструкторы лихорадочно искали причину.
А варить нужно было без промедления! С соседних участков прибегали взволнованные мастера и комплектовщики. Люди требовали узлов.
— «Патоны» режут нам программу! — кричали они.
Мы изрядно нервничали. Остановка работы на участке лихорадила весь отдел. Наконец силами авральной бригады причину остановки тележек удалось устранить. Тележки снова установили в начале шва, и переделанные автоматы начали благополучно выпускать борты.
Об инциденте скоро забыли, и все в цехе признали, что упрощенные схемы полностью себя оправдали. Станки больше не капризничали, не подводили, и, начиная с июня 1942 года, мы полностью перешли на упрощенные схемы. А у двух «глаголов» появился третий собрат на сварке бортов — пятый автомат в цехе.
Наши инструкторы, внедрявшие автосварку на Уралмаше, рапортовали о запуске двух новых установок.
Настроение поднималось!
Теперь у нас появился филиал на одном из самых больших машиностроительных гигантов страны.
Совсем еще недавно в изготовлении танков господствовала ручная сварка. И вот начали энергично вытеснять ее всюду, где только можно. Первый напор в этом направлении уже сказывался на производительности корпусного отдела. Нужно было сделать следующий шаг — перевести сварку на поток. Но подобного опыта тогда не было ни у нас, ни тем более за границей.
Предложение о постройке оригинального и единственного в то время конвейера для ручной сварки корпусов танков внес директор завода. Он предложил использовать для конвейера часть пульмановских тележек, оставшихся от прежнего завода.
Мы горячо подхватили это начинание.
— Конвейер задуман для ручной сварки, но я ни на минуту не сомневаюсь, что на нем найдут себе место и автоматы, — сказал я нашим конструкторам.
Они впряглись в общую упряжку и вместе с заводскими товарищами принялись за разработку эскизных проектов.
Вскоре мы увидели конвейер в действии.
Нужно ли говорить о том, насколько это нововведение ускорило темп выпуска танковых корпусов! Четкий, железный ритм установил строгую дисциплину, заставил всех подтянуться. Опоздать или выйти из темпа — значило подвести товарища, цех, завод, фронт, страну. Все нам нравилось в этом конвейере, кроме одного: где сказано, что он предназначен только для ручной сварки? Разве автоматы не могут и здесь показать свои преимущества?
Прошло немного времени, и они появились на потоке, на многих его рабочих местах. Автоматы варили наружные швы, а ручники перебрались внутрь корпусов. Часто эти работы велись одновременно.
Красивое это было, почти феерическое зрелище, дух захватывало от картины танкового конвейера! В сумерках, в зеленоватых вспышках ручной сварки видны были могучие очертания движущихся тележек с корпусами. Они обрастали все новыми частями, становились все величественнее и внушительнее. Смотришь, бывало, и думаешь:
— А ведь с чего мы начинали!
Мы все, и заводские люди, и работники института, гордились общим детищем. И наши инструкторы, когда к нам приезжали гости из Москвы и с других заводов, всегда норовили попасть в «экскурсоводы», чтобы показать приезжим конвейер. Это считалось большой честью.
8. ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ФЛЮСА
В начале 1942 года с заводов, применявших автосварку, начали поступать в адрес института тревожные письма. Товарищи сообщали, что иссякают запасы черного флюса «АН-1».
Все настойчиво спрашивали:
— Где достать флюс? Чем варить?
Я говорил Дятлову:
— Понимаете ли вы, Владимир Иванович, что такое неопределенное положение с флюсом расхолаживает заводы? От рвения, с которым они взялись за освоение автосварки, может ничего не остаться.
— Конечно, понимаю, — ответил Дятлов, — для заводов это реальная угроза остановки станков и возврата к ручной сварке. Но где же взять для них флюс? Где?
Достать его было негде.
До войны флюс для всей страны выпускал стекольный завод «Пролетарий» в Донбассе, имевший специальную плавильную печь. С этого завода в особых ящиках и бумажных мешках готовый флюс рассылался заводам-потребителям. Теперь «Пролетарий» эвакуировался в глубь страны и выпуск флюса прекратил.
Один из сотрудников дал мне такой совет:
— Что же мы можем поделать, Евгений Оскарович? Надо написать заводам, что флюса сейчас никто не выпускает.
Этот «совет» меня возмутил.
— Так ответить — значит просто умыть руки, поступить по-чиновничьи! Кому нужна вся наша работа, если на заводах наступит флюсовый голод? Это сразу же почувствует фронт!
Постепенно у меня созрела одна идея, Я собрал наших технологов.
— Мы с вами, товарищи, должны вывести заводы из тупика. Надо срочно разработать неплавленые флюсы из местных уральских материалов. Что может быть лучше, чем простой флюс, полученный без постройки печей и другого оборудования? Вести работу поручаю Владимиру Ивановичу Дятлову. Помогать ему должны все.
Дятлов увлекся этим замыслом.
Мы знали, что где-то в районе Свердловска имеются залежи розового камня — родонита, до войны его добывали здесь для облицовки станций Московского метро.
Мы отправились в Свердловск в геологический комитет и с его помощью нашли карьер, где еще недавно велись разработки. Сейчас он был заброшен.
Захватив с собой куски родонита, мы у себя дома раздробили, просеяли и испытали его на лабораторной установке. Вначале Владимир Иванович попробовал варить под чистым измельченным порошком. Увы, швы получились пористыми, это было последствием выделения влаги. После прокалки родонита поры исчезли, но теперь плохо формировался шов, шлак отделялся от него с трудом. Час от часу не легче…
Поиски продолжались. К родониту прибавили плавиковый и полевой шпат, и результаты сразу же улучшились.
Но вот мы занялись арифметикой, прикинули, во что обойдется производство этого на первый взгляд дешевого заменителя. В лаборатории все выходило просто: ударами молотка раскрошили куски камня и после просева получали готовый флюс.
— Ну, а для массового производства? — допытывался я у Дятлова.
Стали подсчитывать.
— Нужно восстановить карьер, набрать штат людей, достать камнедробилки и другие машины и т. д. Кто этим займется, кто будет финансировать?
К тому же оказалось, что родонитовый флюс имеет существенные производственные минусы.
Мы не сдавались, перепробовали и другие варианты неплавленого флюса — шамотный и карпичный. Они привлекали безусловной простотой изготовления, но сулили много эксплуатационных неприятностей, да и качество швов было невысоким.
Но сложить оружие институт не имел права. Сигналы из других городов продолжали поступать и будоражили нас. На нашем заводе также истощались запасы флюса «АН-1».
Я снова собрал технологов института.
— Итак, мы создали три марки новых флюсов, а положение остается острым, критическим. Нужны не рецепты и отчеты с перечнем компонентов, а надежный, проверенный флюс в достаточном количестве, по дешевой цене и с гарантией, что заводы будут получать его бесперебойно. Неудачи не должны нас расхолаживать. Нужно настойчиво продолжать поиски, подумать о других возможностях и направлениях. И не медлить с этим. Что вы можете предложить?
Увы, никто пока ничего не мог предложить. Я отпустил товарищей, еще раз наказав им «настойчиво думать».
Первым нашел выход из положения Дятлов. Он предложил состав флюса из местных компонентов на основе нашего первого черного флюса «АН-1». Опытные плавки мы вели сначала в заводской металлургической печи, потом перенесли их в институтскую лабораторию, где имелась своя небольшая электропечь. Однако неудачи следовали за неудачами. Дятлов упорно докапывался, в чем тут причина, повышал температуру в электропечи, добавлял в шихту кокс. От кокса возникал угар, отравлявший дыхание. Печь пришлось перенести в другое место и снабдить более совершенной вентиляцией. Снова и снова продолжались поиски, и, наконец, в тяжелых муках родился усовершенствованный флюс «АН-2».
Он отвечал всем основным требованиям. Но тут же вставал практически неразрешимый в то время вопрос: как заводы будут производить этот флюс?
Металлургические электропечи нужны для выплавки стали, и на них нельзя рассчитывать. Для настоящего производственного выпуска флюса каждому предприятию пришлось бы строить для себя капитальную электропечь. Большинству заводов это сейчас не под силу. Наш завод обзавелся двумя небольшими печами по лабораторному образцу, создал свою флюсовую мастерскую, кое-что давали и мы, но все это казалось каплей в море. Флюс «АН-2» отпускался у нас только для сварки особо ответственных швов, нечего и говорить, что обеспечить другие заводы мы не могли.
Итак, новый и очень неплохой флюс создан, а все же флюса для промышленности нет…
В те дни я все чаще вспоминал наши довоенные попытки использовать в качестве флюса доменные шлаки. Эта мысль всегда казалась мне заманчивой: просто, дешево, доступно, шлаковые отходы имеются в избытке. Но еще тогда мы установили, что для этой цели пригодны только шлаки доменных печей, работающих на древесном угле: в них отсутствует сера.
В начале 1941 года я обратился к нашему известному металлургу академику Ивану Павловичу Бардину и попросил его помочь нам достать шлак на одном из таких уральских металлургических заводов. Бардин охотно согласился, и вскоре наш институт в Киеве получил посылку. Но первые же анализы вызвали у нас полное недоумение: во всех образцах шлака оказалось много серы. Мы ничего не могли понять.
И только в военные годы, когда мы сами находились на Урале, выяснилось, что завод, приславший в Киев шлак, имел две доменные печи, из которых одна работала на древесном угле, а другая на каменном, и что по ошибке нам отправили не тот шлак, что нужно было.
Теперь вернуться к заброшенной идее помог нам счастливый случай.
В один из редких выходных дней наш инструктор Александр Коренной возвращался с индивидуального огорода, где высаживал картофельные верхушки по методу академика Лысенко.
В заводском поселке, у пересечения железнодорожных путей и шоссе, Коренной наткнулся на кучу строительного шлака. Опытный глаз сварщика по светло-зеленому цвету и грануляции сразу уловил сходство с плавленым флюсом «АН-2». Инструктор немедленно набрал немного шлака в бумагу и отнес домой.
На другой день он отважился попытать счастья. Опасаясь, что в цехе его могут осмеять, Коренной решил дождаться перерыва между двумя сменами, когда все отправятся в столовую. Насыпав на стальную пластину свой загадочный шлак, инструктор включил автомат, и электрическая дуга благополучно наплавила шов.
Не помня себя от радости, Коренной повторил опыт. Снова удача! Он не верил своим глазам.
— Неужели спасение в этом зеленоватом песке?
Назавтра, чуть свет, Коренной примчался ко мне.
— Вот так история, Евгений Оскарович! Шлак, а варит! Вчера пробовал — получается.
Я помнил киевские неудачные попытки, но обрадовался не меньше Коренного. Может быть, мы тогда слишком поторопились с решением?
— Идите к Дятлову и Слуцкой, — напутствовал я сотрудника, — они же столько шлаков перепробовали в Киеве. И проверьте хорошенько химический состав металла шва, сделайте шлифы.
Первые же анализы получились обнадеживающими, механические свойства шва были также вполне удовлетворительными. Это окрыляло. Я сразу же потребовал форсировать работу. На железнодорожную ветку отправили грузовую машину, и она доставила гору шлака в нашу лабораторию.
Однако можно ли довольствоваться только тем, что дал нам в руки случай? На Урале много заводов, выплавляющих чугун на древесном угле. Мы решили достать список этих заводов, тщательно обследовать их и таким путем подобрать шлак, наиболее подходящий для замены «настоящего» флюса.
Отправившись в Свердловск, я добыл там адреса двенадцати заводов и некоторые сведения о них. Но бумага — это только бумага. Чтобы по-настоящему разобраться, нужно было самим побывать на заводах, узнать, на каких рудах выплавляется там чугун, каким методом проводится грануляция шлака и т. д.
В те годы ездить было не так просто, но наши товарищи побывали почти на всех двенадцати заводах, названных в списке. Большинство из них по тем или другим причинам пришлось отвергнуть. Нашим требованиям больше всего отвечал завод в Аше недалеко от Уфы. Обе его старенькие печи работали на древесном угле, чугун выплавлялся из отличных бакальских руд, шлак гранулировался в воду.
Новый флюс сулил большие выгоды. Наличие в Аше громадного и постоянного запаса шлаковых отходов, простота изготовления, возможность обойтись без постройки дорогих электропечей — все это говорило за то, что в условиях войны шлаковому флюсу предстоит сыграть большую роль. Нарком танковой промышленности товарищ Малышев активно поддержал это наше начинание.
Мы действовали штурмом и натиском. Вооружившись авторитетными письмами и захватив с собой лабораторную установку для сварки, наша бригада отправилась в Ашу.
Там были немало удивлены, узнав, что отходами их печей заинтересовался научно-исследовательский институт.
— Оказывается, и наша ашинская старушка на что-то пригодилась! — шутил главный инженер завода Бурдаков. — Берите шлак хоть даром, мы еще приплатим вам за его вывозку. Весь двор этим добром завален.
Бурдаков согласился несколько изменить состав шихты и повысить, как это предложили наши технологи Слуцкая и Горлов, процент содержания марганца в шлаке. Мы заключили соглашение, по которому ашинский завод брал на себя поставку флюса всем заводам, осваивающим автосварку. Нарком танковой промышленности помог ашинцам получить в достаточном количестве марганцевую руду и древесный уголь.
Вскоре наркомат объявил благодарность ряду работников завода за выпуск этого нового флюса и премировал их.
Отныне во всех официальных документах этот обогащенный шлак именовался «флюсом АШ». Новый флюс предназначался прежде всего для сварки брони. Отсюда вывод: необходим постоянный и бдительный контроль за его качеством. На заводе создали маленькую ячейку из наших сотрудников, снабдили их походной установкой, и каждая партия шлака, подготовленная к отправке, подвергалась строгой проверке на сварочные качества. Наши представители следили и за тем, чтобы шлак содержался в чистоте, не засорялся глиной и без задержки отправлялся заказчикам на железнодорожных платформах.
У себя на заводе мы приучали людей беречь от загрязнения шлаковый флюс, который выгружался у входа в цех, втолковывали всем, что попадание глины и грязи в ашинский шлак неизбежно приводит к порам в швах, к снижению прочности сварных соединений.
Теперь заводы получали флюс в централизованном порядке и в неограниченном количестве. Угроза остановки автоматов была, наконец, устранена.
Первое время начальник одной из железнодорожных станций никак не мог уразуметь, кому и зачем понадобился никчемный, на его взгляд, «песок», и подолгу задерживал платформы со шлаком. На этого начальника нажали где следует, и вскоре с его станции платформы с флюсом «АШ» стали разбегаться во все концы страны.
В то же время группе наших технологов, во главе с Даниилом Рабкиным, удалось получить разновидность шлакового флюса, названную «АШМА», пригодную для сварки малоуглеродистой стали малоуглеродистой проволокой. Этим решена была еще одна важная задача, ибо флюс «АШ» для этой цели не годился.
Справедливость требует признать, что флюс, «АН-2» для сварки брони был лучше ашинского шлака. У этого флюса были сторонники как в институте, так и на заводе. Но они исходили из «идеала», не считались с реальными условиями, игнорировали тот факт, что массового производства флюса «АН-2» заводы наладить не в состоянии, запугивали нас всякими страхами и отговаривали от применения ашинского флюса. Мы не послушались их, улучшили сварочные свойства шлака и сделали все, чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов.
Многие сотни километров швов на советских танках были сварены на шлаке маленькой ашинской «старушки».
9. ПОСЛЕ ИСПЫТАНИИ НА ПОЛИГОНЕ
В холодное дождливое лето 1942 года немногие свободные вечера я проводил на огороде.
Поднимая лопатой уральскую глину, я вспоминал чудесную жирную землю на своей даче в Буче под Киевом. Я всегда любил копаться на грядках, окучивать деревья в саду и находил в этом лучший отдых.
Сейчас работа на огороде стала также и необходимостью. Я относился к ней с полной серьезностью. Огороды были у всех сотрудников института, и осенью я вышел победителем в соревновании «за лучший урожай». Моя картошка выросла всем на загляденье, а у некоторых сотрудников — увы! — величиной в орех. Шуток по этому поводу и насмешек было немало, и в последующий год неудачники стали больше налегать на лопату.
В воскресный день в канун Мая, к «картофельно-овощному цеху» подкатил заводской голубой «ЗИС» и, неловко перевалив через кочки, остановился у моего «надела». Из машины выбрался начальник автосварки завода Портнов и быстро подошел ко мне.
— Евгений Оскарович, поздравляю вас от всей души! — торжественно произнес он. — Вы награждены правительством орденом Красной Звезды. Только что получено сообщение.
Я мгновенно забыл о своей картошке и бросил лопату.
Это был мой второй орден, первый я получил до войны — орден Трудового Красного Знамени.
— Скажите, а танкистов награждают Красной Звездой? — спросил я.
— Конечно, — ответил он, — ведь это боевой орден!
Награда обязывала. Чем мы могли ответить на нее? Еще более упорным трудом для приближения победы.
Я критически просмотрел, что сделано нами и заводом для внедрения скоростной сварки.
Установок в цехе становилось все больше, но ведь росла и программа выпуска танков! А цеховым товарищам первые успехи начали кружить голову. Я доказывал им:
— Дело только начато, основная работа — впереди, можно еще многие и многие швы перевести на скоростную сварку.
От начальника корпусного отдела я слышал не раз такие жалобы:
— В цехах острая нехватка квалифицированных ручных сварщиков, от этого страдает качество швов!
И вот тем же летом произошло событие, которому суждено было совершить настоящий переворот в умах заводских инженеров.
Вблизи города на полигоне производились испытания корпуса танка. На одном из его бортов швы были сварены по-старому вручную, на другом — автоматом под флюсом, так же как и все швы на носовой части.
Танк подвергся жестокому обстрелу из орудий с весьма короткой дистанции бронебойными и фугасными снарядами. Первые же попадания снарядов в борт, сваренный вручную, вызвали солидные разрушения шва. После этого танк повернули, и под огонь попал второй борт, сваренный автоматом.
Стрельба велась прямой наводкой с ничтожного расстояния. Семь попаданий подряд!..
Наши швы выдержали, не поддались. Они оказались крепче самой брони и продолжали прочно соединять изуродованные обстрелом броневые плиты. Так же блестяще выдержали проверку огнем швы на носовой части, ни один из них не сдал под шквальным обстрелом. Двенадцать попаданий привели к образованию пробоин на носу, но швы не потерпели никакого ущерба.
Это была полная победа автоматической скоростной сварки! Испытание в условиях, равных самой трудной фронтовой обстановке, подтвердило высокое качество работы автоматов.
Я воспрянул духом. То, во что мы всегда верили, теперь было доказано самым наглядным образом. Результаты обстрела должны убедить всех!
Захватив материалы испытаний, я немедленно отправился к парторгу ЦК ВКП(б) на нашем заводе Скачкову. Прочитав выводы комиссии, проводившей испытания, парторг взволнованно сказал мне:
— Я поражен и еще больше обрадован. Смотрите — здесь прямо записано, что все преимущества на стороне швов, сваренных вашими автоматами, и что необходимо широко применить новый метод скоростной сварки на всех заводах танковой промышленности. Кому-кому, а нам тут и подавно все карты в руки!
Он понимал, что сварка автоматами не только резко увеличивает выпуск танков, но и делает их более стойкими, надежными в бою. А кого это могло не взволновать?
Скачков без промедления созвал у себя совещание коммунистов — командиров производства. Перед этим он долго наставлял меня:
— Вы, товарищ Патон, сделайте короткий доклад, без стеснения отругайте тех, кто успокоился, почил, как говорят, на лаврах, и внесите свои конкретные предложения. — Потом Скачков с улыбкой добавил: — Не смущайтесь своим «беспартийным положением» и не смягчайте критику.
Я, конечно, учел это напутствие в своем выступлении.
Все, кто на совещании попал под огонь, сразу «подняли руки». Интересы ведь у нас у всех были общие, и теперь, после полигонных испытаний, аппетит к автосварке у заводского народа сразу же вырос. Результаты обстрела произвели большое впечатление на начальника корпусного отдела. Тут же на совещании между нами был заключен союз.
— Дружба? — сказал начальник отдела Сойбельман.
— Дружба! — ответил я. — За нами дело не станет.
— Встретимся завтра и вместе разработаем совместный план действий, — предложил он.
Начальник отдела был человек волевой, суровый и очень требовательный. За малейшее невыполнение его приказов он беспощадно спрашивал со своих подчиненных. Хозяйство, которым он руководил, было очень внушительным, под его командой, кроме других цехов, находились два механических цеха. На совещаниях, которые этот инженер созывал у себя, он резко распекал провинившихся и, видимо стесняясь посторонних, меня на эти совещания никогда не приглашал. Отличался он, правда, и изрядным упрямством и не очень охотно шел на всякие новшества. Но если уж загорался чем-нибудь, то проводил намеченное в жизнь со свойственной ему энергией и крутостью характера.
Так оно случилось и на этот раз. Как только начальник отдела полностью уверовал в автосварку, его отношение к ней сразу переменилось. Мы договорились с ним о совместном изготовлении и пуске новых станков и в первую очередь аппаратов «АСС» на конвейере.
В течение августа — сентября мы ввели в строй одиннадцать новых установок для скоростной сварки. Парк действующих автоматов сразу вырос втрое!
Разделение труда у нас было таким: институт проектировал станки, давал сварочную и флюсовую аппаратуру, проводил электромонтаж и пуск станков. Мастерская института к тому времени уже приобрела солидный и современный вид. Отдел готовил несущие конструкции, приспособления и кондукторы.
Наши сотрудники посмеивались:
— Роли переменились! Только и слышишь в цехах: а нельзя ли вот и эту работу передать автоматам? И нажимают: вы нам дайте то, посоветуйте это…
Инструкторов теперь не хватало. Я снова пересмотрел личный состав института и перевел в цех всех, кто подходил по своим знаниям, складу характера, умению работать не только головой, но и руками. Это были вначале Георгий Волошкевич, Лия Гутман, Борис Патон, а затем Даниил Рабкин, Александр Супрун, Борис Медовар. Дополнительная мобилизация «внутренних человеческих ресурсов» сразу же сказалась на положении в цехах.
Завод нуждался уже во многих десятках автосварщиков. В те годы на оборонные заводы приходили и приезжали мужчины и женщины разных профессий, возрастов, биографий, всех их роднило одно чувство — желание отдать свой труд Родине на самом нужном и тяжелом участке.
Среди автосварщиков также были разные люди: студент театрального техникума, учитель математики из сельской школы, колхозный чабан из Дагестана, хлопковод из Бухары, художник из украинского города, захваченного гитлеровцами. Рядом с его установкой всегда стояла банка с краской. Заварив шов на носу танка, он выводил кистью на броне такие лозунги:
«Советские воины! Еще смелее громите врагов, гоните их с советской земли!»
«Вперед на Запад, герои-танкисты!»
Основные кадры «автоматчиков» набирались из молодежи, юношей и девушек шестнадцати-восемнадцати лет, приехавших из ближних и дальних районов страны.
На сварке башни работали девушки из Марийской автономной республики. Помню, как они впервые появились в цехе. Их вел мастер, показывал установки и объяснял, чем мы тут занимаемся, а девушки жались друг к другу, с испугом смотрели на краны, проносившие над головой огромные туши танковых корпусов, затыкали уши от стоявшего в цехе грохота. На глазах у одной из них я видел слезы. Они впервые попали на завод, да еще такой, и основательно перепугались.
Несколько девушек отдали под начало Софьи Островской. Поначалу они всего страшились, медленно привыкали к обстановке цеха, включая автомат, зажмуривали глаза, отдергивали руку, а при вспышке дуги закрывали ладонями лицо.
Сперва им не удавалось сварить больше двух мостов в смену. Но Островская учила их терпеливо и настойчиво, и скоро ее подшефные стали неузнаваемыми, начали работать самостоятельно. Как-то она пришла проведать девушек, и те с гордостью доложили своему первому инструктору:
— Свариваем сейчас в смену по восемь мостов! Разве мы не молодцы, Софья Аркадьевна?!
Работали они добросовестно и тщательно выполняли все указания мастеров.
На автоматическую сварку бортов поставили девушек из Курской области. Очень живые, смышленые и грамотные, они быстро освоились со своей работой, всегда много смеялись и пели. Они завели у себя веники и щетки и содержали рабочие места с чисто женской аккуратностью. Не выполнить план было для них самым большим горем, но это случалось редко.
Как правило, где-нибудь на автомате, в месте, не доступном для постороннего глаза, эти замечательные девушки навешивали замысловатый бантик или вырезанную из журнала картинку. Возраст брал свое…
Юноши работали главным образом на сварке узлов носа, на сварке шахтных труб и на конвейере. Очень много было ребят с Украины, которых война заставила сразу стать взрослыми. Мальчишки подходили к автоматам с солидным видом, сразу же обнаруживали в них сходство с какой-нибудь ранее знакомой машиной, обязательно вносили «рационализаторские предложения» или даже наводили критику. Своей специальностью они гордились чрезвычайно и сверху вниз смотрели на старых, опытных ручных сварщиков:
— У нас техника, а у вас что?
Некоторые из этих наших земляков были очень небольшого роста. Чтобы дотянуться до пульта управления, они подставляли под ноги ящики. Первое время им приходилось очень трудно, но они вели себя храбро и гордо, не хотели отставать от отцов, работавших на том же заводе, и проявляли особое упорство. И они добились того, что им первым доверили самостоятельную работу на сварке шахт двигателя. Задание они всегда значительно перевыполняли. Многие ребята через шесть-десять месяцев перешли в наладчики, а один даже стал мастером смены. Среди этой молодежи, относившейся к своему труду со взрослой серьезностью и юношеским энтузиазмом, знаниями, дисциплиной и культурой поведения выделялись воспитанники ремесленных училищ.
Наши инструкторы горячо любили ребят, а те платили им взаимностью. Дружба эта дала свои большие результаты, — полудетские руки прекрасно справлялись с выпуском грозного оружия для родной Красной Армии. Это стало возможным только при наличии автоматов.
10. ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В семье, в домашней, личной жизни, в своих отношениях с приятелями человек может быть мягким, уступчивым, терпимым к чужим слабостям. Другое дело на работе. Там, где он отвечает за успех дела, доверенного ему народом, названные свойства характера часто могут оказаться вредными. К руководителю это относится вдвойне. Требовательность и умение оперативно контролировать выполнение порученного дела — важнейшее качество.
Но прежде всего нужно условиться, что понимать под этим.
Я считаю, что никакие приказы и требования руководителя не имеют настоящей моральной силы, если он не применяет их к самому себе. Никто никогда не должен иметь основания не то что сказать, но даже подумать: «С меня спрашиваешь, а сам-то каков!»
На Урале я требовал от своих сотрудников полного напряжения всех сил. Самые старшие из них были почти вдвое моложе меня, но я не делал для себя никаких скидок на возраст и здоровье.
В любую погоду, в снежный буран, трескучий уральский мороз, проливной дождь, я появлялся в цехе ровно в девять часов утра. И непременно сначала в цехе, а не в лаборатории или в так называемом кабинете. Кабинетом это помещение можно было назвать только условно. Я сидел в общей комнате, вместе с другими сотрудниками, и хотя это было вызвано теснотой, но такое постоянное соседство имело и свои достоинства — оно помогало никогда не отделяться в то трудное время от людей, всегда, каждую минуту жить в коллективе, в постоянном общении с ним. Правда, в этом «кабинете» мы все проводили очень мало времени. Я никому не позволял засиживаться там и мало считался со званиями и степенями.
Я участвовал в монтаже и освоении каждой сварочной установки. И следил за ними до тех пор, пока не изживались все трудности пускового периода. Там, где все шло хорошо, показывался редко, там, где возникали трудности или намечалось отставание, бывал регулярно.
Никогда не ждал, чтобы пришли и доложили о том, что «все в порядке». Когда испытывалось какое-нибудь нововведение на наших установках, я старался пойти в цех без «автора». Это давало возможность услышать прямое, откровенное мнение заводских людей.
В то время в институте не было ни заместителя директора, ни ученого секретаря, ни начальника отдела внедрения. Приходилось самому руководить разработкой новых тем, планировать работу, вести обширную переписку с заводами и наркоматами, ведать лабораторией, мастерскими, инструкторами в цехах и т. д.
Несмотря на такую загрузку, я никогда не позволял себе «сплавить», переадресовать какое-нибудь дело по. инстанции, а непременно лично поручал его тому или иному работнику, и сам следил за выполнением во всех подробностях, не упуская так называемых мелочей.
Однажды молодой сотрудник шутливо упрекнул меня в том, что я оцениваю силы своих учеников мерой собственной работоспособности. Это, дескать, для них не очень удобно.
Я ответил ему:
— Силы человека зависят от того, насколько он чувствует ответственность за свою работу. Осознайте полной мерой эту ответственность, и вы сразу увидите, на какие большие дела способны!
Я никогда не вырабатывал никакой специальной педагогики или методов воспитания людей. Видимо, эти взгляды и приемы сложились сами собой за долгие десятилетия работы с молодежью. Я всегда стремился прививать ей чувство ответственности, без которой нет настоящей любви к делу.
Однажды произошел такой памятный случай. В сопровождении начальника корпусного отдела я пришел в цех во время обеденного перерыва. Здесь на одной из первых установок по сварке бортов, где еще только осваивалось дело, работал наш инструктор. Сейчас он находился в столовой, но
возле станка суетились люди, слышны были нервные возгласы.
Я почувствовал, что случилось что-то скверное, и бросился к установке. Из нее столбом валил дым. Заводской электрик совершенно растерялся и не знал, что предпринять.
Мне сообщили, что инструктор, уходя на обед, разрешил заводскому мастеру продолжать в его отсутствие сварку, а тот натворил каких-то бед.
Через весь цех к автомату уже бежал виновник происшествия. В одно мгновение он рванул рубильник на щите, выключил ток. Мотор был спасен, на нем только сгорел лак. Инструктор повернулся ко мне, вытер мокрый лоб и попытался прочесть в моем взгляде одобрение своим действиям.
— Объявляю вам выговор по приказу за халатное отношение к работе, за оставление без присмотра действующей установки.
Он буквально онемел. Я понимал, что сейчас в нем вспыхнуло чувство обиды, что в эту минуту он, возможно, считает меня несправедливым и вспыльчивым человеком. И все же я был уверен, что поступаю правильно.
Инструктор стоял, прикусив губу. В этом человеке я ценил его практическую хватку, его умение работать на производстве. И именно поэтому не мог простить ему самовольничания.
Через несколько дней мы вместе с этим сотрудником возвращались ночью с заседания заводского партийного комитета, где получили поддержку. Настроение у меня было хорошее, и инструктор это чувствовал. Момент показался ему подходящим. Зная мою нелюбовь к предисловиям, он сразу приступил к делу:
— У меня к вам большая просьба, Евгений Оскарович. Я давно работаю с вами, никогда не имел взысканий. А вот вы на днях… В общем, если можно, не записывайте.
— Э-э, нет, батенька, это не могу. Поговорим о чем-нибудь другом.
— Но ведь я все понял, осознал свою вину. Я ведь не мальчик… И аварию предотвратил сам.
— А ведь она легко могла случиться. Напрасно вы меня просите, напрасно. Хорошо вы сейчас работаете, но… нет, нет, не могу!
Сотрудник опустил голову и молча шагал рядом со мной по разбитым мосткам-тротуарам.
— Вы еще благодарить меня за этот выговор будете.
Через полтора года этот товарищ по моему предложению был среди других сотрудников института награжден орденом «Знак Почета».
Расскажу еще один эпизод. Это было в самом начале работы института на танковом заводе. Наши автоматы тогда действовали на единственном участке — сваривали борты. Задел бортов исчерпался, цех испытывал большие трудности с броней. Две установки, работавшие до этого с полной нагрузкой и в три смены, перешли на «голодный паек». Это легко могло породить у сотрудников института настроение неуверенности. Я не сомневался в том, что заводу не дадут остановиться, что броня скоро начнет прибывать в нужном количестве. Важно было такой же уверенностью заразить всех товарищей. Одними разъяснениями этого добиться нельзя было.
Придя как-то к одному из наших сотрудников на участок бортов, я увидел бездействующие станки.
— Почему стоите?
— Нет брони.
— А что вы предпринимаете?
— Ставил вопрос в цехе, добивался брони у начальства.
Я повысил тон:
— Значит, мало добивались! Надо не жаловаться, а бороться, настаивать, чтобы вас не обходили, не отдавали борты ручникам! А вы, наверное, сидите ждете…
Сотрудник знал, что дело вовсе не в его настойчивости, и отвечал спокойно:
— Брони нет на заводе.
Но и я не сдавался:
— Сегодня нет, завтра будет. Мало интересуетесь, не смотрите вперед, живете сегодняшним моментом. Никуда это не годится!
Конечно, я сгущал краски и делал это намеренно. Я почти наверняка знал, что теперь инструктор потеряет покой.
И в самом деле, уже вечером начальник отдела рассказал мне, что этот сотрудник явился к нему, передал весь наш шумный разговор, настойчиво требовал броню для своего участка и не хотел слушать никаких объяснений.
Через несколько дней мы снова встретились с этим инструктором.
— А брони все нет, — огорченно проговорил он.
— Сегодня нет, завтра будет. Скажите лучше, что вы делаете, как готовитесь к получению брони? — спросил я его.
— Как готовлюсь? — с недоумением повторил он.
— Конечно. Придет броня, а вы тогда начнете приводить установки в порядок, проверять схемы? Смотрите, скоро, очень скоро брони будет в избытке, а мы тогда примемся проверять все и налаживать? Вот если тогда будем стоять, — сраму не оберемся.
Лицо инструктора просветлело. В эту минуту он, наверное, понял, чего я добивался от него все время. Он ответил мне очень кратко:
— Да, готовиться нужно уже сейчас. Разрешите мне идти заняться делом.
Надо сказать, что этот инструктор сделал все, что от него требовалось, и с полной добросовестностью. Вряд ли я добился бы того же результата одним только приказом.
Прививать чувство ответственности нужно, начиная с мелочей, с повседневного контроля. Как-то я передал одному из младших научных сотрудников такую записку:
«Продумайте систему оплаты сварщиков на конвейере, чтобы заинтересовать их в автосварке».
Дело было в том, что я задумал выплачивать сварщикам, освоившим автоматы на конвейере, нечто вроде дополнительной премии от института и решил привлечь своего сотрудника к подготовке этого начинания.
До войны он участвовал в первых опытах по сварке угловых швов, и я, вспомнив об этом, поручил именно ему заняться освоением производственной сварки таких швов в условиях потока. Мысли об угловых швах преследовали теперь инструктора и днем и ночью. И сунув мою записку в карман, он просто-напросто забыл о ней. Рассуждал он, наверное, так: «За день-два все равно ничего не случится, а сейчас есть у меня дела более срочные и важные».
Но я не забыл о своей записке и на третий, день появился на конвейере. Увидев меня, инструктор, очевидно, сразу вспомнил о своем «должке» и, чтобы отвлечь мое внимание, начал поспешно и с преувеличенным оживлением расхваливать «одно интересное приспособление, которое мы сегодня решили применить…»
Я терпеливо выслушал, одобрил приспособление, а затем перешел к цели своего визита:
— Ну, а теперь вы мне свои предложения давайте.
Сотрудник сманеврировал:
— Какие предложения?
— Будет вам, батенька! Ваши предложения по оплате сварщиков.
Инструктор густо покраснел и не пробовал даже оправдываться.
С тех пор я не помню случая, чтобы он подвел меня или проявил неаккуратность.
Требовательность, о которой я говорю, ни в коем случае не должна порождать в руководителе черствости, сухости или шаблонного подхода к человеку. Ведь сколько людей, столько и характеров. Чем глубже узнаешь их особенности, наклонности, тем легче работать с ними. Да и у одного и того же человека может быть сегодня такое психологическое состояние, что к нему необходим другой подход, чем вчера. Если постоянно не учитывать этого, требовательность и строгость могут дать только отрицательные результаты.
Один из наших сотрудников, работавших в цехе, дошел до крайнего утомления, нервы у него основательно развинтились. На беду с ним случилось еще и неприятное происшествие.
Однажды он находился внутри корпуса танка и, увлеченный работой, не заметил, что на обтирочные концы, сунутые в карман халата, попала искра. Перепачканные в масле и бензине концы вспыхнули, и через несколько секунд загорелся халат. Все, к счастью, обошлось благополучно, без серьезных последствий. Но для инструктора это, видимо, была та последняя капля, которая переполнила чашу.
Через несколько дней у меня проходило очередное оперативное совещание. Я обратился к инструктору, о котором идет речь, с каким-то заданием. Он встал и в резком тоне заявил:
— Я там больше работать не буду. Не могу.
Я спокойно спросил его:
— А кто же там будет учить людей?
— Не знаю, — резко ответил сотрудник, — кто угодно, только не я.
Все участники совещания с изумлением уставились на своего товарища. В нашей среде отказ от поручения, да еще в такой вызывающей манере, был неслыханным инцидентом. Все, видимо, ожидали от меня бури. Но я только внимательно посмотрел на сотрудника и, ни слова не ответив ему, обратился к остальным:
— Так, товарищи, перейдем к следующему вопросу…
Герой этого эпизода до конца заседания сидел молча, насупившись, и смотрел под стол или в сторону.
Вечером он явился ко мне. Щеки его пылали.
— Евгений Оскарович! Извините меня, если можете, забудьте мою выходку. Устал. Нервы.
Я быстро встал и пошел навстречу инструктору.
— Что вы, что вы… Я ведь уже забыл. В работе все бывает. Идите трудитесь, желаю вам успеха.
И я поспешно отправил этого человека, чтобы избавить его от дальнейших извинений и того неловкого чувства, которое неизбежно с ними связано.
Конечно, тогда на совещании я мог легко сломить сопротивление этого сотрудника и не посчитаться с его психологическим состоянием. Но кто знает: может быть, одновременно я сломал бы, разрушил бы что-то очень важное в его душе и тяжело травмировал бы человека?
Чувство ответственности в моем понимании — это не просто исполнительность и добросовестность. Такие качества очень ценны сами по себе. Но мне кажется, что неправильно поступают те ученые, которые стремятся сформировать из своих учеников только исправных исполнителей чужих идей, а не самостоятельных, инициативных, творческих исследователей. Часто такие ученые сами прекрасно умеют работать, но вокруг них пустота.
Каждое научное учреждение обязано «творить людей»! Грош цена тому научно-исследовательскому институту, который держится и живет одним лишь именем своего директора, одной лишь его научной репутацией.
Нужно развивать, укреплять у молодежи веру в себя, в свои силы, свои возможности. Это, конечно, не простое дело. Необходимо методично вырабатывать, воспитывать в своем характере настойчивость и упорство, не бояться длительной черновой работы, риска, первых неудач. Поражение означает, в большинстве случаев, только недостаток желания.
Иногда нужно заставить человека пойти против себя, против своей инертности или минутной слабости, заставить его изменить свои старые представления о границах возможного и невозможного. Ему кажется, что он уже все перепробовал, все испытал, и крайне важно поддержать его в такой критический момент, открыть перед ним новые перспективы.
В различных главах этих воспоминаний я привел уже много примеров, которые подтверждают правильность моей мысли.
Очень редко нам удавалось найти удачное решение той или другой важной задачи сразу же, в первом же варианте.
Обычно первый вариант — это то, что приходит в голову вначале, сразу же, то, что лежит на поверхности. Как правило, я требовал от товарищей нескольких вариантов.
Случалось и так, например, что при разработке новой конструкции станка или механизма в отвергнутом варианте нам нравилась какая-то одна находка, частность, деталь. Но она давала толчок правильной мысли, и вокруг этой мысли начиналось обрастание, наращивание…
Я уже рассказывал о том, как работали наши конструкторы в период войны. Сама профессия конструктора как бы уже предопределяет постоянное стремление к исканиям. Но на практике не всегда так бывает. Иногда конструктор, лишенный подлинной творческой жилки, становится на путь перепевов старого, компиляций или одних только мелких улучшений.
Мы отвергли такой путь. Наши конструкторы учились ставить перед собой большие задачи и скоро убедились, что работать над ними куда интереснее. Но для этого нужно суметь мужественно пройти через все ошибки, разочарования, ничего не бросать на полдороге, доводить дело до конца.
Бывали у нас такие случаи. Ставишь задание. Конструктору оно кажется непосильным, даже нереальным. И вот слышишь в ответ:
— Это же не выйдет… Неосуществимо это.
Ясно, что человек испуган необычным поручением, не осмыслил его. Уходит он от тебя со смутным и тяжелым чувством, с уверенностью, что ему навязали неприятную обузу.
В назначенный срок мы рассматриваем чертежи или первую модель.
Сам конструктор весьма низкого мнения о своем детище:
— Ничего у меня не вышло, получилась громоздкая штука. Все это еще очень далеко от замысла и вряд ли к нему приблизится со временем…
В душе он надеется, что мы забракуем его работу, и он сможет обратиться к другому делу, более реальному и перспективному на его взгляд. Но мы безжалостно разрушаем все его «мечты»: критикуем сурово, жестоко, подсказываем все, что можем, и… требуем нового варианта.
Проходит время. Где-то после третьего или четвертого варианта, после всяческих мук и огорчений, настроение нашего конструктора круто меняется. Исчез тусклый взгляд, в глазах — воинственные огоньки, он уже с темпераментом отстаивает свое решение, спорит с нами, требует проверки на опытных образцах.
Теперь все в порядке! Человек загорелся, увлекся, вошел во вкус, задание перестало для него быть «капризом» директора, превратилось в близкую и родную идею, в собственное, личное дело.
Этого-то я и добивался!
Наконец победа, удача, механизм создан, опробован в цехе, хорошо показал себя на работе. Мастерская начала изготовлять его в серийном порядке.
Конструктор торжествует, воодушевленно твердит товарищам:
— А что я вам говорил? Видите — вышло! А вы все критиковали и придирались…
Он уже забыл, как в первые дни приходил ко мне (и не раз) и уговаривал отказаться от заказа, написать на завод, что выдумывать всякие замысловатые объекты для сварки легко, а вот сконструировать для них станки и аппаратуру — дело совсем другое.
Разумеется, я никогда не напоминал об этих просьбах.
До войны считалось, что угловые швы тавровых и нахлесточных соединений можно варить только в положении «лодочки», то есть при вертикальном положении электрода. Я настойчиво добивался от наших технологов, чтобы они научились варить швы без «лодочки» и разработали технологию этого вида сварки для промышленности. Товарищи очень долго тянули дело, считая его вообще мелочью, и не понимали, почему я «увлекаюсь таким второстепенным вопросом».
И только сейчас, встретившись с производством, они увидели свою ошибку. На конвейерной тележке лежал огромный по габаритам и весу танковый корпус, и повернуть его в удобное для автомата положение нельзя было. Ручному сварщику было куда проще. Он мог приспособиться как угодно, а при сварке автоматами возникали всяческие неприятности, жидкий металл вытекал, шов формировался неправильно.
— Что же делать?
Создавать мощные, громоздкие приспособления для поворота многотонных танковых корпусов? На это пойти нельзя.
Теперь мне никого не нужно было убеждать в значении работы, которой товарищи еще не так давно пренебрегали. Наши технологи вели упорные поиски, начали применять многослойную сварку, особый флюс, помогавший правильному формированию шва, и прочее. Особое значение приобретало создание копира — приспособления, направляющего конец электрода по разделке шва. Задача была трудной и в конструктивном и в технологическом отношении. Эту работу я поручил одному из молодых, но знающих и упорных сотрудников.
Не раз у него опускались руки, не раз он отчаивался и готов был сложить оружие. Ободрять и воодушевлять его приходилось часто. Много вариантов мы с ним перепробовали, неоднократно меняли подход к делу и все же добились своего. Копир получился удачным, автомат варил теперь угловые швы наклонным электродом при горизонтальном положении корпуса. Тысячи танков были сварены нами таким образом. Наши технологи, в том числе и создатель копира, получили еще один предметный урок, еще раз осознали, что если по-настоящему «заболеть» идеей, смело вторгнуться в новую область работы, действовать самостоятельно и творчески, то никакие трудности не будут страшны.
В конце 1943 года правительство наградило орденами и медалями большую группу научных сотрудников нашего института. Ордена получили П. И. Севбо, А. М. Сидоренко, А. У. Коренной, И. К. Олейник, Б. Е. Патон; медали — Ф. Е. Сороковский, М. Н. Сидоренко, Г. 3. Волошкевич, А. М. Макара и С. А. Островская. Многие наши товарищи были занесены на заводскую Доску почета, многие отмечены приказом наркома танковой промышленности. Среди них и те, о ком шла речь в этой главе.
В этой оценке я видел признание того факта, что наша научная молодежь сумела воспитать в себе высокое чувство ответственности перед Родиной. Мы всегда стремились не афишировать себя, не выпячивать своей работы, не ставить самим себе отметок. И щедрая награда была воспринята нашей молодежью и всеми нами как прямой призыв к еще более преданному, еще более самоотверженному труду во имя победы над врагом.
11. ПУТЬ К ПРОСТОТЕ
Под давлением жизни первый этап модернизации и упрощения автосварочных установок мы закончили в середине 1942 года. Однако «мозг» автомата — его сварочная головка оставалась все такой же сложной и в эксплуатации и в изготовлении.
Наш довоенный опыт был фактически не очень значительным. Теперь, работая непосредственно на заводе, мы наглядно увидели минусы своей двухмоторной головки «А-66». Она оказалась не только сложной, но и недостаточно надежной. В реальных условиях цеха и в случае колебания сетевого напряжения головка не обеспечивала равномерного качества шва. Изменялась величина сварочного тока, наблюдались обрывы дуги, «примерзания» электрода, иногда подводили и некоторые механизмы, ненадежно работал мотор постоянного тока.
Может быть, в другое время мы бы еще долго мирились с этими недостатками, но теперь подгоняла, торопила война.
Небольшой запас старых головок у нас и на заводах кончался. Об изготовлении сложных механизмов для них в нашей мастерской нечего было и думать. Попытка наладить их выпуск на специальных заводах в условиях военных лет ни к чему не привела. Нужно было реконструировать головку, повысить надежность ее, работы, сделать ее доступной для изготовления самыми простыми средствами.
В нашей головке «А-66» регулирование длины дуги производилось автоматически с помощью двухмоторного дифференциального механизма. Автоматическое регулирование длины дуги до тех пор считалось большим преимуществом.
И вот в 1942 году Владимир Дятлов открыл явление саморегулирования сварочной дуги и предложил совершенно новый и оригинальный тип головки для сварки под флюсом. Баланс энергии в дуге изменяется в зависимости от ее длины. Исходя из этого, Дятлов выдвинул предложение подавать электродную проволоку в зону сварочной дуги с постоянной скоростью, соответствующей заданному режиму сварки.
Дятлов исходил из следующих предпосылок. Если под влиянием посторонней причины дуга удлинится, скорость плавления проволоки замедлится. Скорость подачи проволоки станет больше скорости ее плавления, в результате чего дуга укоротится до прежней длины. И наоборот, если длина дуги уменьшится, скорость плавления проволоки увеличится. Тогда скорость подачи проволоки станет меньше скорости ее плавления, и дуга удлинится.
Правильность этой смелой мысли, однако, нуждалась в проверке. Мы провели испытания, при которых на пути головки искусственно создавались различные препятствия. И они полностью подтвердили факт интенсивного саморегулирования дуги при больших токах в 800 — 1 000 ампер.
Это открытие позволяло коренным образом упростить как электрическую схему головки, так и механизм подачи проволоки. Теперь отпадала надобность в автоматическом регулировании длины дуги, — достаточно было иметь простой механизм для вращения роликов, подающих электродную проволоку. Отпадала надобность во втором моторе, то есть в двигателе постоянного тока и в схеме его питания, в остродефицитных купроксных выпрямителях. Вся электрическая и механическая часть головки предельно упрощалась.
Идея Дятлова привела многих в институте в превеликое смущение. Со всех сторон сыпались возражения и протесты. Товарищам казалось, что происходит потрясение всех основ, что под удар будет поставлено качество сварки под флюсом, что ей грозит чуть ли не полный крах и т. п. Вначале я был, кажется, единственным, кто твердо, без всяких оговорок поддерживал Дятлова.
Мне говорили:
— Как же так? Мы столько лет работали над своей головкой, всюду и везде отстаивали принцип, на котором она основана, и вдруг отбросим его? Это ведь полная ломка!
— Да, ломка, и очень крутая, — отвечал я критикам, — ну и что же? Что вас так напугало? Зачем же нам упорствовать и цепляться за старое только потому, что оно уже проверено, а новое не изведано? Ведь и самой автосварки под флюсом еще совсем недавно тоже не было. Сделаем модель новой головки, опробуем ее, и тогда станет ясно, кто прав.
— Вот увидите, головка не будет устойчиво работать. Как только начнутся колебания напряжения в сети, все разработанные режимы пойдут насмарку.
— Посмотрим, посмотрим, — спокойно отвечал я на все эти пророчества.
Нужен был человек, который загорится смелой и новой идеей и сумеет дать ей удачное конструктивное решение. Этим человеком стал Севбо. Платона Ивановича давно волновало то, что старая наша головка слишком сложна, имеет много очагов повреждения и часто выходит из строя. До войны создание головок в институте было монополией одного сотрудника. Он считал их своей личной компетенцией и оттирал в сторону других технологов и конструкторов. Это было, конечно, неверно и препятствовало движению вперед.
Сейчас Севбо, как говорят, «влез в конструкцию». Теперь, кроме чувства неудовлетворения, появилась ясная руководящая идея. Сложную конструкцию всегда легче придумать, чем простую. Постоянная и главная трудность для создателя машины — это достичь простоты. Дятлов проложил путь к ней, Севбо дал конструктивное решение и спроектировал новую сварочную головку.
Длительные и строгие лабораторные испытания новая головка выдержала с честью. С этой целью создавались самые трудные условия, с которыми она могла столкнуться на производстве. Головка эта уверенно прошла через все подготовленные для нее «каверзы» и всем поведением доказала свое право на жизнь. Были, конечно, и недоделки, но Севбо их быстро устранил.
Вскоре из нашей мастерской вышли первые упрощенные одномоторные головки под маркой «А-80».
Кое-кто уговаривал не торопиться с передачей их заводу.
— Зачем спешить? Все-таки это риск. За срыв программы нам не поздоровится.
— Ничего плохого не случится. Я верю в то, что наши упрощенные головки оправдают себя в цехах, — неизменно отвечал я. — Вы говорите — риск? Думаю, что он ничтожен. Зато, в случае удачи, головка сразу зарекомендует себя и мы сможем продвигать ее и у нас и на всех других заводах.
С этой позиции меня сбить не удалось.
Мы обратились к Портнову с просьбой установить первую головку на одном из станков для сварки бортов. Начальник автосварки любил иногда поворчать: «Хватит, мол, институту экспериментировать на подведомственных ему станках. Цех завода не исследовательская лаборатория».
Но все это говорилось только для проформы. Портнову самому очень хотелось получить простые, надежные в работе головки. К тому же он жил с нами в дружбе и знал, что в трудную минуту жизни, когда взбунтуется какая-нибудь установка или пойдут «бугристые швы», институт всегда поможет советом и делом.
В цехе сначала испугались:
— Опять переделки? Это же остановка станков на несколько дней! А с программой что будет?
Мы попросили дать нам только одни сутки. Наши люди работали и днем и ночью. Все было сделано своими руками, и к утру установка уже действовала. В первые дни за ней круглосуточно следили наши инструкторы. Новая головка работала хорошо и устойчиво поддерживала режим сварки. Управление головкой сводилось к нажатию нескольких кнопок на пульте.
Все страхи скептиков были опровергнуты и рассеяны полностью, критических голосов мы уже не слышали.
Пробный пуск первой новой головки произошел в ноябре 1942 года, а к концу войны она уже сварила сотни километров швов на бортах боевых машин! Начиная с января следующего года, мы устанавливали на всех новых станках только упрощенные одномоторные головки «А-80», изготовленные в мастерской института. Они победоносно двигались по всем заводам военной промышленности и сыграли большую роль в выпуске продукции для фронта. Это был поворотный момент в распространении скоростной сварки на оборонных предприятиях страны.
Производственный опыт показал полную надежность принципа постоянной скорости подачи электродной проволоки. Созданный в годы войны, он сохранен в новой сварочной аппаратуре института и в настоящее время.
Другим достижением наших конструкторов были самоходные сварочные головки. Основная их идея заключалась в том, что мотор, служащий для подачи проволоки, одновременно используется для перемещения головки по специальному рельсовому пути. Самоходные головки «САГ-16 и «УСА-2» выгодно отличались тем, что избавляли от необходимости строить сложные несущие конструкции или тележки.
Смелый переход от одного принципа построения сварочной головки к другому, более простому и вместе с тем более надежному, открыл новые перспективы для развития конструкторской мысли. В этом одна из главных причин того, что годы Великой Отечественной войны были такими плодотворными в истории развития автоматической сварки в нашей стране.
12. С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Чем бы мы ни занимались, какие бы проблемы ни решали, главной нашей заботой всегда оставалось качество швов. Многое в этом направлении уже было сделано. В середине 1943 года мы занялись новой серьезной теоретической работой.
Основные положения о процессе, происходящем при сварке под флюсом, нам были известны, однако не было достаточно глубокого понимания сущности этого процесса. При разработке технологии сварки и подборе режимов приходилось часто действовать на ощупь и вести из-за этого дополнительные эксперименты.
Сама жизнь заставила нас заняться серьезным исследовательским вопросом.
В заводских условиях на работе сварочных головок отрицательно сказываются изменения напряжения в сети. В военное время это было особенно неприятно. Нормальная работа установок нарушалась, в швах возникали дефекты — прожоги и непровары, нарушались размеры швов. Качество сварки заметно ухудшалось.
Чтобы изыскать реальные, действенные средства борьбы с этим злом, нужно было прежде всего выяснить, насколько и в каких случаях сказывается влияние колебаний в заводской сети и как можно его нейтрализовать. Не менее важным я считал проанализировать работу различных сварочных головок в этих условиях. И хотя институт не располагал тогда даже минимальными условиями для такого исследования, мы решили, что не имеем права откладывать его до «лучших времен».
За эту работу взялись два молодых научных сотрудника — Борис Патон и Арсений Макара. Им сразу же пришлось столкнуться с теорией, выдвинутой в свое время американцами, которые хотели представить свой способ сварки под флюсом, как отличный от нашего (они назвали его бездуговым), и получить на него патент. Американцы пытались доказать, что тепловая энергия, необходимая для расплавления электрода и металла, образуется при прохождении сварочного тока через расплавленный шлак.
Существовало и другое мнение. Его сторонники рассматривали сварку под флюсом как процесс комбинированный. Они считали, что плавление электродной проволоки и свариваемого металла происходит как за счет энергии дуги, так и за счет тепловой энергии, выделенной при прохождении тока через шлак.
Первая (американская) теория единодушно отвергалась всеми советскими исследователями, вторая имела и сторонников и противников. Нами она ставилась под большое сомнение, но доказать свою правоту мы могли только тщательно выполненными и проверенными экспериментами.
Между тем наши молодые сотрудники вначале не располагали элементарно необходимыми приборами. Зимой 1943 года на станции стоял вагон-лаборатория Главтрансмаша, и Борис вместе с Арсением Макарой отправились туда, выпросили на одни сутки осциллограф и на санках доставили его в институтскую лабораторию. Так были получены осциллограммы, пролившие первый свет на характер процесса, происходящего под флюсом. Вскоре мы добыли другой, более совершенный осциллограф и с его помощью продолжили свои исследования.
Даже для такой большой и сложной работы я не мог освободить двух сотрудников от их прямых обязанностей в цехах. Время приходилось урывать до смены или после нее, то утром, то вечером, а часто и за счет сна. Возвращаясь из цеха, они захватывали осциллограммы и анализировали их дома, затем в лаборатории принимались за опытные сварки.
Работали Борис и Арсений Мартынович в трудных условиях. Но было у них и одно преимущество: все свои догадки или сомнения они могли проверять не только в лаборатории, но и непосредственно в цехе, в суровой заводской обстановке.
Были проведены десятки опытов, экран и фотобумага зафиксировали множество кривых — осциллограмм. Я не буду рассказывать здесь о ходе этих опытов, о методике их проведения, об ошибках, которые исправлялись последующими исканиями, о неизбежных минутах огорчения из-за кустарных условий для опытов. Важен результат, достигнутый молодыми исследователями в их первой крупной работе.
Со всей убедительностью было доказано, что процесс, происходящий под слоем флюса при сварке в нижнем положении, является чисто дуговым, что дуга горит в газовом пузыре из расплавленного флюса. Сам флюс электрически почти не участвует в процессе, его роль сводится к защите расплавленного металла и к его легированию, а также к повышению устойчивости дуги. Таким образом, была окончательно развенчана американская теория сварки сопротивлением и впервые внесена ясность в понимание сущности процесса.
Наши исследователи установили основные закономерности формирования шва и этим открыли возможность на научной основе разрабатывать режимы сварки под флюсом.
Теперь мы могли вести свою практическую работу с открытыми глазами, более активно и осознанно добиваться высокого качества швов.
Борис Патон и Арсений Макара не только провели подробный анализ работы различных сварочных головок в условиях колебаний напряжения сети, но и рекомендовали промышленности конкретные способы борьбы с этими вредными явлениями. Результаты своей работы молодые ученые опубликовали в начале 1944 года в специальной книжке, вызвавшей большой интерес у сварщиков. Принципиальные выводы исследования сохраняют свою справедливость и ценность и в настоящее время.
13. НА ПЯТИДЕСЯТИ ДВУХ ЗАВОДАХ
Автоматическая сварка завоевывала все новые и и новые предприятия. Мы получали от них просьбы прислать руководящие материалы, помочь аппаратурой. Многие узнавали о новом методе сварки из газетных статей. Помню, что после статьи академика Е. Ярославского в «Правде», где он с большим одобрением описывал автосварку на уральском заводе, к нам посыпалось множество писем от директоров заводов, инженеров, рабочих-сварщиков.
Сразу же вырисовался разный подход к делу.
Одни, как, например, инженеры Омского паровозного завода, действовали энергично, получали у нас чертежи, сами изготовляли по ним аппаратуру, станки и, переболев всеми «детскими болезнями» нового метода, при небольшой помощи института твердо становились на собственные ноги.
Другие же только повиновались приказам «свыше», работали без души, заводили с нами длинную канительную переписку, месяцами мариновали посланную им аппаратуру. Люди ждали, что институт преподнесет им готовенькую автосварку, как говорится, «на блюдечке».
Отношение заводов к применению скоростной сварки зависело прежде всего от умения и желания их руководителей смотреть вперед, жить не только сегодняшним днем, но и будущим. Я дальше покажу, что дала автосварка людям дальновидным. Но были и горе-руководители, не желавшие утруждать себя лишними заботами. Механизированная сварка обладает меньшей гибкостью, чем ручная, предъявляет более высокие требования к общей культуре производства, к качеству сборки и подготовки деталей. Это и отпугивало любителей спокойной жизни.
Но, раньше или позже, с большинством заводов нам удалось установить рабочие, деловые отношения. Этому, видимо, способствовало то, что институт не агитировал, не «уговаривал», а охотно брал на себя большую часть работы.
Первое слово всегда принадлежало нашим конструкторам. Завод присылал в институт рабочие чертежи объекта, переводимого на автоматическую сварку, часто это были новые для нас типы машин или виды вооружения и боеприпасов, и тогда задача конструкторов очень усложнялась. На составление рабочего проекта сварочного станка уходило от одного до двух месяцев, но иногда и эти сроки приходилось значительно сокращать. Однажды крупный военный завод обратился к нам с заказом на проект станка для сварки важного, вводимого по требованию фронта, нового узла танка и через двенадцать дней получил все чертежи станка.
Чертежи для того или другого завода сделаны и высланы, получено ответное письмо… Можно бы поставить на этом точку?
Первый же опыт показал, что так поступить — значило бы остановиться на полпути.
В большинстве случаев нам приходилось самим снабжать заводы сварочной, флюсовой и электрической аппаратурой. Должен ли их выпуском заниматься научно-исследовательский институт, да еще в таких условиях, в каких находились мы?
Формально, конечно, нет. Никто не имел права требовать этого от нас.
Но писали нам, и наша электромеханическая мастерская выполняла эти заказы. Все было бы проще и легче, если бы аппаратура выпускалась большими сериями, но она ведь все время совершенствовалась! Эти «неприятности» институт сам создавал для себя, так что и жаловаться не на кого было…
Аппаратуру давали мы, заводы изготовляли станки по нашим чертежам. Но и это было еще далеко не все. Где заводам взять людей, знающих скоростную сварку, умеющих смонтировать, отладить, пустить установку? Такими людьми пришлось стать нашим инструкторам. Они вели трудную, неустроенную жизнь и часто проводили больше времени в поездках, чем дома. Наши «кочевники» — Олейник, Радченко, Островская, Волошкевич, Казимиров, Коренной, Медовар, Рабкин и другие, едва успев вернуться из длительной командировки, получали новое боевое задание и отправлялись в очередной рейс.
Обычно инструктор посылался на место к моменту окончания монтажа станка. Но вскоре мы убедились, что заводы, предоставленные сами себе, сильно затягивают пуск установок. И мы старались направить своих людей на места к началу монтажа. Тогда инструктор временно брал на себя функции начальника автосварки, то есть множество хлопотливых обязанностей. Это было весьма обременительно, но зато оправдывало себя.
Поведение наших товарищей заслуживало самой высокой оценки.
Ездить было в то время трудно, часто приходилось возить с собой груз — головки, детали оборудования, запасные части. Случалось, что при срочном, неожиданном выезде, не достав билета, наш товарищ устраивался на подножке, на буфере и лишь потом, вместе со своим увесистым грузом, проникал в переполненный вагон. Находчивые люди умудрялись перехитрить даже дотошных кондукторов и всегда имели при себе ключи для открывания вагонных дверей. Мало приятного было путешествовать на ступеньках в тридцатиградусные морозы…
Людям нашим приходилось подолгу, иногда по полгода и более, жить в отрыве от семьи, питаться чем попало и как попало, спать в переполненных общежитиях, сутками не выходить из цехов, самостоятельно решать сложные вопросы вдали от института. И все же я не помню ни одного случая не только прямого отказа от трудных командировок, но даже попытки уклониться от них по уважительной причине. Задание получено — инструктор без всяких жалоб или претензий отправляется в путь-дорогу.
Однажды должен был выехать на дальний завод Арсений Макара. Он внезапно заболел. Я вызвал к себе младшего научного сотрудника Бориса Медовара. Медовар — человек исполнительный. На фронте, откуда мы его отозвали через Государственный Комитет Обороны, Медовар прошел большую и хорошую школу.
— Хочу с вами посоветоваться, — сказал я Медовару, который незадолго перед этим вернулся из длительной командировки. — Нужно Макаре ехать в Сибирь, а он, как вы знаете, сильно захворал. Что делать? Кого послать? Вот список людей, давайте подумаем вместе.
Мы стали просматривать список. По разным причинам одна кандидатура за другой отпадали. Этот нужен в цехе, другой вчера только приехал с завода, третий — и сейчас в отъезде.
Борис Медовар улыбнулся:
— Выходит, Евгений Оскарович, что ехать нужно мне. Больше некому.
Я не очень искренне запротестовал.
Медовар молча выслушал мои возражения и отправился за документами. Думаю, что он сразу разгадал мой нехитрый «дипломатический» прием.
Не ошибусь, если скажу, что так поступил бы каждый из наших молодых сотрудников. Интересы дела у них всегда были на первом плане.
Как ни трудны были эти поездки, они давали большое моральное удовлетворение и часто обогащали полезным опытом.
Помню, например, свою поездку на один из заводов, где я провел три дня. Там уже работали Коренной, Севбо и Раевский. Мы сидели у главного инженера завода, деловой разговор затянулся до часу ночи. Когда я собрался отдыхать, мне передали, что рабочие просят прийти к ним. Хотят поговорить, познакомиться…
Я пробыл в цехе до четырех часов утра и нисколько об этом не жалел. Меня обступили сварщики, мастера, наладчики. Они не только обращались с вопросами, но и давали советы, наводили на такие идеи и мысли, до которых не всегда сам додумаешься. Я не стеснялся переспрашивать, просить разъяснений, — за этими людьми стояли большие практические знания. Пусть предложение высказано в самых общих чертах или даже примитивно, пусть оно не продумано до конца, зато в нем есть ценная основа, которую можно развить, «обработать». Такие подсказы нельзя пропускать мимо ушей, наоборот, нужно самим вызывать людей на беседу и уметь слушать их.
Мы получали много писем от директоров заводов, руководителей партийных организаций, в которых оценивалась роль скоростной сварки.
Технический директор одного завода сообщал, что перевод оборонных изделий с ручной сварки на автоматическую позволил высвободить треть состава сварщиков, сэкономить много электродной проволоки и электроэнергии и помог выполнить производственную программу. Все это стало возможным благодаря присылке институтом сварочных головок и чертежей сварочных станков.
В статье секретаря Горьковского обкома ВКП(б) в газете «Правда» мы прочитали следующее:
«Для выполнения программы по производству лишь одного нового вида изделий требовалось более 100 электросварщиков и более 60 сварочных аппаратов. Необходимо было, следовательно, в несколько раз увеличить парк дугового сварочного оборудования, обучить много высококвалифицированных сварщиков и создать большой электродный цех.
Было совершенно ясно, что в дни войны по этому пути идти нельзя… Завод остановился на совершенно новом, высокопроизводительном методе автоматической сварки, разработанном академиком Патоном.
Завод получил огромный экономический эффект. Производительность одной такой сварочной установки оказалась в семь раз выше по сравнению с ручной дуговой Сваркой. Каждый автомат заменил 12–14 квалифицированных электросварщиков, расход электродной проволоки сократился на одну треть».
Секретарь Н.-Тагильского горкома ВКП(б) писал в газете «Уральский рабочий»:
«На помощь машиностроителям пришли советские ученые. Неоценимую услугу оказал нам… академик Е. О. Патон. Под его руководством широко внедрена на заводах автоматическая сварка, давшая изумительные результаты: увеличение производительности в пять раз, экономию электроэнергии на 42 %, экономию электродов и уменьшение рабочей силы более чем на 70 %».
Таких писем и высказываний было много.
Вот несколько весьма наглядных цифр:
В конце 1941 года на заводах страны действовали всего три автосварочные установки, в конце 1942 года их уже было 40, в конце 1943 года — 80, в марте 1944 года — 99, в декабре 1944 года — 133! К этому времени мы вели работу на пятидесяти двух заводах.
Эта работа на предприятиях дала нам солидный опыт, но он нигде не был собран, систематизирован. Первое и второе издания моей книги «Скоростная сварка под слоем флюса» основательно устарели и нуждались в коренной переработке. В марте 1942 года я передал свердловскому издательству рукопись для нового издания.
С конца 1941 года я вечерами работал над ней, но все никак не мог закончить. Книга писалась по горячим следам жизни, практика выдвигала все время новые вопросы, мы находили для них решения, и хотелось, чтобы они отразились в книжке.
В издательстве рукопись очень медленно проходила оформление, и многие ее разделы тем временем… снова устарели. Пока книгу «мариновали», мы создали шлаковый флюс и многое упростили в сварочной аппаратуре. Как можно было все это обойти? Немало пришлось повоевать с издательством, пока оно согласилось включить дополнительные разделы. И все же к моменту своего выхода — к ноябрю 1942 года — книга во многом отстала от жизни.
Я не знал, печалиться или радоваться этому…
Техническая книга, будь она даже самой замечательной, — это только книга, она не может заменить живого общения людей, работающих в одной и той же области науки или промышленности. Между тем на каждом заводе внедряли автосварку на свой лад, сообразуясь со своим пониманием и своими представлениями о ней. Мне казался полезным созыв конференции, которая и опыт обобщила бы и выработала бы какую-то единую установку в основных вопросах.
Народный комиссар танковой промышленности товарищ Малышев полностью поддержал нашу инициативу. В своем приказе он отметил, что производственная практика применения автоматической сварки под флюсом подтвердила многие ее преимущества перед сваркой ручной. Особо говорилось в приказе о
высоком качестве швов и их стойкости, доказанной при обстреле на полигонных испытаниях. Далее нарком отметил, что, несмотря на эти достижения, автоматическая сварка не получила еще должного развития и применения на всех заводах, и предлагал «созвать совещание наиболее компетентных специалистов в области автосварки»…
Стальные конструкции этого высотного здания в Москве навеки соединил электрод. Сотни километров швов проложены сварочными автоматами.
Е. О. Патон на даче в Буче под Киевом. 1952 г.
На конференцию (она состоялась на нашем заводе в конце января 1943 года) съехались представители многих заводов и организаций. Совещания проходили бурно, по некоторым вопросам развернулась настоящая борьба, особенно разгорелись страсти на подкомиссии по аппаратуре.
Мы рьяно отстаивали нашу упрощенную головку, уже опробованную на производстве и доказавшую свою жизнеспособность. Представители одного электротехнического завода защищали свою модель и нападали на принятый нами принцип постоянной скорости подачи. Их головка была сложнее нашей, в ней вызывала сомнение надежность работы схемы регулирования и некоторых ее узлов. Но представители завода заверяли конференцию, что схема работает безукоризненно.
В действительности это был не только спор о том, чья головка лучше. Столкнулись два разных подхода к делу.
Товарищи с завода испытывали свою головку в лаборатории и не знали, как она ведет себя в трудных условиях производства. Не учитывали они и больших трудностей изготовления сложных сварочных головок в условиях войны. Их подход мы считали кабинетным, «лабораторным», наша же позиция целиком определялась требованиями жизни, длительной работой на заводах.
Конференция приняла «умиротворяющее» решение: рекомендовать для внедрения обе модели головок. Но жизнь пересмотрела это уклончивое решение и вынесла свой приговор. На большинстве заводов стали применять наши головки с постоянной скоростью подачи.
Жизнь рассудила нас с нашими противниками и в другом споре, который возник на конференции. Инженер Кремер сделал доклад о сварке подвесным электродом под слоем флюса. Он выступал с большой горячностью и свой доклад начал с запальчивого заявления:
— Хочет или не хочет академик Патон, а подвесной электрод варит!
Ответив ему по существу спора, я добавил:
— Дело, конечно, не в том, хочу ли я или не хочу чего-нибудь. Я принципиальный противник изобретения инженера Кремера, потому что на горьком опыте убедился в ничтожном производственном эффекте этого псевдоавтоматического способа сварки. Подвесной электрод — козырный туз в руках людей, которые не желают серьезно заняться автоматизацией сварки под флюсом и выдают себя за сторонников «малой механизации».
Выступая таким образом, я меньше всего руководствовался «ведомственными» чувствами. Просто я не мог поддерживать «новое» только потому, что оно «новое», а фактически гораздо хуже «старого» — автоматической сварки под флюсом.
Конференция вынесла никого и ни к чему не обязывающее решение, по которому подвесной электрод мог найти себе применение для коротких и малодоступных швов. Насколько я знаю, этот метод так и не получил признания на заводах, а автосварка под флюсом продолжала отвоевывать у ручной сварки одну позицию за другой. Испытанный и проверенный практикой метод доказал свое превосходство над отвлеченным, беспочвенным «изобретательством».
14. ВЫСОКАЯ НАГРАДА
В январе 1943 года Советское правительство в числе работников завода наградило и меня орденом Ленина. В Указе Президиума Верховного Совета СССР было сказано: «За образцовое, выполнение задания правительства по увеличению выпуска танков и бронекорпусов…»
Полгода тому назад Красная Звезда, сейчас — высший в стране орден!
Конечно, такое внимание и такая щедрость правительства меня радовали и глубоко трогали. Но вместе с тем я был смущен. Говорю это без ложной скромности и без всякой рисовки. Ведь я и мои товарищи только честно выполняли свой долг и все, что мы делали не могло сравниться с мужеством и героизмом рядового советского пехотинца, идущего в атаку, или танкиста, таранящего вражескую машину. Я думал, что многие годы мне еще предстоит трудиться, чтобы хоть в какой-то мере оказаться достойным такой высокой награды.
И вот 2 марта того же 1943 года ко мне вбежала Екатерина Валентиновна Мищенко — секретарь Института электросварки.
— Евгений Оскарович! Слышали Указ? Вам присвоено звание Героя…
Вслед за Мищенко в комнате появились наши сотрудники, раздались телефонные звонки. Я едва успевал отвечать на поздравления, на искренние и горячие рукопожатия. У меня в глазах стояли слезы, и я не стыдился их. Я не скрывал и не мог скрыть того, что потрясен. В семьдесят три года я стал Героем Социалистического Труда. Мог ли я мечтать о более высоком признании? Ведь именно труд составлял всю основу, все содержание моей жизни.
Через несколько минут я стоял у репродуктора и сам слушал слова Указа, который снова передавало радио.
Передо мной прошла вся моя трудовая жизнь. Все ли я сделал, что мог, все ли делаю сейчас? Не тратил ли я напрасно время, все ли свои силы посвятил служению Родине?
Человеку не дано самому судить о том, как он выполняет свой долг. Истинным судьей в этом является только народ. Но одно я знал твердо: всего себя, без остатка, я отдаю работе, стараюсь жить так, чтобы всегда прямо и честно смотреть в глаза советским людям. В те минуты я снова пожалел о том, что большая часть моей жизни, мои молодые годы прошли в затхлой, деляческой атмосфере царской России, в обстановке, где труд не считался делом чести, а был только средством к существованию.
Наградили меня, но я видел, что это приняли близко к сердцу очень многие. Я не говорю уже о товарищах по институту и заводу, меня поздравляли совершенно незнакомые люди, почтальон приносил одну телеграмму за другой.
Поздно вечером возле моего дома остановилась известная всему заводу легковая машина директора завода. Запыхавшийся шофер на пороге объявил:
— Директор просит вас, не теряя ни одной минуты, приехать к нему.
Я взглянул на часы: двенадцать ночи!
Этот вызов удивил меня. Днем мы виделись с Максарёвым, когда он пришел поздравить меня. Никаких особенных дел в этот вечер не предвиделось. Однако шоферу было приказано гнать машину вовсю.
Когда я, запыхавшись, вошел в директорский кабинет, его хозяин показал глазами на прижатую к уху телефонную трубку.
— Товарищ Патон здесь, — сказал он в микрофон, — передаю ему трубку, — и добавил, обращаясь уже ко мне: — Никита Сергеевич Хрущев, с фронта.
Я ожидал чего угодно, но только не этого.
Через тысячи километров долетел до меня хорошо знакомый голос.
— От души поздравляю вас, Евгений Оскарович, с большой наградой. От себя и от всей Украины.
Мне хотелось ответить: «Служу Советскому Союзу!», но я только сказал:
— Сердечно благодарю вас, Никита Сергеевич, и за поздравление и за внимание. А награда эта — всему нашему коллективу. Мы постараемся ее оправдать.
— Как здоровье ваше? — спросил товарищ Хрущев.
— Здоровье ничего, спасибо. Скажите, Никита Сергеевич, скоро ли освободим Украину?
— Соскучились? Ничего, скоро поедете домой, — ответил Никита Сергеевич. — Будьте здоровы и бодры. Еще раз поздравляю вас.
Мы попрощались. Я задумался и еще долго держал руку на телефоне.
Звонок Никиты Сергеевича значил для меня очень много. Это был не только привет с родной Украины. В словах руководителя коммунистов и народа всей республики прозвучала благодарность истерзанного
Киева, разрушенного Харькова, сгоревшего Чернигова, испепеленной Полтавы, благодарность всем своим сынам, в суровых условиях войны, на далеком холодном Урале, день и ночь думающим об Украине, работающим во имя ее скорейшего освобождения.
Максарёв, видимо, понял мои мысли.
— Вам обязательно нужно всем своим рассказать об этом разговоре, — сказал он, провожая меня.
— Непременно. Ведь Никита Сергеевич дал понять, что фашистов скоро выгонят с Украины.
В последующие дни я получил много писем с поздравлениями от директоров заводов, руководителей автосварки, инженеров, коллективов предприятий.
Теперь наши автоматы сваривали не только броневые корпуса, но и многие другие виды вооружения и боеприпасов. Бои шли еще на советской земле, не наши летчики уже сбрасывали на вражеские змеиные гнезда увесистые грозные бомбы. Швы на их корпусах были сварены нашими автоматами. И товарищи с заводов не ограничивались сердечными словами, они сообщали о победном марше нового метода сварки. Это делало их письма и телеграммы вдвойне дорогими для меня.
В день награждения я написал письма в правительство и Центральный Комитет партии. Я благодарил их за высокую награду и заверял, что все свои силы отдам для победы над врагом.
15. ПОЛЕТ В МОСКВУ
В конце июня 1943 года народный комиссар танковой промышленности Малышев несколько дней находился на заводе. Вячеслав Александрович прилетел сюда на самолете и на нем же возвращался в Москву.
Вылет был назначен на утро, и весь последний день пребывания в «Танкограде» Малышев провел в цехах, на заводском танкодроме и на железнодорожной станции. Директор завода и я всюду сопровождали наркома.
В огромном сборочном цехе мимо нас на пульмановских вагонных тележках двигались, обрастая частями, броневые танковые корпуса.
На танкодроме, могуче ревя моторами и лязгая гусеницами, проносились боевые машины. На станции, непривычно присмирев и став на диво осторожными, «тридцатьчетверки» медленно вползали на платформы. Отсюда через всю страну лежал их путь к фронту.
Следя за довольной улыбкой наркома, я впервые, словно со стороны, охватил взглядом всю картину: от первого шва, соединившего навсегда две плиты броневой стали, до первого выстрела танка, которым будет разнесен в куски вражеский дот.
И в эту минуту мне казалось, что каждый танк на этих вереницах платформ, затянутых брезентами, уносит с собой частицу моей души, уносит туда — в огонь гигантской битвы, клокочущей на тысячекилометровом фронте. Каждой из этих стальных машин я отдал частицу самого себя. И ловкий худощавый лейтенант, подтянувшийся на руках на платформу, так же дорог был мне, как родные сыновья. Казалось, что отсюда, со станции «Танкограда», юноша в кожаной куртке уходит прямо в бой…
Мои спутники молчали. Может быть, и их охватило то особенно острое, не выразимое словами, чувство слияния со всеми участниками великой битвы за Родину, наполняющее душу необычайным подъемом и ощущением полноты жизни.
Малышев повернулся ко мне и Максарёву:
— Ну, что вам сказать, товарищи? Со спокойной совестью я могу доложить Комитету Обороны, что «Танкоград» неплохо подпирает фронт и что чем дальше, тем лучше вы будете это делать.
— Мы не считаем сегодняшние показатели пределом, — очень серьезно проговорил Максарёв. — Будем с каждым днем давать танков еще больше. Верно, Евгений Оскарович?
Я молча кивнул в знак согласия. Слова наркома взволновали меня. А давно ли, при ручной сварке, до появления сварочных автоматов, завод выпускал всего лишь несколько машин в день?
— А что, если вам, Евгений Оскарович, вместе со мной прокатиться в Москву на самолете?
Взгляд наркома показался мне немного лукавым. В нем можно было прочесть: «А не испугает ли старика воздушное крещение на семьдесят четвертом году жизни? Как-никак две тысячи километров в воздухе…»
— Утром вылетим, а днем приземлимся в Москве. Соблазнительно, а? Или, может быть, поздновато отращивать крылья?
— Почему? Это никогда не поздно. Кстати, и дел в Москве порядочно накопилось. Полетим! — в тон ответил я.
— И «Звездочку» заодно получите.
Из-за одного этого я не стал бы сейчас отлучаться с завода. Уже дважды меня вызывали в Москву для вручения золотой медали Героя Социалистического Труда, и оба раза я запрашивал, нельзя ли ее переслать сюда. Но это не разрешалось.
Ранним июньским утром самолет наркома взлетел с аэродрома. Земля боком проплыла под могучим крылом и стремительно понеслась назад. Странное дело: в самолете было спокойнее, чем в иной тряской автомашине. Иногда мне казалось, что гигантская стальная птица неподвижно повисла в звенящем воздухе, и только ослепительно-золотые нити, протянувшиеся от солнца к крыльям, не дают ей упасть.
Сердце невольно наполнялось гордостью за дерзкий человеческий разум. Он поднял в воздух такую махину, сломал все старые привычные представления о расстоянии, скорости, о магической силе земного притяжения. Нет для человека ничего невозможного!
Может быть, недалеко и то время, когда в небо будут стаями взлетать цельносварные самолеты? И нигде их не будет столько, сколько в нашем, советском, небе.
Когда пролетели Казань, я прошел в носовую часть самолета, в стеклянную рубку пилотов, всю пронизанную солнцем. Если уж довелось лететь, почему бы не разобраться, хоть немного, в назначении приборов, приемах управления, не понаблюдать за действиями летчиков?
Пилоты охотно растолковывали мне показания приборов, назначение штурвала, педалей, рычагов.
Вернувшись на свое место, я с наслаждением вдыхал свежий воздух, острой струей бивший из тонкой трубочки над креслом. С интересом я посматривал вниз.
Урал, с его суровой лесной красой, крутыми изломами горных отрогов, шеренгами труб и прямоугольниками заводских корпусов, уже давно остался позади. С большой высоты земля казалась чистенькой, причесанной, идеально ровной. Селения, рощи, ленты дорог, города приобретали отсюда строго геометрические очертания, непривычные для «земного» глаза.
— Знаете, Вячеслав Александрович, любопытные мысли и сравнения приходят в голову, когда впервые в жизни подымаешься в воздух, — обратился я к наркому.
— Какие же именно?
— Отрываясь от земли, мы теряем реальное представление о сущности явлений и предметов. Сверху все выглядит красиво и просторно нежизненно и нереально. Ведь так?
— Да, конечно, — улыбнулся Малышев, взглянув в окно.
— И знаете, мне это кажется символичным: при всех исследованиях и научных опытах нужно всегда крепко держаться за землю. Твердо, обеими ногами стоять на ней. Мысль, мечта могут, должны быть в полете! Но к цели можно добраться, только если практическая работа будет опираться на землю, на жизнь, на ее потребности.
— Что ж, это очень верная мысль, — сказал Малышев.
— Это мысль всей моей жизни, — продолжал я. — Только очень долго она никому не нужна была. Зато в последние двадцать пять лет я с лихвой вознагражден за все прошлое.
Нарком понимающе кивнул. Он знал историю моей жизни, заново начатой в пятьдесят лет.
Я был единственным человеком в самолете, не видавшим Москву последние два года. И каких два года! Я ловил себя на том, что волнуюсь. Конечно, я никогда не принимал всерьез хвастливые бредни фашистов о том, что их летчики превратили советскую столицу в груду развалин, но война есть война.
И вот наконец-то под крылом возникло и в несколько мгновений заполнило все пространство великолепное, вечно волнующее видение — необозримая для глаза огромная столица мира.
Я прильнул к окну.
Москва плыла, поворачивалась, сверкала тысячами окон под крылом снижающегося самолета. В сиреневой предзакатной дымке она казалась, как никогда, прекрасной и молодой.
Воздушный корабль круто шел на посадку.
Я не замечал резкой перемены в давлении воздуха, в сознании билась только одна мысль: «Цела, цела и невредима».
Это было как встреча с бесконечно дорогим человеком, который не только одолел смертельно опасную болезнь, но и встретил тебя на пороге улыбкой, раскрытыми объятиями, сердечным словом.
Москва сразу оглушила меня бурным круговоротом своей неугасимой жизни. Она надела шинель, но лицо ее вовсе не хмуро, не пасмурно, а лишь сурово и строго.
Шурша по асфальту, наша автомашина мчалась по широким проспектам столицы.
Окна домов были заклеены бумажными крестиками. На крышах наблюдательные вышки и мешки с песком. Но нигде, ни в центре, ни на окраинах не видно следов разрушения.
В скверах, на площадях, возле красавцев мостов через Москву-реку, на величественных зданиях — всюду настороженные; задранные к небу стволы зенитных батарей. Ожидая сумерек — своего рабочего часа, в парках дремали на привязи серебристые туши заградительных аэростатов.
Нет, Москва еще не стала глубоким тылом!
«Значит, мало мы еще делаем, — думал я, — чтобы скорее загнать этих бесноватых в их берлогу, нужно вдвое, втрое больше танков».
Москва уже начинала предъявлять нам свой суровый счет.
Я больше не смотрел на здания и площади. На лицах москвичей, в их взглядах, жестах я искал ответа на вопрос: каково же сейчас душевное, моральное состояние города? Да, улыбок и веселых искорок в глазах меньше, чем до войны. Война продолжается и уносит еще много дорогих жизней. И все же что-то ясноуловимое говорило сердцу: Москва, как и вся страна, ощущает, что близок час победы, час награды за все лишения, горести, нечеловеческое напряжение, жертвы, понесенные почти каждой семьей.
В потоке машин наркомовский «ЗИС» пересек шумную и сейчас площадь Свердлова. Над знаменитой колоннадой Большого театра высоко в небо рвались на простор вздыбленные горячие кони. А невдалеке, от театра, на месте одного из скверов, раскинулось… картофельное поле.
Огородные грядки у стен лучшего в мире оперного театра!!
Это был маленький, будничный и простой, но вполне наглядный и убедительный символ.
Символ огромной, неиссякаемой жизнеспособности и бодрости бессмертного города.
Символ его умения жить и бороться в любых условиях.
Эти огородные грядки и картофельное поле в центре столицы больше всего запомнились мне в первый московский день.
«Гитлеровские генералы хвастались в октябре сорок первого, что видят в бинокль московские здания, а вот этих грядок они-то и не разглядели», — думал я, поднимаясь в свой номер в гостинице «Москва».
Сегодня уже поздно было делать визиты, и я отложил их на завтра. Нарком, прощаясь, потребовал, чтобы я основательно отдохнул.
На следующий день с утра я отправился в Государственный Комитет Обороны, а оттуда в наркоматы. Самые занятые люди находили время, чтобы сейчас же принять меня. Я был одновременно посланцем и Урала, и Сибири, и Волги, и Дальнего Востока. Со всех концов страны в те дни шли донесения и рапорты: сварочные автоматы помогли удвоить, утроить, удесятерить выпуск танков, фугасных бомб, снарядов.
Я знал, что это дает мне право не просить, а требовать, но в этом не оказалось надобности. Всюду сразу же шли нам навстречу, выделяли станки, моторы, приборы для мастерской института.
Просматривая щедрые наряды, я невольно вспоминал, как в первую уральскую осень мы создавали мастерскую из заводского хлама — гайку к гайке, резец к резцу, станок к станку… А сегодня Комитет Обороны возлагает на нее снабжение сварочными головками многих военных заводов!
— Мы надеемся на вас и на ваших мастеров, — сказал мне один из наркомов.
Я невольно усмехнулся: взглянул бы нарком на этот «детский сад». Но вслух объяснил свою улыбку иначе:
— Они уже не раз нас выручали.
Золотую медаль Героя Социалистического Труда мне вручил Михаил Сергеевич Гречуха. Принимая из рук товарища Гречухи высокую награду, я очень волновался и на его поздравление ответил коротко, а сказать мне хотелось многое. Память об этом большом событии моей жизни я храню в своем сердце.
Каким бы заполненным ни был московский день, я всегда выкраивал часок-другой, чтобы проехать на Тверской бульвар, где в скромном особняке временно разместилось правительство Советской Украины.
Стоило только переступить порог этого дома, как сразу же охватывала атмосфера совершенно особого настроения. Здесь говорили со мной о возвращении в Киев так, словно последнего оккупанта уже вышвырнули с Украины и осталось только заказать билеты на киевский поезд. А немцы еще сидели в Белгороде, Орле и втайне лелеяли план на пространстве между этими двумя городами взять реванш за Сталинград.
Киев… Там в то время еще вешали на каштанах за подобранную в подворотне партизанскую листовку.
Михаил Сергеевич Гречуха вел меня к себе, и через минуту мне казалось, что мы оба снова сидим в знакомом здании Верховного Совета УССР на улице Кирова. В особняк на Тверском бульваре я приходил, весь поглощенный мыслями о сварке бортов, носов и днищ танков, корпусов авиабомб, а здесь уже жили завтрашним днем.
Товарищ Гречуха ставил один вопрос за другим:
— С чего вы думаете начинать, вернувшись домой? Нет сомнения, гитлеровцы, отступая, постараются еще больше разрушить нашу промышленность. Ваша помощь будет особенно нужна.
Людей у вас в институте осталось маловато. А на Украине придется работать на десятках заводов. Откуда думаете взять кадры? Кого нужно отозвать из армии?
— Есть ли у вас план, хотя бы наметка работы на мирный лад?
Ответы на эти, довольно неожиданные для меня, вопросы мы искали вместе. Товарищ Гречуха с таким вниманием вникал во все институтские дела, точно в планах возрождения Украины его больше ничего не занимало. Входили со срочными докладами работники правительства, и сразу возникал деловой разговор о семенах для первого сева на освобожденной земле, о насосах для откачки воды из затопленных донецких шахт, о нарядах на кирпич, стекло, — цемент, гвозди, спецовки и сапоги.
В эти минуты я представлял себе десятки составов с уральскими танками, идущими на украинские фронты. А вслед за ними движутся составы с тракторами, сеялками, плугами, комбайнами! И они стоят в затылок у ворот Украины: танки и сеялки. А ведь еще не освобождено и пяди украинской земли. Значит, не за горами этот час!
При одной из встреч товарищ Гречуха с первых же слов объявил мне:
— Союзное правительство постановило временно, до переезда в Киев, перевести Украинскую Академию наук из Уфы в Москву. Что вы скажете насчет вашего института?
Я молчал. Это доброе предзнаменование. Значит, в самом деле скоро домой. Но оставить Урал? Оставить уральские и другие танковые и артиллерийские заводы сейчас, когда фронту нужно все больше и больше оружия? Раньше чем пройдут плуги, должны пройти танки…
— Мне нужно подумать, Михаил Сергеевич, — ответил я, — подумать, посоветоваться с товарищами. И я хотел бы лично выяснить, насколько полезны мы сможем быть тут, в Москве.
— Хорошо, — сказал Гречуха, — взвесьте все и тогда решайте.
Все последующие дни я был серьезно обеспокоен. Если взглянуть на это предложение просто по-человечески, переезд в Москву представлялся весьма заманчивым. После бессонных ночей Урала, частого недоедания и других лишений первых военных лет, квартирной тесноты и неустроенности всего быта, сотрудники института и их семьи зажили бы совсем по-другому.
Все это так, но пришло ли время думать об облегчении жизни и удобствах? И будут ли мне благодарны товарищи и ученики за то, что я выведу их раньше других «из-под огня»? За эти годы научные сотрудники, инженеры и лаборанты научились сознавать себя солдатами на посту. А на посту стоят до конца.
И все же я не хотел принимать поспешного решения. Нужно раньше присмотреться самому к московским заводам. Четыре дня провел я на крупнейших предприятиях столицы, съездил в Ногинск и Мытищи. В этот поход я вовлек и Софью Островскую, находившуюся в Москве в командировке.
Здесь, как и на Урале, знали один закон жизни: все для фронта, все для победы. И здесь, не ожидая просьбы или приказа, оставались на вторую смену, забывали за десять часов поесть (срочный заказ!), и здесь рядом с кадровым токарем работали в цехе отец-пенсионер, жена-домохозяйка, сын-школьник.
И все же получалось, что перебираться не стоит. Переезд, освоение на новом месте, завязывание знакомств с заводами, изучение их продукции, вторжение в новые области промышленности могут затянуться, чего доброго, до момента, когда придет пора снова сниматься с места. Сама мысль о том, чтобы просто «пересидеть» эти несколько месяцев в Москве, казалась преступной.
Значит? Значит — до конца на посту!
Обдумывая все это после возвращения из Ногинска, я сидел у себя в номере в гостинице «Москва». Итак, решено! Тянуть больше незачем, отправляюсь сейчас же к Михаилу Сергеевичу, чтобы изложить ему свое окончательное мнение.
Уже в дверях меня остановил звонок телефона.
Сняв трубку, я услышал голос человека, который неизменно появлялся в моей жизни в самые решающие или трудные дни.
Звонил товарищ Хрущев.
Он уже несколько дней в Москве по делам фронта, но никак не удавалось выбрать время для встречи со мной. А надо было повидаться, поговорить.
— Сейчас улетаю обратно, — сказал Никита Сергеевич, — если имеете желание и возможность проводить на аэродром, по пути обо всем потолкуем. Согласны? Тогда сейчас за вами заеду.
Как ни был занят Никита Сергеевич, а не забыл обо мне, разыскал в последнюю минуту! Это меня глубоко тронуло. И голос у него сегодня был какой-то особенно веселый.
Я знал, что с самого начала войны товарищ Хрущев находится на фронтах. Когда наши армии отступали с боями по дорогам Украины, он делил с ними невзгоды и трудности боевой жизни. Он участвовал в грандиозной исторической битве за Сталинград, которая окончилась полным разгромом врага. С тех пор Никита Сергеевич находился вместе с нашими армиями, преследовавшими отступающего врага. Сейчас близится час освобождения Украины, и хотелось верить, что приезд товарища Хрущева в Москву связан именно с этим.
Мы встретились у вестибюля гостиницы «Москва», Я впервые видел Никиту Сергеевича Хрущева в кителе, его лицо загорело, обветрилось, посвежело, и только вокруг глаз появилось больше лучистых морщинок. Погоны генерал-лейтенанта… Воюет, руководит фронтом, а сам, наверное, не дождется, когда уже можно будет заняться углем, сталью, пшеницей, жилыми домами, школами, больницами. Особые люди — большевики!
— Знаю все о ваших замечательных делах на Урале, — сказал Никита Сергеевич, когда тронулась машина. — Вы хорошо поддержали там честь Украины и всей советской науки. Ну, а теперь откровенно: очень устали от всех забот и хлопот?
Об усталости, о хлопотах говорить не хотелось, Другое волновало сейчас:
— Нас вот приглашают переехать в Москву, Никита Сергеевич. Я побывал здесь на заводах, в наркоматах и полагаю, что от нас гораздо больше пользы будет на Урале. Нет смысла нам пока сниматься с места.
Товарищ Хрущев пристально взглянул на меня, словно взвешивая каждое мое слово:
— Это ваше мнение? Что ж, и я так думаю. Ваш институт в особом положении. Поработайте еще в «Танкограде» полгода-годик, а там… Ну, что там дипломатничать! Оттуда прямо домой, в Киев. Заждались уже, наверное? Ничего, скоро свидимся на Украине.
Не только в словах — в самом голосе Никиты Сергеевича я услышал такую твердую уверенность, что не оставалось никаких сомнений: готовится что-то очень большое и важное. Там, где Хрущев, оно, видимо, и начнется.
— Да, — в раздумье продолжал товарищ Хрущев, словно отвечая каким-то затаенным мыслям, — ждать уже недолго. Готовьтесь, Евгений Оскарович, на Украине найдется много дела для ваших автоматов.
Я, конечно, просиял:
— Хорошее у вас настроение, победное! Просто заразили вы меня своей бодростью, Никита Сергеевич. Сразу сил вдвое прибавилось. Можно об этом намекнуть нашим товарищам?
— Зачем же намекать? — засмеялся Хрущев. — Прямо говорите, — скоро будем в Киеве.
На аэродроме, когда мы прощались возле самолета, Хрущев задержал мою руку в своей.
— Ну, желаю здоровья и успехов. И пока вы там, помните — за каждый лишний танк бойцы на фронте скажут вам спасибо. До Берлина еще далеко.
— На это не пожалеем сил, Никита Сергеевич. Передайте это там… на Украине!
Вслед за Хрущевым в самолет поднялся приземистый плотный человек с погонами генерала: он только что подъехал на другой машине. Я легко узнал по портретам командующего фронтом Николая Федоровича Ватутина. Я знал, что солдаты называют его «генерал Вперед».
Долго провожал я взглядом самолет Хрущева и Ватутина. Сделав прощальный круг над аэродромом, он лег на курс. Может быть, они везут с собой тот заветный приказ Верховного Главнокомандующего, которого с волнением ждут миллионы людей на Украине? Этот приказ приведет в движение армии и целые фронты, и, прокладывая путь пехоте, рванутся вперед тысячи танков. А на их стальной груди, на их бортах — швы, сваренные навечно, швы, которым не страшны укусы фашистских «тигров».
Мысли мои летели все дальше вслед за самолетом, к извилистой линии фронта, к знаменитому выступу Курской дуги, где всего через одну неделю началась великая битва за Украину, битва, после которой фашистам уже не суждено было оправиться.
Тщательно замаскированные стояли в тот день в лесных укрытиях уральские «ИСы», «тридцатьчетверки» и самоходки, и бойцы спокойно шутили в своих землянках:
— Перед нашими «коробочками» — хоть «тигр», хоть «пантера» на ноги слаба!
Еще была туго сжата могучая пружина будущего наступления, а перед моим мысленным взором уже синела далекая днепровская вода, вырастали на зеленых кручах очертания любимого города.
Самолет растаял в дрожащем от зноя июньском небе.
Я повернул к машине.
Теперь тем более нечего засиживаться в Москве и лишнего часа.
Как это сказал Никита Сергеевич? «До Берлина еще далеко». Еще не одна танковая армия должна будет родиться в уральской кузнице… Да, скорее домой, на Урал.
Домой? Что ж, это верно, в годы войны Урал стал для меня вторым домом.
16. КИЕВ ОСВОБОЖДЕН!
Едва я успел вернуться на Урал, началась историческая битва на Курской дуге. Гитлеровские дивизии истекали кровью, пытаясь пробить стену нашей обороны. Их главный козырь — тяжелые танки с устрашающими названиями «тигр» и «пантера», весь этот бронированный зверинец не произвел того впечатления, на которое рассчитывали генералы Гитлера. Советские воины сворачивали головы «королевским тиграм» с не меньшим успехом, чем их предшественникам.
Измотав врага в обороне, наши войска сами перешли в наступление.
В эти незабываемые дни стало известно, что завод получил очень важное правительственное задание. Меня пригласил к себе директор Максарёв.
— Наш средний танк «Т-34» — отличная машина, — сказал он. — Но и она может и должна быть еще лучше и совершеннее. Это требование фронта. Не останавливая ни на день производство, мы должны переоборудовать цехи для массового выпуска новых узлов. Вот как остро стоит вопрос! Придется на ходу создавать новую технологическую оснастку. Смотрим с большой надеждой на вас, Евгений Оскарович. Только скоростная сварка может нас сейчас выручить.
— Сделаем все, что можно, — ответил я. — Где у вас самое узкое место?
— Трудностей будет много, — подчеркнул Максарёв, — но больше всего их будет со сваркой командирской башенки. Прошу вас взять это на себя.
Нужно ли говорить о том, как все мы в институте восприняли задание фронта? Я немедленно созвал совещание. На нем было решено создать специальную установку для автоматической сварки башенок. Трудность задачи заключалась в том, что башенка имела несколько сложных круговых швов. Сварочная установка должна была располагать двумя рабочими местами.
Все это не смущало нашего главного конструктора Севбо:
— Было бы время, справиться можно, — сказал он.
Но времени-то и не было…
— Какой срок нужен вам для этой работы? — спросил я Платона Ивановича.
— При самой четкой организации дела — полтора месяца, — ответил Севбо.
— Это не пройдет. Нужно ваш срок сократить в два раза.
Севбо молчал. Я понимал, что ставлю перед ним очень трудную задачу. Во время войны наши конструкторы научились работать вдвое-втрое быстрее, чем прежде, но сейчас я требовал темпов, незнакомых нам даже по тем временам.
Что же скажет Севбо?
— Это очень, очень трудно, — после долгого раздумья проговорил Платон Иванович, — но нужно постараться. У меня возникла только что одна идея. Может быть, удастся вырвать несколько дней.
Что это была за идея, все увидели, когда конструкторское бюро принялось за дело. Над проектом работали С. С. Савенко и М. Е. Иванников под руководством Севбо. Платон Иванович разработал график, по которому проект установки и все рабочие чертежи должны быть готовы за пятнадцать-двадцать дней. Всего две недели отводилось и на изготовление установок и на ввод их в действие. Пятнадцать-двадцать дней вместо полутора месяцев!
Для такого темпа прежний порядок работы не годился.
Севбо сломал все старые традиции, и проектирование велось теперь скоростным методом. Савенко и Иванников работали с предельной нагрузкой, чертежи по мере их готовности тотчас же выдавались в цех с упрощенным оформлением, а там, не ожидая всего комплекта чертежей, выполняли в металле отдельные детали и узлы.
Через пятнадцать дней, когда конструкторы окончательно оформили общий вид установки, первые узлы уже были готовы. А еще через двенадцать дней станки стояли на своих местах.
Признаться, я был поражен. Принятые нами с Севбо сроки были архисжатыми, но товарищи все же справились с ними.
Теперь нужно было пустить установки.
Я бросил в цех самых энергичных и умелых людей.
Первые дни они и сами вели сварку и учили девушек, которые должны были управлять новыми станками. Наши инструкторы буквально валились с ног. Иногда у них не оставалось сил, чтобы добраться домой, и они, подложив под голову телогрейки, засыпали тут же в цехе, на твердом корпусе танка. Никто не жаловался на усталость, на переутомление, на то, что трудно работать с удмуртскими девушками, плохо знающими русский язык.
Все помнили одно: Красная Армия наступает, она не может ждать.
Меньше чем через месяц после получения на заводе задания идея танковых конструкторов была воплощена в усовершенствованной боевой машине. Фронт получил еще более могучий танк.
Еще никогда мы не слушали с такой радостью и с таким подъемом сводки Совинформбюро.
Неудержимая лавина наступающих советских войск катилась по Украине. Мы словно двигались вперед вместе с ними.
Все ближе и ближе к родному Киеву…
Все наши города одинаково близки сердцу советского человека, но есть особая, понятная каждому радость, когда приходит час освобождения для города, где ты прожил десятки лет, где совершилось все самое лучшее в твоей прошлой жизни!
В сводках все чаще назывались танковые армии и соединения и славные имена их командиров, уже широко известные стране. В газетах появлялось все больше очерков и заметок о подвигах и мастерстве танкистов. И хотя мы не могли знать, где именно находятся танки, сваренные нашими автоматами, нам казалось, что они всюду. И мы, пожалуй, не ошибались. Приятно было сознавать, что есть в этом грандиозном наступлении и доля нашего труда.
И вот мы узнали о форсировании Днепра советскими войсками в районе Киева!
Меня поразило, что этот замечательный подвиг был совершен с помощью самых простых переправочных средств: рыбачьих лодок, найденных на месте, и самодельных плотов. Наши наступающие части, опередив эшелоны с понтонными мостами, под ожесточенным огнем врага с ходу переправлялись через Днепр. Военная история, пожалуй, не знает столь смелого форсирования большой реки, проведенного в таких масштабах. Этот подвиг говорил о массовом геройстве, мужестве и непреклонной воле советских воинов. С большим удовлетворением прочитал я в газетах о том, что более чем ста участникам штурма Днепра присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
6 ноября 1943 года, в канун великого Октябрьского праздника, Красная Армия вступила в Киев. И первыми ворвались на его улицы танковые части.
Киев освобожден!
Трудно передать, что в этот день творилось в институте и на заводе. Два года ждали мы этой великой минуты, два года читали в московских и украинских газетах о муках и страданиях родного города, два года верили в то, что для фашистов придет час расплаты. С какой болью рассматривали мы у одного фронтовика немецкий журнал со снимками городских руин, каменного хаоса Крещатика.
В последние дни перед взятием Киева во всех квартирах радио не выключалось, всюду шли споры о дате освобождения города. Многие из нас услышали приказ Верховного Главнокомандующего у проходных ворот, возвращаясь с завода. Стоял крутой уральский мороз, но всем было жарко. Стужи никто не замечал. Люди срывали шапки, бросали их вверх, обнимались и целовались.
У многих дома хранилась заветная бутылка вина, припасенная именно для этого торжественного случая. Но никто не хотел пить в одиночку, и в тот вечер в заводской столовой были коллективно распиты все личные запасы. Арсений Макара требовал для себя двойной порции, как для «пророка». Он раньше всех предугадал действительную дату изгнания гитлеровцев из Киева — Октябрьский праздник. Товарищи пили за родное наше правительство, за великую Коммунистическую партию, за советский героический народ, за свою родную армию.
Я вспоминал свои впечатления от поездки в Москву, свою встречу с Никитой Сергеевичем Хрущевым. «Скоро, скоро», — говорил он. Вот и наступил этот долгожданный день!
Я уже начинал задумываться над нашим будущим. И не только я один. Многие из сотрудников рвались домой немедленно, им хотелось скорее вернуться в Киев. Хотелось этого и мне. Но я считал, что пока война еще в разгаре, пока впереди еще много трудных и упорных боев, наше место по-прежнему на Урале, на военных заводах, кующих победу в тылу.
17. ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ
Весной 1943 года мне пришлось быть по делу у секретаря райкома партии Алентьева. Встреча эта произошла вскоре после присвоения мне звания Героя, Поздравив меня, секретарь райкома спросил:
— Евгений Оскарович, а почему вы не в партии?
Вопрос был поставлен прямо, в упор, я ответил так же откровенно:
— Давно, уже несколько лет думаю над этим. Но, знаете, никак не решусь.
— Почему же? — удивился Алентьев.
— На это надо иметь право, надо заслужить его.
— Право это вы заслужили, — сказал секретарь райкома.
Этот разговор взволновал меня.
В самом деле, еще до начала войны я задумывался над вступлением в партию. Первые встречи с Никитой Сергеевичем Хрущевым в Киеве, а затем в Москве, моя работа в Совнаркоме СССР все больше приближали меня к партии. Отныне вся моя работа определялась ее заданиями и стремление в партию еще больше окрепло во мне. На примере того, как партия взяла в свои руки созданный нами новый прогрессивный метод сварки и сразу придала его распространению невиданный размах, я своими глазами увидел, что коммунисты в нашей стране — самые активные борцы за развитие передовой науки и техники.
Я встречался в те месяцы с видными деятелями партии и правительства, с народными комиссарами, и эти люди покоряли меня своей дальновидностью, широтой, деловитостью. Я понимал, что такими их сделала, воспитала партия.
Началась Великая Отечественная война. Сейчас я мог еще больше оценить ум, величие и волю Коммунистической партии.
На своем веку я был свидетелем двух войн, которые вела царская Россия. Я уже писал о том, сколько стыда и боли пережил тогда. Совсем не то было сейчас. Теперь я гордился своей Родиной.
На меня огромное впечатление произвело то, как была перебазирована крупная промышленность на восток. Любое другое правительство, кроме Советского, любая другая партия, кроме Коммунистической, растерялись бы, дрогнули, поддались бы панике и бросили бы все врагу, как и случилось в западных буржуазных странах. Стоило вдуматься хотя бы в то, что произошло на нашем заводе, чтобы увидеть, какие силы таятся в советском народе. Или другой пример. Завод нуждался в броневой стали для выпуска танков, с юга страны такой металл уже нельзя было получать. И вот буквально через несколько недель броневые плиты стали поступать к нам с другого завода, который неподалеку от нас, тут же на Урале, развернул их производство. Таких фактов я знал десятки. Предвидя возможность нападения на нас, партия заранее создала на Урале и в Сибири мощную промышленную базу, которая получила быстрое развитие в первые годы войны.
Поражала меня гигантская организаторская воля и сила партии. Разве не ее заслугой являлось то, что завод, выпускавший в первые месяцы два-три танка в день, уже через два года давал их в десятки раз больше? Я-то очень хорошо знал, какие для этого понадобились усилия!
Мы были тесно связаны с многими оборонными заводами, и всюду я видел ту же картину. Если в начале войны наша мирная страна испытывала недостаток в вооружении, то уже к середине войны Красная Армия ни в чем не нуждалась. Я еще раз убедился в том, что партия слов на ветер не бросает.
Однажды я прочел в одной из газет, что Геббельс страшно разобиделся на большевиков. Оказывается, они «подвели» колченогого и всю его разбойничью компанию. Русские, видите ли, скрыли от всего мира настоящие размеры своей промышленности на Урале, в Сибири и почему-то не вручили фашистам заранее титульный список своих заводов на востоке страны.
Второй «советский подвох» состоял, оказывается, в том, что русские… «припрятали» от Геббельса несколько миллионов населения и неожиданно выставили на фронт еще с полсотни дивизий.
Я от души посмеялся над этими «обидами». Не количество заводов, не статистику проглядели фашисты, а нечто еще более важное: силу духа и сплоченности советского народа.
Я очень хорошо помню, как шли простые русские люди на первую мировую и русско-японскую войны, шли, ненавидя своих правителей, бросивших их на кровавую бойню и оставивших даже без оружия. Такое же отношение к постылой
проклятой войне было тогда и в тылу.
Теперь я видел совсем другой народ и совсем другую войну. Матери, жены, дети знали, что их близкие сражаются на фронте за их родную власть, за их права, за их свободу, и без громких слов делали все, что требовали от них обстоятельства.
Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, часто вместе со своими сыновьями — юношами выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, заменяли им отцов, не сгибались под тяжестью горя, когда прибывала «похоронная» на мужа, сына или брата. Это были настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения.
А заводская молодежь! Она осаждала военкомат своими требованиями отправить ее на фронт и считала, что тут, в цехах, чересчур легко. А сами месяцами не имели выходных дней, недоедали, недосыпали, ходили зимой в брезентовых туфлях…
А рабочий народ, эвакуированный с Украины! Эти люди работали с особенным упорством, я бы сказал с ожесточением, первыми вызывались остаться еще на одну смену, перейти на более трудный участок. Они ни одной минуты не. чувствовали себя на Урале гостями или тем более чужими. Их приняли как родных, как братьев, как членов единой советской семьи. Сыны Украины сражались с врагом и на переднем крае и тут, в «Танкограде», а уральские юноши вели по полям Украины танки, сработанные русскими и украинскими рабочими, мастерами, инженерами в далеком от фронта городе.
Я часто слушал вместе с заводскими рабочими и работницами сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего. Как загорались их глаза, какая радость освещала лица, когда радио приносило весть о новой победе Красной Армии! За тысячи километров отсюда лежал еще один освобожденный советский город, а у людей и здесь праздник!
Мне приходилось непосредственно встречаться с видными работниками танкостроительной промышленности, — с народным комиссаром В. А. Малышевым, известными конструкторами, с директорами крупнейших танковых заводов, с десятками инженеров; Все эти командиры производства, большие, средние и малые, отдали много своего самоотверженного труда, сил и здоровья на организацию и укрепление танковой промышленности на уральских и других заводах.
И я воочию убеждался в том, что за двадцать пять послереволюционных лет Коммунистическая партия сумела в огромных масштабах воспитать таких людей, которых не было и не могло быть раньше. Они привыкли безгранично верить каждому слову партии и всегда во всем следовать ее указаниям. Стоило мне поглубже заглянуть в самого себя, и вывод получался тот же: ведь и я изменился до неузнаваемости.
В партию надо идти с чистым и открытым сердцем, ничего не скрывая, не утаивая от нее. Мой путь был сложным, не сразу и не без колебаний я стал таким, как в эти дни.
13 декабря 1943 года я разговаривал по телефону с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Это было после моей болезни, когда я лечился в Свердловской больнице. Никита Сергеевич, как всегда, проявил ко мне и на этот раз участие и сразу же справился о моем здоровье и самочувствии.
Именно там, в Свердловской больнице, я передумал всю свою жизнь и окончательно решил просить партию принять меня в свои ряды.
Через четыре дня после телефонного разговора я обратился к товарищу Хрущеву с письмом. Я благодарил его за внимание, писал, что после моей болезни поправляюсь, насколько позволяет мой возраст, и на работе тренирую свое переутомленное сердце.
В этом письме я высказал Никите Сергеевичу свои, самые сокровенные мысли с предельной откровенностью. Я был уверен, что он поймет меня правильно, Я писал:
«За время войны я много думал о поступлении в партию. По этому вопросу мне хотелось с Вами посоветоваться во время нашей последней встречи в Москве, в июне сего года. К сожалению, это не удалось.
Меня смущали два обстоятельства: я боялся, что люди не — поверят искренности моих побуждений и подумают, что мной руководят личные интересы.
Сейчас то и другое как будто отпало. Моя преданность советскому строю нашла подтверждение в работе, с успехом выполненной мной во время войны.
Отпадает также вопрос о личной заинтересованности после того, как партия и правительство в течение последнего года очень щедро наградили меня высшими отличиями.
Поэтому я решил написать заявление о приеме в партию и направить его лично Вам.
С прилагаемым моим заявлением прошу Вас поступить по Вашему усмотрению. Если Вы сочтете его неуместным, уничтожьте его,
С глубоким уважением
Е. ПАТОН».
Привожу полностью текст моего заявления о приеме в партию на имя секретаря ЦК КП(б)У Н. С. Хрущева, которое я приложил к этому письму:
«Когда советская власть взяла в свои руки управление нашей страной, мне было 47 лет. Проработав много лет в условиях капиталистического строя, я усвоил его мировоззрение.
Сначала советская власть относилась ко мне с недоверием, и не раз приходилось мне это чувствовать. Начинания новой власти я считал нежизненными, но, присматриваясь к ней, я продолжал честно трудиться, так как в труде я привык видеть смысл моей жизни.
Когда я познакомился с планом первой пятилетки, я не верил в возможность его выполнения. Время шло. Когда развернулись работы по Днепрострою, который никак не давался прежней власти, я начал понимать свою ошибку. По мере того как осуществлялись новые стройки, реконструкция Москвы и другие большие начинания Партии и Правительства, все больше изменялось мое мировоззрение. Я стал понимать, что к советской власти меня приближает то, что труд, который являлся основой моей жизни, советская власть ставит выше всего. В этом я убедился на деле.
Я сознавал, что перерождаюсь под влиянием новой жизни. В конце 1940 г. я писал об этом товарищу Сталину и товарищу Хрущеву, когда благодарил их за поддержку, которую они оказали новому методу скоростной сварки.
Начавшаяся Великая Отечественная война явилась блестящим подтверждением мощности и прочности советского строя. Перед моими глазами прошли две последние войны — японская и империалистическая. Я имел возможность сравнить положение тогда с тем, что происходит сейчас, во время Отечественной войны. Меня поражает выдержка и героизм, с каким советский народ борется на фронтах и в тылу под твердым руководством партии и советского правительства.
Когда началась Отечественная война, я сам нашел применение своим знаниям и работал на оборонных заводах Урала вместе с коллективом моего института. Мы оказали посильную помощь делу защиты нашей Родины. За эту работу Партия и Правительство очень щедро наградили меня и этим дали мне понять, что они доверяют мне.
Это дает мне право подать настоящее заявление о принятии меня в партию с тем, чтобы я имел возможность продолжить и закончить мою трудовую жизнь под знаменем партии большевиков.
Герой Социалистического Труда Е. ПАТОН».
В этом заявлении я прямо и честно подвел итог своей жизни, всего пройденного пути. Теперь партия должна была решить, имею ли я право на пребывание в ее рядах.
Я очень волновался, ожидая ответа. Никто, даже члены семьи, ничего не знал об этом моем шаге, ведь я не мог быть уверен заранее в положительном ответе. Все эти дни я жил в напряжении, но старался скрыть его от окружающих. Мой сын Борис заметил, что я написал какое-то письмо на особо хорошей бумаге, отложенной для важных случаев. В ответ на его намеки я отмалчивался.
В последних числах января я снова чувствовал себя плохо, по вечерам лежал в постели. В один из таких вечеров за мной прислал директор завода. Домашние протестовали против того, чтобы я вставал, ссылались на мороз, на мое состояние, но я словно догадывался о причине вызова и настоял на своем. Мне помогли одеться…
Через несколько минут я уже разговаривал по телефону с Никитой Сергеевичем. Он поздравил меня с приемом в члены партии и сообщил, что решение Политбюро ЦК ВКП(б) об этом состоялось 27 января. Так скоро! И принимало меня непосредственно Политбюро…
Я совершенно растерялся и на все вопросы Никиты Сергеевича Хрущева отвечал тем, что бессвязно благодарил.
Через несколько дней секретарь горкома вручил мне партийный билет. Я и в горком поехал больным, но ни за что не хотел ни на день откладывать получение партбилета. Теперь до конца дней моя жизнь была воедино слита с жизнью партии. И сколько бы я ни сделал в дальнейшем — все будет мало, чтобы оправдать доверие партии. Очень, очень многое менялось сейчас для меня…
Становясь на партийный учет в институт, я шутливо сказал нашему парторгу А. Е. Аснису:
— Теперь не только вы мне подчиняетесь, но и я вам!
Аснис улыбнулся:
— Не мне, конечно, а партии.
Партию я давно привык слушать, — ответил я, — а сейчас постараюсь делать это еще лучше.
Не мне решать, как я сдержал свое слово, но все годы с тех пор я стремился и стремлюсь к этому,
18. ЗАВТРА — УКРАИНА!
1944 год был для нас во многом не похожим на другие последние годы. Мы продолжали все шире развертывать работу на оборонных заводах, продолжали жить войной, ее интересами и нуждами. И вместе с тем уже начинали думать о предстоящем переезде в Киев, о труде, который ждет нас на Украине;
Еще летом 1943 года после возвращения из Москвы я созвал общее собрание сотрудников института. Я пересказал им мой разговор с товарищем Хрущевым и все, что я видел и слышал в здании украинского правительства. Потом я сказал товарищам:
— Академия перебирается из Уфы в Москву. Я отказался. Что вы скажете?
Никто не выразил тогда желания переезжать в Москву. Все понимали, что наш путь лежит прямо на Украину.
Чем дальше продвигались наши войска, тем больше доходило к нам сведений о страшных разрушениях, произведенных фашистами на заводах, электростанциях, шахтах, рудниках. Мы знали, что на Украине от нас сразу же потребуют активной помощи для возрождения промышленности. У нас не будет там времени для разгона, для длительной подготовки.
Обо всем этом мы с нашими научными сотрудниками повели большой разговор. Мы вместе обсуждали, с чего будем начинать на Украине.
Я напомнил:
— Не следует ждать, пока будут пущены заводы, скоростная сварка может и должна сыграть большую роль именно в их возрождении.
— Это совершенно верно, — поддержал меня Казимиров, — прежде всего будут в огромном количестве восстанавливаться и строиться заново металлоконструкции. Железные балки, колонны, трубопроводы для подачи воды и газа на металлургических заводах и для откачки воды из шахт, подкрановые балки и многое другое.
— Именно с этого, с металлоконструкций и труб больших диаметров все и начнется, — подхватил Раевский. — Значит, к ним и должно быть приковано наше внимание.
Все мы понимали, что для выполнения этих трудоемких работ на сотнях заводов и шахт ручных сварщиков не хватит. Где взять сейчас, тысячи, десятки тысяч рабочих этой специальности? Только скоростная автоматическая сварка может выручить, как это было при налаживании массового выпуска танков.
Донбасс, Приднепровье, Приазовье — основные промышленные центры республики — сюда было заранее нацелено наше внимание.
К работе на Украине готовились все. Мастерская создавала запас дефицитных деталей для сварочных головок, технологи и конструкторы — комплекты чертежей различных установок. От завода мы получили в подарок кабель, цветные металлы, станки, оборудование для изготовления флюсов. Товарищи помнили, что мы едем на разоренную и испепеленную врагом землю.
Я снова заболел и на этот раз очень серьезно. Руки и ноги распухли, набрякли от водянки, я был прикован к постели. Я тяжело переживал свою вынужденную беспомощность и опасался, что ухудшение здоровья совсем оторвет меня от дел.
Как-то я попросил нескольких сотрудников собраться у меня дома. Они сидели возле постели, шутили, старались отвлечь меня посторонними, «безобидными» разговорами.
Я терпел-терпел и, наконец, не выдержал:
— Товарищи, я позвал вас не за тем, чтобы вы развлекали больного старика. Давайте к делу.
— Сегодня мы вам не подчиняемся, — отшутился кто-то.
Но подчиниться пришлось. Долго и тщательно обсуждали мы наши новые задачи и пришли к мысли, что нечего нам кустарничать, нужно построить свою работу на основе единого государственного плана применения скоростной сварки. Так родилась у нас мысль послать своего делегата в Киев к товарищу Хрущеву. Этот делегат должен поехать с конкретными предложениями, с перечнем заводов, на которых мы считаем нужным сразу же приступить к работе.
— Для себя просить только самое необходимое, то, без чего нельзя восстановить институт, — заявил я. — Мы едем не отдыхать после Урала, а работать с полной нагрузкой, на мирной стройке — по-фронтовому.
Тут же мы обсудили и примерное содержание нашего обращения к Никите Сергеевичу. Товарищи ушли от меня в бодром, приподнятом настроении, мне же казалось, что я чувствую себя гораздо лучше. К сожалению, это было обманчивое ощущение.
Нашим делегатом я назначил научного сотрудника Ф. Сороковского. Он уехал, получив мои точные инструкции и сопровождаемый самыми горячими пожеланиями всего коллектива.
Сороковский вез с собой письмо к товарищу Хрущеву с просьбой об издании правительственного постановления о внедрении автосварки на восстанавливаемых заводах Украины.
Я указывал в письме, что в первые годы после войны будет ощущаться большой недостаток в квалифицированных рабочих. Вследствие этого встанет вопрос о максимальном сокращении ручного труда, о механизации технологических процессов. За неимением опытных, знающих сварщиков, заводы должны будут ориентироваться на автоматическую сварку. Поэтому в планах восстановления заводов с большим объемом сварочных работ необходимо предусмотреть, чтобы переход от ручной сварки к автоматической был осуществлен с самого начала.
Так все яснее определялось главное направление нашей будущей работу. Постепенно мы начинали втягиваться в нее. Научные сотрудники Раевский и Казимиров засели за разработку вопросов сварки металлоконструкций, а со временем полностью переключились на это дело. В конструкторском бюро уже готовили проекты аппаратуры и станков для различных видов сварки. С конца 1943 года на работу в институт перешел мой старший сын Владимир. Он впервые пробовал свои силы как конструктор. Для своего дебюта Владимир получил ответственное задание — создать универсальную автоматическую головку для сварки металлоконструкций.
В апреле 1944 года ЦК КП(б) Украины и Совнарком УССР издали постановление «О мерах по внедрению автоматической электросварки на восстанавливаемых предприятиях в освобожденных районах Украины». По этому решению двенадцать заводов республики должны были уже в 1944 году освоить автосварку под флюсом. Институт еще находился на Урале, а его работа на Украине сразу же включалась в великий план мирного строительства!
Я отдал распоряжение о подготовке к отъезду. Для всех нас кончался трудный и славный период жизни, связанный с Уралом, с работой на его военных заводах. Институт собирался в путь-дорогу. Одни только станки, материалы и оборудование должны были по нашим подсчетам занять не менее десяти вагонов. Наше хозяйство уже было далеко не тем, что в начале войны.
И только одно омрачало настроение: моя все обострявшаяся болезнь, мое почти неподвижное состояние. Врачи требовали, чтобы я надолго лег в больницу и находился под наблюдением знающих специалистов.
8 апреля по правительственному телефону было передано распоряжение: «Институт электросварки. Академику Патону Евгению Оскаровичу. Немедленно выезжайте в Москву вместе с женой Натальей Викторовной. Зам. председателя Совнаркома Союза ССР В, Малышев».
Это был вызов для лечения в Кремлевской больнице. Я еще раз убедился, как высоко ценят в нашей стране человека и его труд.
Очень тяжело было мне оставлять институт в такой момент, но ослушаться врачей я не имел права: мне хотелось еще пожить на свете и многое еще сделать.
Меня и жену провожал весь институт. Прощание это было особенно волнующим, — ведь встретиться нам предстояло уже в Киеве.
Судно, целиком сваренное методом автосварки под флюсом.
Е. О. Патон у лабораторной двудуговой автоматической установки для скоростной сварки труб. 1950 г.
19. НАШ ВКЛАД В ДЕЛО ПОБЕДЫ
В Кремлевской больнице я пробыл с середины апреля до июня 1944 года, а затем более месяца — в доме отдыха «Узкое» под Москвой.
Лечили меня основательно. Начали с кровопусканий, а затем за короткое время выпустили из меня шестнадцать литров уральской воды. Эти неприятные процедуры, предпринятые для ликвидации отечности, я переносил покорно, но очень страдал из-за оторванности от института.
Я просил врачей:
— Лечите как угодно и чем угодно, только отпустите скорее в Киев.
Они неизменно отвечали:
— Быстро поставим вас на ноги, но при одном условии — терпение и терпение.
А вот этого у меня как раз и не хватало.
Я выговорил себе право писать и получать письма, а впоследствии добился большего: ко мне стали допускать сотрудников института, приезжавших с неотложными делами. Дел, как всегда, было много, особенно в такой ответственный момент в жизни коллектива, как возвращение на Украину.
В первых письмах я советовал, как организовать переезд и размещение института в Киеве (правительство Украины предоставило нам на выбор три здания), а вскоре наша переписка стала касаться более сложных вопросов: тематики института и методики выполнения наиболее ответственных работ. Я сразу ожил. Правда, врачи, видя, как разрастается моя почта, сначала протестовали, но в конце концов примирились с ней.
Я доказывал им:
— Без этого мое выздоровление будет идти гораздо медленнее. Свежий воздух жизни иногда полезнее всех ваших медикаментов.
— Это, положим, спорно, — отвечали врачи, но на своем больше не настаивали.
Свободного времени у меня оставалось много, долгие годы я не знал такого вынужденного безделья. Лежа в постели, я подводил для себя некоторые итоги и обдумывал планы на будущее.
Все чаще вечерами окна в моей палате озарялись отблесками ракет, взмывавших в московское небо, и раздавался победный грохот артиллерийских залпов. Столица Родины салютовала то одному, то другому фронту в честь освобождения все новых и новых советских городов. Чтобы над ними снова взвилось красное знамя, многие тысячи людей отдали свою жизнь, а миллионы не покладая рук трудились в цехах и на полях.
— А чем мы завоевали право вернуться в родной Киев? — задавал я себе вопрос.
Нашей основной заслугой я считал то, что мы настойчиво и упорно, преодолевая трудности и препятствия, а иногда и косность и пассивность, внедряли новый скоростной метод сварки в оборонную промышленность. Мы не закрывались в своих кабинетах, работали на заводах и вместе с рабочими ковали оружие победы. Тесное содружество с заводами заставило нас действовать, быстрее, энергичнее и гораздо инициативнее. За три года войны институт выполнил работу, на которую в мирных условиях ушло бы восемь-десять лет.
Скоростная сварка под флюсом не только получила всеобщее признание, но стала основным технологическим процессом в бронекорпусных цехах.
Десятки тысяч боевых машин вышли из цехов со швами, сваренными под флюсом. К концу войны на корпусах танков уже вовсе не было швов, сделанных вручную. Выпуск танков для фронта увеличился в несколько раз.
К этому времени на военных заводах страны работало свыше сотни наших установок. Они сваривали не только средние и тяжелые танки, но и авиабомбы, некоторые типы артиллерийского оружия и специальные виды боеприпасов.
Товарищи с одного завода подсчитали, что работа автоматов дала предприятию пять миллионов рублей экономии, на другом заводе за один лишь год — 3,5 миллиона рублей.
Если бы швы, сваренные в «Танкограде» автоматами за три года, вытянуть в линию вдоль железнодорожного полотна, то длина ее составила бы шесть тысяч километров. Этот серебристый шнур протянулся бы от лесов Урала до садов родного Киева, оттуда до Берлина и дальше. На сбереженной автоматами проволоке и электроэнергии можно было изготовить еще огромное количество оружия. Лишь на одном уральском заводе автоматы высвободили триста квалифицированных сварщиков, на одном из волжских предприятий — двести пятьдесят.
Большую радость ощущал я и оттого, что автосварка повысила надежность танков в сражениях, сделала их более огнестойкими.
На заводе довольно часто появлялись фронтовики, и мы ловили каждое их слово, внимательно прислушивались к отзывам о поведении танков в бою. Товарищи рассказывали, что танкисты быстро оценивали возросшую прочность и надежность корпусов и стали увереннее чувствовать себя под их защитой.
Однажды до нас дошла такая фронтовая легенда.
В начале войны из Киева на Урал приехал старый академик со своими молодыми сотрудниками. И стал этот академик с длинными белыми усами ходить по цехам завода, останавливаться у каждого танка и выслушивать трубочкой все швы, сваренные автоматами. И если уже выпустит танк за ворота, то можно за машину быть вполне спокойным, — не подведет в бою.
Эта наивная история, в которой так причудливо преломилось то, чем мы занимались в действительности, глубоко тронула меня.
Вместе со всем народом мы жаждали одного: чтобы победа над врагом наступила как можно скорее, чтобы стоила она как можно меньше дорогих жизней наших людей. Ради этого мы и работали на оборонных заводах страны и в этом видели призвание советской науки во время войны.
Труд во имя победы, во имя человека!
Таковы самые краткие итоги нашей работы для фронта.
Громадную пользу от нее получили мы сами и наше детище — скоростная автоматическая сварка под флюсом. Отныне она навсегда покинула стены лаборатории и вышла на широкий путь производственного внедрения. Своими неоспоримыми преимуществами автосварка завоевала себе право на жизнь, право на признание. К марке: «Разработано в научно-исследовательском институте» — жизнь сделала существенное добавление: «Опробовано на десятках заводов».
Мы сами убедились, какой революционизирующей силой для производства является наш метод сварки. Не только я, но и мои молодые товарищи утвердились в правильности принятого нами решения — сконцентрировать все силы института на разработке одной, стержневой, центральной проблемы, бить в одну точку, в одну цель. Эта мысль, впервые реализованная во время войны, обеспечила получение ценных для промышленности результатов.
Для всех нас работа на военных заводах была огромной школой. Перед научной молодежью, в период её становления и возмужания, открылось широкое поле для инициативы, для смелых исканий и немедленного претворения в жизнь своих достижений. На собственном опыте наши молодые сотрудники познали, что только то научное открытие, которое выдержало длительные испытания и проверку в цехах, имеет право на продвижение в жизнь.
Наша молодежь усвоила и другую важную истину. В таком институте, как наш, Не место теоретической работе, оторванной от жизни. Я не помню случая, чтобы мы в годы войны выдвигали ту или иную теоретическую тему как самоцель. Обычно, решая какую-либо важную практическую задачу, мы сначала разрабатывали теоретическую основу. Так было и с созданием технологии сварки брони, и с поисками нового флюса, и с вопросами влияния напряжения в сети на качество швов, и с исследованием процесса сварки под флюсом.
Да, мы были практиками, но практиками творческими. В первые месяцы войны мы внедряли то, что накопили раньше. Но сама жизнь, работа на заводах, трудности военного времени властно выдвигали новые задачи. Они вызывали исследовательскую работу, так сказать, ближнего прицела, с немедленной отдачей. Конечно, это были часто только зачатки, наметки, черновики, но в дальнейшем они не раз становились отправной точкой для серьезной научной работы. Пусть многое потом пришлось пересмотреть и дополнить, но основы были заложены. А такие труды, как новый принцип работы сварочных головок и исследование процесса автоматической сварки под флюсом, намного обогатили и теорию и практику отечественной науки о скоростной сварке.
Наши научные сотрудники обрели большой опыт, овладели новыми методами работы. Они научились стремиться к тому, чтобы каждое исследование имело конкретную цель и в то же время двигало вперед, развивало теорию.
В начале 1944 года старшим научным сотрудникам А. Е. Аснису, П. И. Севбо, А. А. Казимирову, Г. В. Раевскому, Ф. Е. Сороковскому и Т. М. Слуцкой в Свердловском индустриальном институте была присвоена ученая степень кандидата технических наук. Каждый из них смог сообщить Ученому совету института о таких своих исследованиях и таком эффективном их применении в производстве, что право товарищей на ученую степень не вызвало сомнений.
Я рассказал уже, в каких условиях провели свое важнейшее экспериментальное исследование Б. Патон и А. Макара. Впоследствии эта работа дала им право на получение кандидатской степени, послужила основой для их диссертаций.
Я стараюсь изложить все эти итоги возможно кратко, в виде общих выводов. Тогда, в Кремлевской больнице, они вставали передо мной не как воспоминания, а как живая действительность, неразрывно связанная с нашим завтрашним днем, с переходом в самом скором будущем к мирному труду. В нашем вчерашнем опыте я искал, отбирал то, что нам может понадобиться в дальнейшем, проверял, как мои установки и взгляды выдержали испытание жизнью. Я хотел вернуться в Киев с твердым и точным знанием того, как строить работу института, куда направить энергию своих сотрудников.
Годы войны научили меня тому, что содружество практики и науки непобедимо. И я думал сейчас о том, как сделать этот союз еще более плодотворным в деле возрождения нашей освобожденной Украины.
20. СНОВА МИРНЫЙ ТРУД
В начале июля 1944 года я вернулся в Киев.
На вокзале много близких, дорогих лиц, встречает целая делегация от института. Тут же на перроне, после взаимных расспросов о здоровье, сразу же начинается беспорядочный разговор о наших делах, никто не может хоть на время воздержаться от этой вечной темы.
На два часа заезжаю домой, — и сразу в институт.
По пути успеваю из машины разглядеть обгоревшие коробки домов, страшные руины Крещатика, бесформенные каменные глыбы, покореженные, спутанные в клубки железные балки. То тут, то там вместо высокого красивого здания — одиноко торчащие обломки стен.
Киев изранен, изуродован, и все же город живет полной жизнью, всюду чувствуется бурный, стремительный темп. Гудки, густые и басовитые над заводами, протяжные и сиплые над железной дорогой, сливаются в воздухе, напоенном ароматом столичных садов и бульваров.
Шофер рассказывает, что на второй день после освобождения Киева над его улицами раздался долгий гудок «Ленинской кузницы». Рабочие, первыми вернувшиеся в цехи, давали знать, что они на трудовом посту, и звали своих земляков на борьбу за возрождение родного города и всей Украины.
Товарищи в институте рассказывают мне о своем возвращении домой с Урала. Состав все время обгоняли воинские эшелоны с оружием для фронта, беспрерывным потоком двигавшиеся на запад. На сотнях платформ — танки, наши танки! А на сотнях других — самолеты, орудия, минометы…
В Дарнице, возле самого Киева, институтский состав остановился рядом с воинским. Наши сотрудники перебрались через пути к бойцам. Это были танкисты, и на их боевых машинах товарищи увидели свои швы, швы, сваренные автоматами.
Встреча с советскими воинами была радостной и по-настоящему волнующей. Танкисты горячо благодарили своих друзей — молодых ученых. И те и другие рассказывали об охватившем их нетерпении. Одни рвались на фронт, не могли дождаться, когда догонят наступающие части, вторые рвались в другой бой — на трудовом фронте.
Из окон поезда сотрудники института видели в пути взорванные вокзалы и водокачки, сожженные дотла села, пустующие поля. А здесь, в Дарнице, где поезд стоял долго, вспоминали сотрудники, перед ними открылась картина еще более страшных разрушений. Заводы, крупные железнодорожные сооружения, сотни домов, общественные и культурные здания — все было варварски снесено, сметено отступавшими захватчиками.
С тяжелым чувством смотрели люди на это печальное зрелище. Все, что они себе ранее представляли, меркло перед увиденным.
Возвращаясь к вагонам, все думали и говорили об одном:
— Как работать, чтобы побольше сделать? Как лучше помочь народу скорее залечить эти тяжелые раны?
И вдруг все увидели на одном из отстраивающихся зданий яркую синеватую звездочку: электросварщик соединял плавящимся прутком концы двух железных балок. Где восстановление — там сварка.
Я слушал эти рассказы и думал: мои молодые друзья готовы к трудной, самой трудной работе, не помышляют после Урала об отдыхе или передышке. Это залог того, что мы справимся со своими новыми задачами…
С чего же начинать, за что браться раньше?
Нужно было приводить в порядок новое помещение, создавать лаборатории и мастерскую, набирать рабочих, устраивать бытовые дела сотрудников и в то же время начинать большие исследования, выпускать сварочное оборудование, связываться с заводами, проектировать для них установки, оказывать им техническую помощь и консультацию.
И все это сразу, одновременно, в сложнейших условиях конца 1944 года и начала 1945 года, когда несколько ящиков оконного стекла превращалось в проблему, а найти двух-трех хороших токарей считалось труднейшей задачей. Большие и малые заботы обступали нас со всех сторон, каждая требовала к себе внимания и претендовала на первоочередность. За всякими повседневными неотложными будничными делами легко было упустить главное, увлечься «работой на себя» и отстать от стремительного движения жизни. Этого мы старались избежать.
Сотрудники и их семьи еще не имели постоянных квартир, жили в общежитиях, у знакомых, у родственников, а наши разведчики уже разъехались, по заводам во все концы Украины. В Днепропетровске,
Харькове, Сталино, Макеевке, Мариуполе, Краматорске и других промышленных центрах, на десятках строительных площадок Украины появились наши «полпреды». Они выясняли, какая помощь в первую очередь нужна от института, проверяли правильность наших наметок и планов, подготовляли заключение договоров на внедрение скоростной сварки.
Как и на Урале, мы не ждали, пока к нам придут «на поклон», а сами искали объекты для приложения своих рук.
Из Ворошиловграда возвращался инструктор и докладывал:
— Есть для нас работа на ремонте и изготовлении новых котлов.
Из Макеевки:
— Тут главное направление — сварка конструкций.
Из Мариуполя:
— Здесь разворачивают производство цистерн. Пока цехи еще полностью не восстановлены, работа идет под открытым небом, но товарищи очень надеются на нас.
Наши инструкторы побывали на всех двенадцати заводах, намеченных правительством. Уже к сентябрю 1944 года мы снабдили эти заводы рабочими чертежами сварочных установок, а в мастерской института полным ходом шла сборка сварочных головок, пультов управления, флюсовой аппаратуры. Заводы знали, что как только они закончат изготовление станков, к ним снова приедут наши представители и пробудут столько, сколько нужно, чтобы автоматы начали безотказно работать.
Прибыв на завод, наш товарищ рекомендовался:
— Представитель Института электросварки Академии наук УССР…
При этих словах директорам и главным инженерам заводов представлялся, наверное, почтенный академический институт с анфиладой лабораторий и кабинетов, с коврами и картинами, с налаженной и благоустроенной жизнью.
А институт в это время жил и работал совсем в других условиях.
С наступлением холодов, мы в своем старом помещении сидели в пальто, валенках и шапках. Конструкторы, которые почти весь день проводили за своими досками, замерзали, и руки не в состоянии были удержать карандаш. Время от времени то один, то другой бежал в лабораторию отогреть возле сварочной дуги окоченевшие пальцы. В городе не хватало электроэнергии, и большую часть опытов и экспериментов технологам приходилось переносить на ночь, когда нам увеличивали подачу энергии.
Мы ютились пока в неудобном, тесном помещении, которое уже не годилось для наших обширных планов на будущее. Правительство отвело для института прекрасный просторный дом. Но он после войны нуждался в довольно большом ремонте, и хотя для его ускорения делалось все возможное, а нарком, ведавший строительством, часто приезжал к нам и лично следил за ходом работ, дело все же двигалось медленно — не хватало рабочих и материалов.
Задержка с переходом в новое помещение могла стать большим тормозом в работе. Надо было что-то предпринять.
Зимой 1944/45 года я вызвал к себе несколько научных сотрудников.
«Вряд ли им придется по вкусу мое распоряжение, — думал я, — но другого выхода нет».
— Положение с ремонтом вам известно, товарищи, — обратился я к ним. — Сидеть и ждать, пока нам преподнесут все в готовом виде, мы больше не можем. Придется нам на время самим стать строителями. Трое из вас (я назвал фамилии) назначаются бригадирами. Один по лабораториям, второй по оборудованию, третий по мебели. Другим придется заняться стеклением окон, добыванием посуды для лабораторий, окраской стен и прочим. Ясно вам, товарищи, задание? Прошу приступать к делу.
На лицах сотрудников было написано изумление, а у некоторых даже обида и негодование.
— Ведь у нас и так дела по горло! Да и должны ли всем этим заниматься научные работники? — спросил кто-то.
— Все это верно, но вы должны понять, во имя чего приходится идти на такую крайнюю меру, — ответил я. — Без создания новой солидной базы нам нельзя и думать о развороте работы в большом масштабе. Дорог каждый день.
Большинство людей согласилось со мной, остальных пришлось «прижать», прямо дать им понять, что барства и чистоплюйства в нашем институте мы не потерпим. Помню, как в первое время товарищи приходили смотреть на одного старшего научного сотрудника, отлично справлявшегося с трудным ремеслом стекольщика, а затем и на других работников, быстро овладевших «второй профессией». Таких доморощенных строителей становилось все больше.
Весной я распорядился въехать в еще не совсем законченное помещение. Сделал я это с умыслом: осваивая новое здание, мы вынуждены будем скорее ликвидировать все мелкие недоделки. В лабораториях мы начали работу, не дождавшись завершения настилки и циклевки паркетных полов.
В своих лабораториях мы устанавливали оборудование, которое понадобится для серьезных научных исследований не только сегодня, но и завтра и послезавтра.
Мы стремились насколько возможно опередить жизнь, быть готовыми встретить ее завтрашние требования. И в то же время мы старались удовлетворить ее сегодняшние запросы, быстро отзываться на них. В этом смысле характерна история рождения одного из первых послевоенных типов сварочного трактора.
На трассе газопровода Саратов — Москва воздвигались газгольдеры. На стройке имелись сварочные тракторы заграничных фирм «Къльберг» и «Линде». Они отличались громоздкостью и непомерно большим весом, для их передвижения надо было укладывать специальный рельсовый путь. Кроме того, тракторы эти не годились для сварки внутренних и наружных кольцевых швов газгольдеров.
Строители газопровода нуждались в легком и портативном тракторе, способном варить круговые швы внутри горизонтального газгольдера. В конце 1944 года они обратились к нам с просьбой в кратчайший срок создать такой аппарат. Эта работа была поручена моему сыну Владимиру. Чтобы приблизиться к цели, ему пришлось составить ряд вариантов. Первая модель получилась неудачной, трактор был слишком сложным и неуравновешенным и даже опрокидывался во время сварки.
26 апреля 1945 года Владимир засел за проектирование новой модели. Представитель газопровода ежедневно наведывался к нам и твердил одно и то же:
— Не уеду, пока не увижу своими глазами трактор в натуре.
Владимир увлекся идеей создать аппарат, который варил бы как прямые стыковые швы на газгольдере, так и круговые швы внутри его. Ему с двумя товарищами предстояло в несколько дней выполнить двадцать листов рабочего проекта. В праздничные майские дни они работали запоем, но зато 3 мая мы уже рассмотрели и утвердили все чертежи. Это были незабываемые дни всенародного торжества, дни, когда вся страна ликовала и радовалась окончанию войны и победе над ненавистным фашизмом.
Во время митинга в День Победы я задал Владимиру один вопрос:
— Когда будет готов весь проект?
Он ответил:
— 12 мая.
Это был срок, установленный нами в начале работы.
Точно в назначенное время — в середине июня — мы испытывали первый образец трактора «ТС-6». Он был маленьким, легким, устойчивым и надежно направлял копирующими бегунками электрод вдоль шва.
Меньше чем через месяц институт отправил первые партии этих сварочных тракторов на строительство газопровода Саратов — Москва.
Там были очень довольны нашим подарком. До сих пор вести сварку внутри газгольдера считалось самым мучительным делом, для этого приходилось устанавливать головку на длинной неудобной консоли, создавать в полевых условиях сложные приспособления. Теперь маленький портативный аппарат через люк забирался внутрь газгольдера и двигался вместе с этим огромным стальным сосудом с одинаковой скоростью, но только в разных направлениях. Фактически трактор стоял на месте. Это всегда считалось невозможным, и один почтенный ученый сварщик безуспешно пытался доказать фантастичность подобного принципа даже в то время, когда наши тракторы благополучно варили секции газгольдеров на трассе газопровода.
Шли месяцы, годы, у трактора «ТС-6» появлялись собратья: «ТС-11», «ТС-12», «ТС-13» и т. д. Каждый из них имел свои достоинства. И лишь на их основе со временем родился универсальный трактор «ТС-17», отличный и простой аппарат, который принес В. Патону звание лауреата Сталинской премии.
История возникновения сварочного трактора по заказу строителей газопровода — только один из многих эпизодов, показывающих, как работа в промышленности после возвращения в Киев толкала вперед нашу мысль и открывала новые пути для конструкторов и технологов.
В прошлом нам не раз приходилось слышать, что Институт электросварки — институт Академии наук, а занимается слишком узким, слишком специальным вопросом. Мы й раньше отметали такие неправильные рассуждения. Теперь, имея за плечами опыт и школу военного времени, когда институт еще больше специализировал свою тематику, я считал, что и в дальнейшем мы должны в основном заниматься автоматизацией и механизацией сварочных процессов. Это станет нашей стержневой проблемой. Работа, выполненная на Урале, воочию показала нашу правоту.
Не разбрасываться, глубоко изучать и расширять возможности скоростной автоматической сварки под флюсом, находить все новые области и способы ее применения — так формулировали мы свою цель.
Не все в институте были со мной согласны, находились люди, считавшие, что на Урале мы просто вынуждены были сузить свою тематику, а сейчас должны вновь «развернуться». Под этим фактически понимали ненужное и даже вредное распыление сил и тематики. Такие товарищи думали, что зовут нас вперед, а на самом деле они тянули назад, к повторению некоторых довоенных ошибок.
И мы не дали увести себя с твердо избранного пути. Просматривая сегодня наши тогдашние планы, я с радостью отмечаю: они оказались настолько жизненными, что в дальнейшем на годы определили все основное содержание работы института. Жизнь, конечно, корректировала, меняла, обогащала эти планы, но главное их направление оставалось неизменным.
Слишком долго пришлось бы рассказывать о том, как выполнялась обширная программа, намеченная еще в 1944 году. Для этого нужны многие десятки страниц. Приведу только один убедительный пример. За 1944–1952 годы сотрудникам института П. И. Севбо, Г. 3. Волошкевичу, В. Е. Патону, Б. И. Медовару, Р. И. Лашкевичу, Б. Е. Патону, Д. А. Дудко, И. Н. Рублевскому, П. Г. Гребельнику, В. В. Подгаецкому, Е. И. Лейначуку, совместно с представителями коллективов нескольких заводов, были присуждены Сталинские премиии[4]. Этой высокой наградой правительство отметило шесть наших работ: труды по сварке бронекорпусов танков, цистерн, по созданию новых способов заводской и монтажной сварки труб, разработке нового способа полуавтоматической шланговой сварки, разработке и освоению выпуска новых марок сварочных флюсов.
Все эти темы были выполнены уже по первому перспективному тематическому плану института.
9 мая 1945 года, в День Победы, все мы оглянулись на путь, пройденный в годы войны, и с радостным волнением всматривались в дорогу, лежащую перед нами. На площадях и улицах сотен городов, в странах, освобожденных Красной Армией, стояли советские танки со сварными швами на широкой могучей груди и бортах. Во множестве жестоких битв эти швы с честью выдержали испытание. Для нас это было высшей наградой за труд в дни великой битвы.
Благодарные народы стран Восточной Европы в своих столицах и других городах воздвигли памятники армии-освободительнице. На пьедесталах многих памятников красовались краснозвездные боевые машины — ветераны победоносных сражений. Я смотрел на фотографии этих суровых и величественных монументов, и сердце мое билось учащенно: ведь это они, наши уральские танки, и на каждом из них швы, созданные нашими руками, нашим трудом во имя Родины.
«Скоро солдаты вернутся домой, к своим станкам, машинам, тракторам, комбайнам, — думал я. — Нас, сварщиков, Родина отозвала на мирный фронт на год раньше. Мы не потеряли впустую этот год. Разбег взят, основы заложены, на
десятках заводов и строек электрическая дуга уже плавит под флюсом металл, соединяет стальные балки и трубы, части цистерн, вагонов. Впереди невиданный размах стройки, силы народа освобождены для мирного созидательного труда, для творчества, для дерзаний во всех областях жизни». На войне я увидел, на что способен наш советский народ, какие неисчислимые силы таятся в нем. И я не сомневался, что таким же богатырем он покажет себя, сменив автомат и винтовку солдата на резец токаря, врубмашину шахтера, руль тракториста. Мы должны оказаться достойными такого народа! Для этого есть один путь — трудиться. Многое в работе института зависит от меня лично. Мне семьдесят пять лет, но это ничего не значит. Я готов к дальнейшему труду и чувствую в себе достаточно сил для этого. Я еще могу соревноваться с моими молодыми сотрудниками. В творческих вопросах молодость определяется не годом рождения, проставленным в паспорте, а умением и желанием работать, умением всего себя отдавать любимому делу.
Так думал я тогда, в мае 1945 года, так думал и так стремился поступать в последующие годы…
Свои воспоминания я довел до 1945 года.
Восемь лет, которые прошли со Дня Победы, были для меня и для руководимого мной института, для его работников, очень насыщенными и напряженными годами. Мы много искали, многого достигли, переживали, конечно, и неудачи и ошибки, стремились их исправить и исправляли в меру своих сил.
Для того чтобы рассказать о пережитом и сделанном за послевоенные годы, понадобилась бы книга, может быть, не меньшая по объему, чем эта. Очень хотелось бы написать такую книгу, рассказать в ней о том, как мы научились сваривать автоматами под флюсом домны, мосты, газопроводы, статоры турбогенераторов, огромные резервуары, корабли, высотные здания, сельскохозяйственные машины, как разительно расширила сварка свои владения, как развилась и обогатилась сварочная наука, какой неразрывной стала наша дружба с сотнями заводов и строек.
Сейчас, когда пишутся эти строки, мне 83 года, сил, конечно, стало меньше, я серьезно болен, и здоровье не позволяет работать так, как раньше и как мне хотелось бы. Я нахожу удовлетворение в том, что научил работать других, подготовил целое поколение молодых ученых-сварщиков. Это настоящая хорошая смена, и они успешно двигают вперед наше общее дело. Среди них и мои сыновья.
С надеждой смотрю я на нашу талантливую молодежь. У большинства товарищей еще сравнительно невелик стаж научной деятельности, но они научились работать коллективно, спаянно, дружно, не зазнаваться и критически оценивать свои успехи, держать тесную связь с жизнью, с производством. Это позволяет мне надеяться, что созданный нами почти двадцать лет тому назад Институт электросварки будет и дальше справляться со своими большими задачами.
Киев, 1953
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Труды Е. О. Патона
«Расчет сквозных ферм с жесткими узлами». Журнал Министерства путей сообщения, кн. 1, 1901.
«Железные мосты», т. I. Фермы балочных мостов». М., изд-во Московского инженерного училища ведомства путей сообщения, 1903.
«Железные мосты», т. II. Киев, изд-во КПИ, 1913.
«К вопросу о разборных железнодорожных мостах». Киев, изд-во КПИ, 1916.
«Деревянные железнодорожные мосты». Киев, изд-во КПИ, 1917.
«Восстановление разрушенных мостов». Киев, изд-во студенческого кооператива при КПИ, 1919.
«Металл и нагрузки железнодорожных мостов за 100 лет». Журнал «Строительная промышленность» № 2, 1926.
«Стыки электросварных двутавровых балок». М., Транспечать НКПС, 1930.
«Сравнение клепаных и сварных сквозных ферм». Киев, изд-во ВУАН, 1931.
«Мостові опорні частини зварного типу». Киев, изд-во ВУАН, 1932.
«Праці в галузі електрозварних конструкцій». Киев, изд-во ВУАН, 1934.
«Стальные мосты», т. І (совместно с Б. Н. Горбуновым]:. X.—К., Гос. науч. техн. изд. Украины, 1935.
«Сопротивление сварных соединений при вибрационной нагрузке» (совместно с Б. Н. Горбуновым и Д. И. Берштейном), 1936.
«Вплив засідальних напруг на міцність зварних конструкцій» (совместно с Б. Н. Горбуновым и Д. И. Берштейном). Киев, изд-во АН УССР, 1937.
«Сварка в химаппаратуростроении». Сб. «Сварочное дело в СССР». М., Машгиз, 1937.
«Скоростная автоматическая сварка под слоем флюса», 2-е изд. М.—Л., Машгиз, 1941.
«Автоматическая сварка в судостроении». М., Оборонгиз, 1944.
«Автоматическая электродуговая сварка». Энциклопедический справочник «Машиностроение», т. I, раздел III. Машгиз, 1947.
«Автоматическая сварка под флюсом» (под ред. Е. О. Патона). К-М., Машгиз, 1948.
«Применение автоматической сварки при строительстве большого городского цельносварного моста» (совместно с Д. П, Лебедь и др.). Киев, изд-во АН УССР, 1953.
Литература о Е. О. Патоне
Лаврентьев М. О., Герой Соціалістичної Праці Бвген Оскарович Патон. «Вісті АН УРСР», 1945, № 4–5.
Максарев Ю. Е., Неоценимая помощь. (Сборник, посвященный 75-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности Е. О. Патона.) Киев, изд-во АН УССР, 1946.
Островская С. А., Герой Соціалістичної Праці, дійсний член АН УССР Е. О. Патон. Киев, изд-во АН УССР, 1945.
Сборник, посвященный 80-летию со дня рождения и 55-летию научной деятельности Героя Социалистического Труда, действительного члена АН УССР Е. О. Патона (отв. ред. Н. Н. Доброхотов). Изд-во АН УССР, 1951.
Белянкин Ф. П., Корноухов Н. В. и др., Евгений Оскарович Патон. Журнал «Вестник высшей школы» 9, 1953.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. О. ПАТОНА
1870 — 5 марта — Евгений Оскарович Патон родился во Франции, в городе Ницце, в семье русского консула, бывшего гвардейского полковника Оскара Петровича Патона.
1888 — осень — Патон одним из первых учеников заканчивает гимназию в Бреславле (Германия), куда переведен его отец. Тогда же поступает на инженерно-строительный факультет Дрезденского политехнического института.
1889 — в летние каникулы уезжает в Россию и сдает экзамены на русский аттестат зрелости.
1891 — в течение года отбывает в России воинскую повинность, как вольноопределяющийся, полгода работает техником по металлоконструкциям в мастерской Николаевской железной дороги.
1893 — Патон возвращается в Дрезден для завершения учебы, в институте.
1894 — Патон получает диплом инженера-строителя. Его оставляют ассистентом при кафедре статики сооружений и мостов Дрезденского политехнического института. Одновременно работает конструктором в проектном бюро по постройке Дрезденского вокзала.
1895 — январь — переходит на крупный мостостроительный завод в Стекраде, разрабатывает рабочий проект шоссейного моста. Август. Патон навсегда возвращается в Россию.
1896 — выполнив пять дипломных проектов и сдав экзамены за пятый курс, Патон блестяще заканчивает второй институт в Петербурге и получает диплом русского инженера.
Осень — поступает на службу в управление Николаевской железной дороги. Первый самостоятельный проект в России — проект оригинального путепровода для станции Москва. Шоссейные и городские мосты, построенные по проектам Патона в разных городах России. Первые стычки с рутинерами, цепляющимися за шаблонные методы проектировки мостов устаревших систем.
1897 — весна — по приглашению известного мостостроителя — новатора и педагога Проскурякова Патон переезжает в Москву на работу во вновь созданное инженерное училище путей сообщения на должность инспектора.
1898 — Патон начинает свою педагогическую деятельность, длившуюся затем сорок лет. Первые научные статьи в печати. Начало работы над диссертацией, направленной против отсталого, отжившего в проектировании мостов.
1900 — защита диссертации проходит с большим успехом. Патону присуждена ученая степень, дающая право на звание профессора.
1901–1904 — Патон приступает к огромному труду над созданием новых учебников для подготовки русских мостостроителей. В год публикует не менее 20 печатных листов. Выходят в свет первый и второй томы капитального курса «Железные мосты» (впоследствии переиздавался вплоть до 1935 года четыре раза) и ряд других крупных работ. В 1904 году переезжает в Киев и занимает кафедру мостов в Политехническом институте.
1904–1912 — в качестве декана инженерного факультета создает кабинет мостов, инженерный музей, техническую библиотеку, но его попытки перестроить всю систему преподавания встречают сопротивление. Вынужден оставить пост декана. В свет выходят все новые учебники и научные труды Патона, среди них третий и четвертый томы «Железных мостов» и широко известный курс «Деревянные мосты». Строительство мостов — городского в Тифлисе, трех шоссейных на реках Украины и киевского пешеходного моста у Петровской аллеи по проектам Патона.
1913 — материальное благополучие, слава, официальное признание заслуг и внутренний разлад, неудовлетворенность своей жизнью. Патон в 43 года принимает неожиданное для всех решение о выходе в отставку.
Весна — тяжелая болезнь.
1914 — первая мировая война застает Патона во Франции.
1915 — в январе Патону удается кружным путем выехать на родину. В феврале возвращается к работе в Киевском политехническом институте.
1916–1918 — с активным участием студентов-дипломантов Патон создает проекты первых отечественных разборных стальных мостов различных типов для нужд армии.
1920–1922 — после изгнания белополяков из Киева Патон отдает все силы восстановлению разрушенных мостов и занятиям со студентами. В большевиках он видит теперь единственную силу, способную возродить хозяйство страны. Патон — главный консультант в советских организациях, ведающих строительством железнодорожных и шоссейных мостов Украины, и автор (совместно со своими студентами) большинства важных проектов.
1922–1925 — Патон выдвигает и отстаивает оригинальный проект восстановления киевского Цепного моста имени Евгении Бош через Днепр. В июне 1925 года в торжественной обстановке происходит открытие нового киевского моста.
1925–1928 — годы напряженного труда над возрождением железнодорожного транспорта на Украине и за ее пределами, подготовкой советских мостостроительных кадров, созданием новых монографий и учебников.
1928 — первое знакомство с электросваркой. Огромное впечатление производит на Патона план первой пятилетки. Патон принимает решение оставить мосты — дело всей своей жизни — и стать сварщиком, овладеть новой перспективной отраслью науки и техники, столь важной для пятилеток.
1929 — избрание Патона в Академию наук УССР. Создание им сварочного комитета академии.
1930–1931 —комитет оказывает большую помощь во внедрении электросварки 40 предприятиям республики. В печати, в своих научных трудах, в выступлениях на технических конференциях. Патон ведет борьбу за вытеснение клепки сваркой, выступает инициатором применения для сварки переменного тока.
1932 — Патон горячо отзывается на «социалистический заказ» шахтеров и металлургов Донбасса и включает в план своей работы их «счет». Победа первой пятилетки оказывает решающее влияние на политическое сознание ученого.
1933 — Патон выдвигает перед Академией наук и правительством предложение о создании в Киеве первого в мире научно-исследовательского Института электросварки.
1934 — на базе сварочного комитета и лаборатории основан Институт электросварки Академии наук УССР. Патон становится его первым и бессменным директором.
1935–1938 — Патон создает кафедру сварочного производства в Киевском политехническом институте. Начало соревнования сварщиков-стахановцев и ученых.
1939 — на Уралвагонзаводе ручные сварщики обгоняют автоматы института. Патон выдвигает идею создания скоростной сварки под флюсом, призванную совершить революцию в этой области техники.
1940 — творческая бригада во главе с Патоном успешно разрабатывает метод и технологию этого нового высокопродуктивного вида сварки и создает первую установку для скоростной сварки закрытой дугой.
1941 — март — Патону присуждена первая Сталинская премия «За разработку метода и аппаратуры скоростной автоматической сварки». 21 июня Патон выезжает в командировку на Урал. Война застает его в пути.
Июль — Патон добивается решения об эвакуации института в один из промышленных городов Урала, где можно будет с максимальной пользой работать для обороны страны. С октября Патон и его сотрудники учатся сваривать специальную броневую сталь и внедряют разработанную технологию в производство. (Эта работа длится до 1944 года.)
1942 — зима — завод начинает выпускать первые танки со швами, сваренными автоматами. Патон направляет в цехи для освоения установок и обучения людей лучших работников института.
Май — июнь — на заводе начинает действовать первый в мире конвейер по сборке танков, оборудованных сварочными автоматами. Создание нового шлакового флюса, решившего проблему массового применения автосварки в оборонной промышленности. Патон награжден боевым орденом Красной Звезды. Испытание танков на полигоне, — швы, сваренные автоматами, доказали свои преимущества. В сентябре на заводе действует уже 11 автоматов.
Ноябрь — под руководством Патона создана новая упрощенная, сварочная головка, открывшая дорогу автосварке на десятки танковых, артиллерийских и авиационных заводах.
1943 — январь — в институте по инициативе Патона созвана Всесоюзная научно-техническая конференция по вопросам применения автосварки в военных условиях. За образцовое выполнение заданий правительства по увеличению выпуска танков и бронекорпусов Патон награжден орденом Ленина.
Март — Патону присвоено звание Героя Социалистического Труда «За выдающиеся достижения, ускоряющие производство танков и металлоконструкций».
1944 — январь — решением Политбюро ЦК ВКП(б) Патон принят в члены партии. Патон готовит институт к возвращению в Киев для работы по восстановлению разрушенной промышленности Украины.
Март — тяжелая болезнь Патона. Прикованный к постели, он руководит разработкой плана работы на Украине.
Апрель — июнь — лечение в Москве, в Кремлевской больнице.
Июль — Патон возвращается в Киев. Переход института к «мирной тематике». На 12 крупнейших металлургических и машиностроительных заводах внедряется автоматическая сварка.
Октябрь — в связи с 25-летием Академии наук УССР Патон награжден орденом Отечественной войны первой степени.
1945 — февраль — Патон избирается вице-президентом Академии наук УССР и остается на этом посту до 1952 года, до болезни. Институту электросварки АН УССР присвоено имя Е. О. Патона.
1945–1950 — Патон руководит созданием и внедрением новых прогрессивных способов сварки: шланговой полуавтоматической, скоростной — двумя дугами, вертикальной с принудительным формированием шва, созданием технологии сварки специальных углеродистых, легированных и нержавеющих сталей и нового способа строительства сварных нефтерезервуаров.
1946 — февраль — Патон избран депутатом Верховного Совета СССР по Харьковскому — Дзержинскому избирательному округу. (Вторично избран там же в 1952 году.)
1947 — Патон выступает инициатором широкого применения автосварки в судостроении, котлостроении, машиностроении, производстве труб и сооружений нефтяных и газовых трубопроводов, производстве железнодорожных вагонов и металлоконструкций.
1948 — январь — в связи с 30-летием советской власти на Украине награжден орденом Трудового Красного Знамени. Опубликован капитальный труд Патона (в соавторстве с учениками) «Автоматическая сварка под флюсом».
1949 — основывает журнал «Автоматическая сварка» и является его ответственным редактором до последних дней жизни. Патон избирается делегатом XVI съезда Коммунистической партии КП Украины, а через три года делегатом XVII съезда.
1946–1953 — Патон комплексно разрабатывает проблемы сварного машиностроения, возглавляет работы по проектированию и изготовлению первых цельносварных мостов, в которых широко применена автоматическая сварка. В 1946 году по совету Н. С. Хрущева подает Союзному правительству докладную записку о преимуществах сварного мостостроения. В том же году Совет Министров СССР принимает развернутое постановление с широкой программой применения сварки в строительстве мостов. Патон возглавляет исследовательские, проектные, заводские и монтажные работы, связанные с постройкой крупнейшего в мире цельносварного шоссейного моста через Днепр в Киеве. 5 ноября 1953 года состоялось торжественное его открытие. Постановлением правительства после смерти Патона мосту присвоено его имя.
1953 — 12 августа — на 84-м году жизни скончался Е. О. Патон. Тысячи трудящихся столицы Украины, члены правительства республики, члены Президиума Центрального Комитета КПУ провожали в последний путь выдающегося советского ученого-патриота.
* * *
В 1955 году Институт электросварки АН УССР имени Е. О. Патона награжден орденом Трудового Красного знамени в связи с 20-летием со дня организации и за выдающиеся заслуги в деле развития электросварки. В этом же году в Киеве впервые вышли из печати «Воспоминания» Патона.
Примечания
1
Линии, показывающие изменение усилий в том или другом элементе ферм при прохождении от начала фермы до ее конца груза, равного единице.
(обратно)
2
Мосты с фермами по типу енисейского завоевали признание, и по проектам Л. Д. Проскурякова в дальнейшие годы были построены крупные железнодорожные мосты через Оку у Каширы и Мурома, через Волгу у Ярославля, Симбирска и Казани, через Неман и Западный Буг, через Зею (на Амурской железной дороге), через Березовскую бухту на Кругобайкальской железной дороге, через Москву у Коломны, через Сейм у Конотопа и т. д. Последним значительным созданием моего учителя (он умер в 1926 году) был арочный мост через Волчье гирло Днепра в Кичкасе у нынешней плотины Днепрогэса.
(обратно)
3
5 ноября 1953 года состоялось торжественное открытие нового моста через Днепр в Киеве. Мосту решением правительства было присвоено имя тогда уже покойного Евгения Оскаровича Патона. (Ред.)
(обратно)
4
Б. Е. Патону (ныне директору Института электросварки, члену-корреспонденту Академии наук УССР) и Г. 3. Волошкевичу присуждены Ленинские премии за 1956 год (Ред.).
(обратно)
Оглавление
МЕСТО В ЖИЗНИ
1 ВЫБОР ПУТИ
2. С МЫСЛЬЮ О РОДИНЕ
3. РУССКИЙ ДИПЛОМ
4. ПЕРВЫЕ УРОКИ ЖИЗНИ
5. НА КАФЕДРЕ
6. ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
УЧЕБНИКИ ПО МОСТАМ
7. В КИЕВЕ
ВЫХОД НА ПРОСТОР
1. ГРОЗОВЫЕ ДНИ
2. ГИБЕЛЬ ЦЕПНОГО МОСТА
3. САМОЕ НЕОТЛОЖНОЕ
4. КАКИМ БЫТЬ НОВОМУ МОСТУ В КИЕВЕ?
5. ЭТО СДЕЛАЛ НАРОД
6. ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
НОВАЯ ПРОФЕССИЯ
1. КРУТОЙ ПОВОРОТ
2. Я СТАНОВЛЮСЬ СВАРЩИКОМ
3. НОВЫЕ МАСШТАБЫ
4. ПЕРВЫЕ ИСКАНИЯ
5. ИНСТИТУТ СОРЕВНУЕТСЯ СО СТАХАНОВЦАМИ
6. НА ВЕРНОМ ПУТИ
7. ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСКАНИЙ
8. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
9. ПАРТИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ И УЧИТ
10. ПРОВЕРКА ЖИЗНЬЮ
11. МОСКОВСКИЙ ДНЕВНИК
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
1. КОМАНДИРОВКА НА УРАЛ
2. ГДЕ НАШЕ МЕСТО?
3. НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ
4. ЗДЕСЬ ТОЖЕ ФРОНТ
5. МЫ УЧИМСЯ ВАРИТЬ БРОНЮ
6. ИНСТИТУТ РАБОТАЕТ В ЦЕХАХ
7. НОВЫЕ ПОЗИЦИИ
8. ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ФЛЮСА
9. ПОСЛЕ ИСПЫТАНИИ НА ПОЛИГОНЕ
10. ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11. ПУТЬ К ПРОСТОТЕ
12. С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
13. НА ПЯТИДЕСЯТИ ДВУХ ЗАВОДАХ
14. ВЫСОКАЯ НАГРАДА
15. ПОЛЕТ В МОСКВУ
16. КИЕВ ОСВОБОЖДЕН!
17. ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ
18. ЗАВТРА — УКРАИНА!
19. НАШ ВКЛАД В ДЕЛО ПОБЕДЫ
20. СНОВА МИРНЫЙ ТРУД
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Е. О. ПАТОНА
автор пишет о встречах мимолетно, более о впечатлениях от них, во-вторых, он пишет о своей переписке с Лениным, а также об отношениях своего родного брата, управделами Совнаркома, с Лениным.
Главное здесь показана внутренняя борьба человека в его выборе между самим собой (его привычками, жизнью, воспитанием, его Эго) и Родиной. Тот выбор, который сейчас стоит перед каждым из нас.
Генерал дожил до 1956 года, никогда не вступал в партию, не подвергался репрессиям, хотя можно сказать, отдал себя стране.
Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич
Вся власть Советам!
Биографическая справка
Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, известный военный деятель и геодезист, генерал-лейтенант, доктор военных наук и доктор технических наук, скончался в августе 1956 года.
Несмотря на преклонный возраст, М. Д. Бонч-Бруевич до последних дней сохранял ясность ума и отчетливую память и не только не уходил на отдых, но продолжал вести большую научную работу в Московском институте геодезии, аэрофотосъемки и картографии, который когда-то окончил.
Родившись в 1870 году в семье топографа, М. Д. Бонч-Бруевич получил образование в бывшем Межевом институте, Московском университете и Академии Генерального штаба.
До революции он являлся одним из выдающихся и образованнейших генералов царской армии. Занимал ряд штабных должностей вплоть до должности начальника штаба армий Северного фронта. Преподавал в бывшей Николаевской военной академии и много лет сотрудничал с известным военным теоретиком генералом М. И. Драгомировым, участвуя в переработке составленного им «Учебника тактики».
После февральской революции М. Д. Бонч-Бруевич был избран членом Исполкома Псковского Совета рабочих и солдатских депутатов. Во время корниловского мятежа, будучи главнокомандующим войсками Северного фронта, способствовал срыву мятежа.
Во время Октябрьской революции М. Д. Бонч-Бруевич твердо стал на сторону Советской власти, был назначен начальником штаба верховного главнокомандующего и работал с первым советским главкомом Н. В. Крыленко.
В феврале 1918 года Владимир Ильич Ленин вызвал М. Д. Бонч-Бруевича из Ставки и поручил ему оборону Петрограда от немцев, вероломно нарушивших перемирие. Вскоре он был назначен военным руководителем Высшего Военного Совета. Летом 1919 года М. Д. Бонч-Бруевич по предложению В. И. Ленина возглавил полевой штаб Реввоенсовета Республики.
Вернувшись в 1920 году к своей геодезической специальности, М. Д. Бонч-Бруевич в течение ряда лет находился в распоряжении Реввоенсовета Республики, выполняя отдельные ответственные поручения.
М. Д. Бонч-Бруевич — автор ряда военных и геодезических трудов.
Моему молодому читателю
За год до первой мировой войны в России с огромной помпой было отпраздновано трехсотлетие дома Романовых. Через четыре года династия полетела в уготованную ей пропасть. Я был верным слугой этой династии, так как же случилось, что я изменил государю, которому присягал еще в юности?
Каким образом я, «старорежимный» генерал, занимавший высокие штабные должности в императорской армии, оказался еще накануне Октября сторонником не очень понятного мне тогда Ленина? Почему я не оправдал «доверия» Временного правительства и перешел к большевикам, едва вышедшим из послеиюльского полуподполья?
Если бы этот крутой перелом произошел только во мне, о нем не стоило бы писать, мало ли как ломаются психология и убеждения людей. Но в том-то и дело, что я был одним из многих.
Существует ошибочное представление, что подавляющее большинство прежних офицеров с оружием в руках боролось против Советов. Но история говорит о другом. В пресловутом, «ледяном» походе Лавра Корнилова участвовало вряд ли больше двух тысяч офицеров.
И Колчак, и Деникин, и другие «вожди» белого движения вынуждены были проводить принудительные мобилизации офицеров, иначе белые армии остались бы без командного состава. На службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии в разгар гражданской войны находились десятки тысяч прежних офицеров и военных чиновников.
Не только рядовое офицерство, но и лучшие генералы царской армии, едва немцы, вероломно прекратив брестские переговоры, повели наступление на Петроград, были привлечены к строительству вооруженных сил молодой Советской республики и за немногим исключением самоотверженно служили народу.
В числе русских генералов, сразу же оказавшихся в лагере Великой Октябрьской революции, был и я.
Я не без колебаний пошел на службу к Советам.
Мне шел сорок восьмой год, возраст, когда человек не склонен к быстрым решениям и нелегко меняет налаженный быт. Я находился на военной службе около тридцати лет, и все эти годы мне внушали, что я должен отдать Жизнь за «веру, царя и отечество». И мне совсем не так. Просто было прийти к мысли о ненужности и даже вредности царствующей династии — военная среда, в которой я вращался, не уставала твердить об «обожаемом монархе».
Я привык к удобной и привилегированной жизни. Я был «вашим превосходительством», передо мной становились во фронт, я мог обращаться с пренебрежительным «ты» почти к любому «верноподданному» огромной империи.
И вдруг все это полетело вверх тормашками. Не стало ни широких генеральских погон с зигзагами на золотом поле, ни дворянства, ни непоколебимых традиций лейб-гвардии Литовского полка, со службы в котором началась моя военная карьера.
Было боязно идти в революционную армию, где всё «подставлялось необычным, а зачастую и непонятным;
Служить в войсках, отказавшись от чинов, красных лампасов и привычной муштры; окружить себя вчерашними нижними чинами» и видеть в роли главнокомандующего недавнего ссыльного или каторжанина. Еще непонятнее казались коммунистические идеи — я ведь всю жизнь тешился мыслью, что живу вне политики.
И все-таки я оказался на службе у революции. Но даже теперь, на восемьдесят седьмом году жизни, когда лукавить и хитрить мне незачем, я не могу дать сразу ясного и точного ответа на вопрос, почему я это сделал.
Разочарование в династии пришло не сразу. Трусливое отречение Николая II от престола было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Ходынка, позорно проигранная русско-японская война, пятый год, дворцовая камарилья и распутинщина — все это, наконец, избавило меня от наивной веры в царя, которую вбивали с детства.
Режим Керенского с его безудержной говорильней показался мне каким-то ненастоящим. Пойти к белым я не мог; все во мне восставало против карьеризма и беспринципности таких моих однокашников, как генералы Краснов, Корнилов, Деникин и прочие.
Оставались только большевики…
Я не был от них так далек, как это могло казаться. Мой младший брат, Владимир Дмитриевич, примкнул к Ленину и ушел в революционное большевистское подполье еще в конце прошлого века. С братом, несмотря на разницу в мировоззрении и политических убеждениях, мы всегда дружили, и, конечно, он многое сделал, чтобы направить меня на новый и трудный путь.
Огромную роль в ломке моего миросозерцания сыграла первая мировая война с ее бестолочью, с бездарностью верховного командования, с коварством союзников и бесцеремонным хозяйничаньем вражеской разведки в наших высших штабах и даже во дворце самого Николая II.
Поэтому эту правдивую повесть о себе я и хочу начать с объявления нам войны Германией и ее союзниками.
М. Д. Бонч-Бруевич,
генерал-лейтенант в отставке
Москва. Июль 1956 г.
Часть первая.
Гибель династии
Глава первая
Объявление войны Германией и Австро-Венгрией. — Полк готовится в поход. — Запасные, призванные в армию. — Борьба с «провожающими». — Нападение на командира 7-й роты. — В семье генерала Рузского. — На позициях у Торговиц. — Я расстаюсь с полком.
Война застала меня в Чернигове, где я командовал 176-м Переволоченским{1} полком. Я был полковником генерального штаба, хорошо известным в военной среде; за три месяца, которые прошли со времени моего назначения в полк, я настолько освоился с новой моей должностью, что чувствовал себя превосходно и с увлечением всякого офицера, долго находившегося на штабной работе, занимался обучением и воспитанием солдат и подчиненных мне офицеров. Лето было в разгаре. Кое-как сколоченные столы на городском базаре ломились под тяжестью розовых яблок, золотых груш, огненных помидоров, синих баклажанов, лилового сладкого лука, «шматков» тающего во рту трехвершкового сала, истекавших жиром домашних колбас, словом, всего того, чем так богата цветущая Украина. Безоблачное, ослепительно голубое небо стояло над сонным городом, и казалось, ничто не может нарушить мерного течения тихой провинциальной жизни.
Как всегда бывает накануне большой войны, в близкую возможность ее никто не верил. Полковые дамы наперебой варили варенье и бочками солили превосходные огурцы; господа офицеры после неторопливых строевых занятий шли в собрание, где их ждали уже на накрахмаленных скатертях запотевшие графинчики с водкой; полк стоял в лагере, но ослепительно белые палатки, и разбитые солдатами цветники, и аккуратно посыпанные песочком дорожки только усиливали ощущение безмятежно мирной жизни, владевшее каждым из нас.
И вдруг 16 июля 1914{2} года в пять часов пополудни полковой адъютант принес мне секретный пакет, прибывший из Киева на имя начальника Черниговского гарнизона. Пакет этот должен был вскрыть командир бригады, но генерал был в отъезде, и я первый в городе ознакомился с секретным приказом о немедленном приведении всех частей гарнизона города Чернигова в предмобилизационное положение.
Я тут же отдал приказ о выводе полка из лагеря в зимние его казармы. Лагерь при мобилизации предназначался для размещения второочередного 316-го Хвалынского полка; в командование этим полком, по мобилизационному расписанию, автоматически вступал мой помощник.
На следующее утро все офицеры полка были собраны в штабе для изучения мобилизационных дневников, хранившихся в несгораемом шкафу. Закипела работа, полк стал походить на какой-то гигантский муравейник.
Через два дня пришла телеграмма о всеобщей мобилизации русской армии. Захватив с собой в положенный мне по штатам парный экипаж начальника хозяйственной части и казначея полка, я отправился в отделение государственного банка и вскрыл сейф, в котором хранились деньги, предназначенные на мобилизационные расходы.
В тот же день все офицеры полка получили подъемные, походные, суточные и жалованье — за месяц вперед и на покупку верховых лошадей теми, кому они были положены по штатам военного времени. Я, как командир полка, получил, кроме того, и на приобретение двух обозных лошадей и дорожного экипажа.
Приказ о мобилизации породил в полку множество взволнованных разговоров, но с кем придется воевать, никто еще не знал, и только 20 июля стало известно, что Германия объявила войну России. Несколько позже до Чернигова, наконец, дошло, Что Наряду с Германией войну России объявила и Австро-Венгрия, и нам было объявлено, что XXI армейский корпус, в состав которого входил 176-й Переволоченский полк, должен выступать в поход против австро-венгерской армии.
В полк тем временем начали прибывать запасные. По военно-конской повинности уже поступали и лошади. С конского завода, что находился близ города в Глебове, я получил отлично выезженную под верх золотистую кобылу. Полукровку эту мой кучер Гетманец впоследствии назвал «Равой», двух других коней — «Львовом» и «Золочовом», и, таким образом, небольшая конюшня эта, сохранявшаяся у меня даже в первые месяцы после Октябрьской революции, долго еще напоминала мне о давно минувших сражениях в Галиции.
К утру пятого дня своей мобилизации полк был готов к походу. Я приказал вывести его на ближайшее к казармам поле и построить в резервном порядке, то есть два батальона впереди и два во второй линии в затылок первым с пулеметной и другими командами и готовым для похода обозом на положенных местах.
В пять часов дня я подъехал к полку, встреченный бравурными звуками военной музыки. Медные до умопомрачительного блеска начищенные трубы полкового оркестра торжественно горели на солнце, приодетые, вымывшиеся накануне в бане солдаты застыли во взятом на меня равнении, блестели выравненные в ниточку штыки, несмотря на жару, на солдатах были надеты через плечо скатки, и, право, построившийся на поле четырехбатальонный, полностью укомплектованный по штатам военного времени пехотный полк не мне одному представлялся внушительным и восхитительным зрелищем.
Повернув первый и второй батальоны кругом, я обратился к солдатам с короткой речью, объяснив, что Россия никого не затрагивала, не начинала сама войны и лишь заступилась за родственный нам, как славянам, сербский народ, подвергшийся вооруженному нападению со стороны Австро-Венгрии. Обещав солдатам, что всегда буду с ними, и предлагая им чувствовать себя в полку, как в родной семье, я закончил обязательной фразой о подвиге, которого требует Россия и верховный вождь нашей русской армии государь-император Николай Второй, и днесь царствующий на русском престоле.
Вспоминая теперь, через сорок два года, эту свою речь, я испытываю странное ощущение. Мне уже нелегко понять свои тогдашние мысли и чувства, но, безусловно, еще труднее, даже просто невозможно было бы тогдашнему полковнику Бонч-Бруевичу понять теперешнего меня. Очень далеко, в тумане времени, я вижу и этого полковника, произносящего те фальшивые слова в псевдорусском стиле, которые тогда считались самыми подходящими для разговора по душам с народом, и солдат, бессмысленно таращащих на него глаза: это ведь тоже рассматривалось в те времена как показатель отличной боевой выучки.
Откровенно говоря, произнося тогда казенные фразы о несправедливо обиженных братушках, я не слишком верил сам, что австрийцы, действительно, первыми напали на сербов. Тщательно изучая историю войн, я давно убедился: не было еще ни одной войны, в которой вопрос об агрессоре не вызывал бы споров. Но я мог как угодно рассуждать об этом в своем кругу, мне и в голову не пришло бы поделиться этими сомнениями с «нижними чинами».
В призыве умереть за царя, хотя он и был выкрикнут во всю силу моего тогда еще мощного голоса, опытное ухо могло обнаружить еще более неуверенные нотки,- я, как и многие офицеры, считал себя монархистом, но не мог соединить положенное «обожание» с рассказами о проломанной в Японии голове Николая, тогда еще наследника, о Ходынке, о царском пьянстве и, наконец, о Распутине, влияние которого на царскую семью нельзя было ни оправдать, ни объяснить…
Заставив, однако, солдат трижды прокричать «ура» за здоровье и многолетие государя и его близких, я пропустил мимо себя полк поротно. Было еще светло, когда полк вернулся в казармы и расположился на отдых, столь необходимый перед назначенным на завтрашнее утро выступлением в поход.
Тем, как прошла мобилизация, я мог быть доволен.
Появление в казармах множества новых людей, запасных, заставляло опасаться вспышки какой-либо эпидемии. Было лето, стояла жара; каждую минуту могла начаться массовая дизентерия… Но нет, все обошлось благополучно, несколько случаев брюшного тифа не выходили из норм. Я успокоился: с санитарной точки зрения полк покамест не внушал мне опасений… Беспокоило другое — резкая разница, сразу обозначившаяся между запасными, служившими в армии после русско-японской войны, и теми, кто был ее участником.
Первые были солдаты как солдаты: тянулись не только перед каждым субалтерн-офицером и фельдфебелем, но готовы были стать во фронт перед любым унтер-офицером; всем своим видом свидетельствовали о том, что выучка в учебных командах не прошла даром и сделала из них настоящих «нижних чинов», обутых в стопудовые сапоги, которые без долгой привычки нельзя и носить, и неуклюжие рубахи из крашенной в цвет хаки ткани, не пропускавшей воздуха и после первого же перехода насквозь пропитывавшейся солью.
Такой «нижний чин» отлично знал, что «враг внешний — это австрияк, немец и германец», а враг «внутренний — жиды, скубенты и евреи»; даже взводного называл из подобострастия не «вашбродием», а «вашскородием» и был покорен, послушен и на редкость удобен для полкового начальства.
Не действовал на такого «нижнего чина» и длительный отрыв от армии. Запасные первого типа на второй день после появления в казармах ничем не отличались от кадровых солдат.
Зато запасные из участников русско-японской войны, едва прибыв в полк, начали заявлять всевозможные претензии: держались вызывающе, па офицеров глядели враждебно, фельдфебеля, как «шкуру», презирали и даже передо мной, командиром полка, вели себя независимо и, скорее, развязно.
Это были люди, хлебнувшие революции пятого года, потерявшие рабскую веру в батюшку-царя и еще там, где-нибудь под Мукденом, уразумевшие бессмысленность и жестокость существующего строя.
Я сказал бы неправду, если бы начал уверять, что симпатии мои были на стороне этих проснувшихся, наконец, от вековечной спячки русских людей, оказавшихся впоследствии отличными боевыми солдатами и настоящими патриотами. Конечно, мне куда больше нравился бессловесный запасный из «нижних чинов», отбывавших действительную военную службу после революции пятого года, когда в русской казарме снова воцарилась самая оголтелая аракчеевщина.
Наряду с запасными немалое беспокойство вызывали у меня и заполнившие приказарменную площадь крестьянские подводы с провожающими призванных семьями.
Я приказал отвести против каждой батальонной казармы с напольной ее стороны место для таких повозок и назначить определенные часы, когда солдаты могут отлучаться из рот в эти батальонные «вагенбурги». Результаты тут же сказались: никто не нарушал порядка, исчезло озлобление, которое вначале чувствовалось и у призванных и среди провожающих их крестьян.
Раза два в день и вечером после поверки я обходил в сопровождении дежурного расположение полка. В полку все обстояло благополучно. Единственное, что казалось мне огорчительным и чего исправить я не мог, это было обилие среди призванных запасных фельдфебелей, старших и младших унтер-офицеров прежних сроков службы, порой даже украшенных георгиевскими крестами, превратившихся здесь, в моем полку, в рядовых солдат.
Внезапно образовавшийся в полку избыток младшего командного состава, приятный мне, как командиру части, раздражал меня, как генштабиста, привыкшего мыслить более широкими категориями. Я огорченно подумал о том, что при мобилизации допущен какой-то просчет и куда правильнее было бы всех этих, излишних в полку фельдфебелей и унтеров отправить в специальные школы и превратить в прапорщиков. Будущее показало, что мои размышления были правильны: вскоре прапорщиков начали во множестве фабриковать, но только на основе подходящего образовательного ценза.
Накануне выступления полка в поход я привел в порядок и собственные дела: уложил необходимые вещи, написал родным и, наконец, составил и засвидетельствовал духовное завещание. Уверенность в непродолжительности войны, которая, как полагали все окружающие, не могла продлиться больше четырех месяцев, была такова, что я, подобно другим офицерам, даже не взял с собой теплых вещей. Да и обжитая уже командирская квартира моя в Чернигове была мной покинута так, словно я уезжал в краткодневную командировку.
На следующий день рано утром после отслуженного полковым священником молебна полк торжественно прошел через весь Чернигов и, выйдя на шоссе, двинулся к станции Круты, где должен был погрузиться в вагоны и следовать на запад, в район Луцка.
Жена моя, Елена Петровна, проводив вместе с женами других офицеров полк до первого привала, назначенного около вокзала, вернулась домой. Но собравшиеся у вокзала семьи запасных обнаружили намеренье двигаться с полком дальше. Обозначилось то зло, которое потом, уже после Октября, загубило не один полк Красной гвардии. Таскавший с собой с места на место семьи почти всех бойцов, такой полк обрастал гигантскими обозами и очень скоро терял всякое подобие боеспособности.
Настойчивость провожающих обеспокоила меня, и я объявил, что до большого привала, который назначен сегодня же на час дня, никто из родственников не будет допущен идти или ехать рядом с полком. Зато я не стану возражать, если провожающие двинутся по параллельной дороге.
На последнем переходе от Чернигова полк расположился на ночлег в селении Круты, неподалеку от станции того же названия. Подъехав к станции, я обнаружил в находящейся вблизи роще человек сто солдат в полном походном снаряжении. Завидев меня, солдаты поспешно построились; кто-то скомандовал «смирно».
— Что это за команда и кто ее сюда привел? — спросил я, поздоровавшись с солдатами.
— Так что, вашскородь, самовольно отлучившиеся из полка. Стало быть, в походе и на ночлеге отставшие,- послышалось из строя.
Я опешил. Казалось бы, все было сделано, чтобы дать возможность семьям запасных проводить уходящий на фронт полк. И вдруг — на тебе, чуть ли не целая рота самовольно покинула строй.
Еще не решив, что делать с нарушителями воинского устава, я приказал адъютанту полка переписать их, а сам выехал в селение. Там ждал уже меня рапорт дежурного по полку о том, что на последнем ночлеге группа солдат из запасных окружила избу, в которой поместился командир 7-й роты Коцюбинский, и ломилась в двери с угрозами избить чем-то не понравившегося офицера. Пять зачинщиков этого нелепого нападения были арестованы и оказались в заметном подпитии.
Капитан Коцюбинский слыл в полку неудачником, да и вообще-то не хватал звезд с неба. Стараясь отличиться, он чаще всего делал это неумело и себе во вред. Так получилось и на этот раз.
На походе он настолько ретиво охранял порядок в роте, которой командовал, и так свирепо боролся с самовольными отлучками, что вызвал ночное нападение. Формально Коцюбинский был прав, ибо действовал строго по уставу и выполнял мой приказ о недопущении самовольных отлучек. Формально и арестованные солдаты являлись военными преступниками и подлежали полевому суду. Но что-то в душе моей восставало против такого решения.
Приказав привести арестованных якобы для дознания ко мне на квартиру, я, выслушав не очень четкие показания, сказал:
— Ну что ж, дело ваше простое, особенно расследовать нечего. Соберу полевой суд, и через час вы будете расстреляны на основании законов военного времени.
Перепуганные солдаты начали умолять меня «простить» их. Помедлив для порядка и сделав вид, что не могу сразу решиться на такое нарушение закона, я в конце концов объявил обрадованным запасным, что отдаю их той же 7-й роте на поруки. Не стал возбуждать преследования я и против самовольно отлучившихся и ограничился лишь командирским «разносом».
Со станции Круты я выехал первым эшелоном и благодаря этому получил возможность до прибытия штаба полка, отправляющегося в третьем эшелоне, побывать в нужных мне местах, в том числе и в семье генерала Рузского{3}, где находилась приехавшая с утренним поездом моя жена.
Рузский уже вступил в командование 3-й армией, входившей в состав Юго-Западного фронта, и находился со штабом армии в городе Ровно.
Дружба Елены Петровны с женой Рузского как бы дополняла дружеские мои с ним отношения, возникшие в результате совместной службы в штабе Киевского военного округа. Я давно привык чувствовать себя у Рузских, как дома, и потому и остаток этого единственного в Киеве дня провел в семье командующего.
30 июля штабной эшелон, к которому я присоединился, прибыл в Луцк.
В противоположность бурливому киевскому вокзалу на станции Луцк стояла мертвящая тишина, даже железнодорожный буфет и тот был закрыт. Чувствовалась близость если и не фронта, то прифронтовой полосы, в городе было полно офицеров в походной форме, перетянутых портупеей с непонятным обилием столь полюбившихся в первые месяцы войны, никому не нужных ремней и ремешков, с кожаными футлярами для биноклей, папирос и еще чего-то, словом, обвешанных до такой степени, что затруднялось даже движение.
По мостовой маршировали отправлявшиеся на фронт роты; солдаты изнемогали под тяжестью «полной выкладки», стояла жара, и, конечно, куда разумнее было бы, сдав в обоз ненужные шинели и ранцы, налегке выступить в трудный поход по скверным и пыльным дорогам Галиции; но никто до этого не додумывался, и чрезмерно нагруженные солдаты с тяжелыми винтовками на натруженных плечах «печатали шаг» и делали это с такой же покорностью, с какой в половине прошлого века отправлялся в поход «вечный» николаевский солдат в немыслимо узких брюках, начищенном мелом нелепом снаряжении и тяжелом и ненужном кивере.
От Луцка Переволоченский полк должен был идти уже походным порядком. Я построил полк за городской чертой и вывел его на отвратительное, изрытое до безобразия шоссе, ведущее в Дубно. Шоссе скоро кончилось, мы вышли на проселок, и густые клубы пыли скоро скрыли от меня почти все роты, кроме той, которая шла в голове колонны.
К вечеру полк расположился на отдых в немецкой колонии. Несколько дальше к западу, в окрестностях местечка Торговицы, предполагалось сосредоточить всю 44-ю пехотную дивизию, в которую входил и мой полк.
Все последующие дня я вместе с офицерами полка изучал назначенный полку боевой участок около Торговиц и руководил его укреплением. Делалось это на случай неожиданного наступления австрийцев. Сама местность у Торговиц благоприятствовала обороне: две реки, текущие в болотистых долинах, делили Подступ к позициям полка особенно трудным.
Пока отрывались окопы и ходы сообщения и наматывалась на вбитые в землю колья колючая проволока, в полк верхом приехал начальник дивизии. Из разговора с ним я понял, что австрийцы вряд ли упредят нас в своем наступлении и, следовательно, никаких военных действий в районе Торговиц не будет.
3 августа из штаба 3-й армии прибыл офицер-ординарец и передал мне полевую записку командующего. В записке этой генерал Рузский запрашивал, нет ли в полку подходящего штаб-офицера, который, в случае моего отозвания, мог бы принять командование.
С тем же ординарцем я сообщил Рузскому, кого из штаб-офицеров полка считаю наиболее достойным кандидатом. В чем дело — я так и не смог догадаться. Знакомый с содержанием записки Рузского офицер не сказал мне ничего определенного.
Через день ординарец привез новую записку командующего, в которой мне было предложено немедленно сдать полк старшему из полковых офицеров, а самому явиться в штаб 3-й армии для назначения на должность генерал-квартирмейстера.
Еще накануне я получил приказ по дивизии, которым мой полк назначался в колонну главных ее сил и должен был к семи утра 6 августа занять исходные позиции близ переправы у Торговиц.
Оперативная цель предстоявшего полку передвижения была неясна. В приказе не очень четко говорилось, что противник развертывается по линии Красное — Золочев — Зборов. Несколько позже стало известно, что полк должен двинуться через указанную в приказе переправу и занять село Боремель. Зачем это делалось — я не знал и, таким образом, должен был действовать вслепую.
Приказ огорчил меня, и это огорчение было первым из того великого множества разочарований и недоумений по поводу неумелых действий начальства, которые я испытал за годы войны.
По прибытии полка к исходному пункту оказалось, что дорога к переправе представляет собой длинную гать и занята другими полками-дивизии.
Погода резко испортилась, небо обложило свинцовыми тучами, с утра моросил холодный дождь. Я остановил полк на лугу, что был правее дороги, и, вызвав офицеров к себе, прочел им приказ командующего. Поблагодарив офицеров за службу, я пожелал им боевых успехов и поехал в роты прощаться с солдатами.
Намокшая земля прилипала к копытам моей полукровки, золотистая шерсть ее потемнела от дождя и чуть дымилась. Невыспавшиеся, продрогшие солдаты не очень дружно прокричали что-то в ответ на прощальные мои слова, и я расстался с полком, чувствуя неприятную неловкость, хотя моей вины в этом не было, я покидал солдат в тот решающий день, когда должны были, наконец, начаться боевые действия.
Примечания
{1} «Переволоченским» полк был наименован в память о капитуляции у м. Переволочна на Днепре 15-тысячной шведской армии, сдавшейся 30 июня 1709 года после полтавского поражения 9-тысячному отряду А. Меншикова.
{2} И здесь и дальше календарные даты указаны по старому стилю.
{3} Рузский Николай Владимирович, генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии. Родился в 1854 г., умер в 1918 г. Участник турецкой и японской войн. В кампаний 1914-1917 гг. командовал 3-й армией, затем главнокомандующий армий Северо-Западного фронта, в 1916 г. главнокомандующий армий Северо-Западного и Северного фронтов.
Глава вторая
Мое назначение генерал-квартирмейстером 3-й армии. — Встреча с Духониным. — Болезнь генерала Драгомирова. — Львовская операция. — Слабая сторона русской конницы. — Неподготовленность тыловых служб. — Разговор по душам с генералом Деникиным. — Тактические и стратегические расхождения между генералом Рузским и штабом Юго-Западного фронта. — Атака укрепленного Львовского района.
Штаб 3-й армии разместился в это время в Дубно. Подъезжая к городу, я узнал от встретившегося на пути знакомого офицера, что генерал Рузский находится в своем вагоне, стоящем на станции, и, не заезжая в штаб, направился прямо туда.
— Надеетесь ли вы справиться с работой генерал-квартирмейстера? — нетерпеливо спросил Рузский, едва я представился ему, как командующему армией.
— Полагаю, что справлюсь,- подумав, сказал я.- Дело это мне знакомо, а работать я привык.
— Вот и отлично,- оживился командующий.- В таком случае отправляйтесь в штаб армии и вступайте в должность. Ваш предшественник получил бригаду. Кстати, как ваш полк? — явно для того, чтобы не распространяться по поводу моего нового назначения, спросил он.
Я не стал отнимать у Рузского времени и, коротко рассказав о том, в каком положении оставил полк, проехал в штаб армии, находившийся в казармах квартировавшего здесь до войны пехотного полка.
Комендантом штаба оказался подполковник, известный мне по совместной службе в Киевском военном округе. Я поселился в его комнате, а денщика, кучера и лошадей поместил в штабную команду. Все это устройство не заняло много времени, и я начал знакомиться со штабом.
Большинство офицеров штаба до войны служило в Киевском округе и было мне хорошо известно. Начальником штаба являлся генерал-лейтенант Драгомиров, сын почитаемого мною покойного учителя моего, в семье которого я был принят, как свой.
Среди офицеров штаба были и мои приятели. Старшим адъютантом разведывательного отделения оказался полковник Николай Николаевич Духонин{4}, с которым связывали меня самые дружеские отношения. Я даже считал себя обязанным ему, но об этом будет сказано в свое время.
Последние годы перед войной Духонин состоял в той же должности в Киевском округе и очень неплохо знал разведывательное дело. В лице его я, как мне казалось, получал отличного помощника.
Походив с полчаса по штабу, я почувствовал себя, как дома,- кругом были старые мои сослуживцы. В Киевском округе я служил еще при «старике» Драгомирове. Михаил Иванович тогда командовал войсками округа, а Рузский был генерал-квартирмейстером штаба. Как военный теоретик Драгомиров имел огромное влияние и на Рузского и на меня, и уже тогда у нас обоих возникло единое понимание и представление плана военных действий, желательного при столкновении с австро-венгерской армией на галицийском театре.
Теперь мне предстояло работать с Рузским, быть его помощником в разработке оперативных планов, и, само собой разумеется, что служба в 3-й армии представлялась мне в самом розовом свете. Напомню читателям, что генерал-квартирмейстер штаба выполнял тогда те обязанности, которые в Советской Армии лежат на начальнике оперативного отдела или управления.
Радовало меня мое новое назначение и тем, что моим непосредственным начальником оказался Владимир Михайлович Драгомиров, всегда привлекавший окружающих своей деликатностью и какой-то врожденной справедливостью.
В день моего приезда в Дубно Драгомиров был болен. Его давно уже мучила острая дизентерия, но он, пересиливая боль, в постель не ложился и пытался продолжать работу.
Я застал Владимира Михайловича в его комнате. Сильно похудевший, с осунувшимся бледным лицом, он сидел, закутавшись в бурку, за письменным столом и явно через силу просматривал штабные бумаги. Ездить к командующему с докладом он не мог, и эта обязанность легла на меня.
Надо сказать, что докладывать генералу Рузскому было не легко. Николай Владимирович требовал от докладчика глубокого знания материалов, обосновывавших доклад, настаивал на строгой логичности и последовательности как письменного, так и устного доклада; обязывал докладчика делать самостоятельные выводы и заставлял его одновременно представлять и проект практических мероприятий.
После доклада командующий задавал ряд вопросов, на которые требовал исчерпывающих ответов; докладчику лучше было прямо заявить, что он не подготовился, чем пытаться ответить кое-как.
Вступив в должность генерал-квартирмейстера, я решил познакомиться с тем, что произошло на фронте армии до моего приезда.
Довольно скоро я уже совершенно отчетливо мог представить себе положение 3-й армии и стоявшие перед ней задачи. 3-я армия состояла из четырех армейских корпусов и трех кавалерийских дивизий. Ожидалось прибытие 3-й кавказской дивизии.
Еще 1 августа главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал-адъютант Н. И. Иванов, тот самый, которого царь накануне своего отречения пытался послать на «усмирение» восставшего Петрограда, телеграфно сообщил генералу Рузскому и командовавшему соседней 8-й армией генералу Брусилову повеление верховного главнокомандующего. Великий князь Николай Николаевич, озабоченный трудным положением на французском театре военных действий и нашими неудачами на Северо-Западном фронте, предлагал 3-й и 8-й армиям перейти в наступление, не дожидаясь обещанных пополнений.
В развитие этого повеления приказом по 3-й армии войскам ее была поставлена задача «замедлить, насколько возможно, движение австро-венгерских армий, разбить противника при вторжении в наши пределы и затем наступать в Галиции с общим направлением на Львов».
Между 3-й и соседними — слева и справа — армиями были установлены разграничительные линии. Штаб армии оставался в Дубно. Все это время противник главными своими силами в наступление не переходил, как бы предоставляя нам возможность спокойно сосредоточить свои войска.
Неприятель нас не беспокоил; зато союзники из-за тревожного положения на французском фронте настойчиво требовали немедленного перехода в наступление ряда наших армий, в том числе и 3-й.
Как ни плохо работала наша разведка, мы знали, что к государственной границе противником выдвинуты лишь охраняющие части, поддерживаемые кавалерийскими дивизиями, состоящими преимущественно из мадьяр, этих прирожденных конников. Такое же положение до моего приезда в 3-ю армию существовало и в находившейся перед ее фронтом восточной части Галиции.
В день моего вступления в должность генерал-квартирмейстера наступлением 3-й армии началась знаменитая Львовская операция.
Разбирать эту превосходную нашу операцию я не стану — это далеко увело бы меня от моего рассказа. Коснусь ее лишь для того, чтобы читатель понял, что даже такие радостные события, как освобождение крупнейшего в Галиции старинного украинского города Львова было отравлено горечью унизительного сознания полной несамостоятельности нашей стратегии и рабской зависимости ее от эгоистичных и бессердечных военных союзников России.
Едва началось наступление на Львов, как генерал Иванов поспешил сообщить еще одну директиву верховного главнокомандующего: «Согласно общему положению наших союзников на западе необходимо безотлагательное и самое энергичное наступление».
Вслед за наступавшими корпусами двинулся и штаб армии.
Пока Рузский, Драгомиров и я на двух автомобилях ехали к границе, мало что вокруг говорило о войне. У самой границы картина резко изменилась: у дороги лежали опрокинутые телеграфные столбы, телеграфная проволока была срезана или порвана, пограничные постройки и с той и с другой стороны разрушены, рогатки уничтожены.
Всюду, куда ни смотрел глаз, тянулась открытая равнина; желтели неубранные поля; галицийские крестьяне, ничем как будто не отличавшиеся от наших «хохлов», довольно приветливо встречали и нас и сопровождавших командующего казаков. Вид этих крестьян, безбоязненно взиравших на русские войска, растрогал Драгомирова, и он довольно скоро опустошил карманы, раздавая всем встречным рублевки и трехрублевки, оказавшиеся при нем.
Часа в два пополудни мы прибыли в Пеняки и расположились в богатой барской усадьбе, окруженной великолепно досмотренным парком.
Владелец усадьбы, майор австрийской службы, находился в армии, семья же его только накануне покинула помещичий дом.
И дворецкий и вся многочисленная прислуга остались в усадьбе. Мы разместились в покинутом хозяевами огромном доме, невольно предоставив себя заботам вышколенной челяди.
Наутро, отлично выспавшись и позавтракав за сервированным дорогим фарфором, хрусталем и серебром столом, мы выехали по направлению к городу Золочеву, куда должен был перейти и штаб армии.
Не успели мы отъехать и двух верст, как, оглянувшись, увидели на горизонте зарево. Это внезапно запылала усадьба, только что оставленная нами. Кто поджег ее, установить не удалось, да было не до этого.
Мы выехали на шоссе Броды — Золочев, и впереди отчетливо послышалась артиллерийская стрельба. Временами доносилась и трескотня пулеметного и ружейного огня. Где-то неподалеку шел бой с австрийцами.
Заехав на командный пункт ведущего бой IX корпуса, мы смогли наблюдать, как над полями, оставляя в воздухе розовые клубки дыма, рвется австрийская шрапнель. Видны были и белые разрывы русской шрапнели. В отличие от австрийской артиллерии, бившей наугад и слишком высоко, русские артиллеристы стреляли куда более метко, и дымки нашей шрапнели обозначались в небе много ближе к полям и притом выровненные, как по линейке.
По обе стороны шоссе горели жалкие галицийские деревни и скученные еврейские местечки. Стояла тихая безветренная погода; черный зловещий дым подымался над пылающими хатами и скособоченными домишками, и порой казалось, что это суровые, как на еврейском кладбище, намогильные плиты темнеют над разоренной Галицией.
В Золочеве командующий и штаб армии расположились в трехэтажном каменном здании не то банка, не то местного магистрата, под управление генерал-квартирмейстера был занят особнячок, в котором еще день назад находились австрийские жандармы.
Когда я подъехал к особнячку, около него окруженные подвыпившими казаками толпились испуганные евреи, вероятно, хасиды{5}, судя по бородатым лицам, люстриновым долгополым сюртукам и необычной формы «гамашам» поверх белых нитяных чулок. Было их человек двадцать.
— Кто это? — спросил я, подозвав к себе казачьего урядника.
— Так что, вашскородие, шпиёны! Он, как и остальные казаки, спешился; казачьи лошади стояли несколько поодаль.
— Как же они шпионили? — все еще ничего не понимая, заинтересовался я.
— Так что, вашскородь, провода они резали. От телефону,- сказал казак. На ногах он стоял не очень твердо, потное лицо его лоснилось.
— А ты видел, как они резали? — уже сердито спросил я.
Как ни мало я был в Галиции, до меня дошли уже рассказы о бесчинствах казаков в еврейских местечках ;’ городишках. Под предлогом борьбы с вездесущими якобы шпионами казаки занялись самым беззастенчивым мародерством и, чтобы хоть как-то оправдать его, пригоняли в ближайший штаб на смерть перепуганных евреев.
Я видел, как страшно живет эта еврейская беднота, переполнявшая местечки с немощеными, пыльными до невероятия улочками и переулками, загаженной базарной площадью и ветхой синагогой, сколоченной из источенных короедом, почерневших от времени плах. На эту ужасающую, из поколения в поколение переходящую нищету было как-то совестно глядеть.
— Оно, конечно, самолично не видывал,- ответил урядник,- так ведь казаки гуторят, что видели. Да они, жиды, все против царя идут. Хоть наши, хоть здешние,- привел он самый убедительный свой довод и смущенно поправил темляк.
Пока я говорил с урядником, задержанные казаками евреи, прорвав кольцо пьяного конвоя, устремились к моему автомобилю. Все еще трясущиеся, с белыми, как мел, лицами, они, перебивая друг друга и безбожно коверкая русский язык, начали с жаром жаловаться на учиненные казаками бесчинства.
Я приказал казакам распустить задержанных евреев по домам и долго еще слышал их благодарный гомон за окнами моего управления.
Бесчинства и произвол казаков обеспокоили меня тем более, что уже первые дни боев показали неосновательность надежд, которые все мы до войны возлагали на нашу конницу.
Правда, в этом были виноваты не только казачьи и кавалерийские части, но и примененная нами тактика.
Еще в самом начале Львовской операции я обратил внимание на странный обычай конницы — отходить на ночлег за свою пехоту. В действиях трех кавалерийских и одной казачьей дивизий, входивших в состав армии, не было заметно той решительности, которую следовало проявить. Вероятно, это происходило потому, что конницу придали армейским корпусам, а не собрали в кулак, как это следовало сделать. Должно быть, мы переоценивали и боевые свойства конников.
Таким образом, даже в эти первые дни войны конница настолько оскандалилась, что главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал Иванов вынужден был отметить в своей телеграмме, адресованной всем командующим армиями фронта:
«Из поступающих донесений о первых столкновениях усматриваю, что отбитый противник даже при наличии большого числа нашей кавалерии отходит незамеченным, соприкосновение утрачивается, не говоря о том, что преследование не применяется».
Я остановился на сразу же обнаружившихся пороках нашей кавалерии, которой мы так бахвалились, только для того, чтобы читатель понял, сколько разочарований ждало меня, кадрового военного, искренно любившего армию и верившего в нее, и как быстро эти разочарования начали совершать свою разрушительную работу в моей, воспитанной семьей и школой, наивной вере в династию.
Преданность монархическому строю предполагала уверенность в том, что у нас, в России, существует наилучший образ правления и потому, конечно, у нас все лучше, чем где бы то ни было. Этот «квасной» патриотизм был в той или иной мере присущ всем людям моей профессии и круга, и потому-то каждый раз, когда с убийственной неприглядностью обнаруживалось истинное положение вещей в стране, давно образовавшаяся в душе трещина расширялась, и становилось понятным, что царская Россия больше жить так, как жила, не может, а воевать и подавно…
Еще в Золочеве я обнаружил, что мы не умеем наладить даже самую элементарную тыловую службу. Наше наступление шло всего несколько дней, и уже некоторые полки по два, а то и по три дня не видели хлеба: в иных частях солдаты съели даже неприкосновенный запас;
кое-где не хватало патронов и снарядов. Словом, маршировали отлично, за ученья получали высший балл, на маневрах творили чудеса, а когда дошло до столкновений не с условным, а с настоящим противником, оказалось, что Россия осталась тем же колоссом на глиняных ногах, каким была и во время Крымской кампании…
В один из тех дней, когда штаб прорывавшейся к Львову 3-й армии находился в Золочеве, в город приехал генерал-квартирмейстер соседней с нами 8-й армии, Деникин, будущий белый «вождь».
Антона Ивановича я знал еще по Академии Генерального штаба, слушателями которой мы были в одно и то же время. Приходилось мне встречаться с Деникиным и за годы службы в Киевском военном округе.
Репутация у него была незавидная. Говорили, что он картежник, не очень чисто играющий. Поговаривали и о долгах, которые Деникин любил делать, но никогда не спешил отдавать. Но фронт заставляет радоваться встрече с любым старым знакомым, и я не без удовольствия встретился с Антоном Ивановичем, хотя порядком его недолюбливал.
Деникин был все тот же — со склонностью к полноте, ; той же, но уже тронутой сединкой шаблонной бородкой на невыразительном лице и излюбленными сапогами «бутылками» на толстых ногах.
Я пригласил генерала к себе. Расторопный Смыков, мой верный слуга и друг, мгновенно раздул самовар, среди тайных его запасов оказались и водка и необходимая закуска, и мы с Антоном Ивановичем не без приятности провели вечер.
— А знаете, Михаил Дмитрич, я ведь того… собрался уходить от Брусилова,- неожиданно признался Деникин и вытер надушенным платком вспотевшее лицо.
— С чего бы это, Антон Иванович? — удивился я. — Ведь оперативная работа в штабе армии куда как интересна.
— Нет, нет, уйду в строй,- сказал Деникин.- Там, смотришь, боишко, чинишко, орденишко! А в штабе гни только спину над бумагами. Не по моему характеру это дело. Никакого расчета нет,- разоткровенничался мой гость и предложил выпить еще «по маленькой».
Спустя долгих пять лет, когда Деникин сделался главнокомандующим Добровольческой армии, я, организуя в качестве начальника штаба Реввоенсовета республики вооруженный отпор рвущимся к Москве бандам белогвардейцев-деникинцев, не раз вспоминал разговор в Золочеве и думал, что и развязанную с его помощью гражданскую войну новоявленный белый «вождь» расценивал по той же стереотипной формуле — боишко, чинишко, орденишко.
Вскоре после нашей встречи в Золочеве хлопоты Деникина увенчались успехом: он был назначен начальником 4-й стрелковой бригады и, получив, наконец, строевую должность с правами начальника дивизии, вступил на желанный путь быстрого продвижения к «чинишкам» и «орденишкам»…
Чем больше я постигал тайны главной кухни войны и углублялся в секреты наших высших штабов, тем мрачнее становилось у меня на душе от сознания того, что насквозь прогнивший государственный аппарат империи решительно во всем, даже в управлении армией все отчетливее и сильнее обнаруживает свою полную непригодность.
Я не буду подробно останавливаться на обозначившемся еще во время Львовской операции коренном расхождении в вопросах тактики и стратегии между талантливым Рузским и бездарным Ивановым и двоедушным царедворцем Алексеевым, в ту пору занимавшим должность начальника штаба Юго-Западного фронта.
Я был совершенно согласен с командующим 3-й армией в его стремлении всемерно обеспечить за своими войсками их успех в первом столкновении с противником и в решении брать Львов независимо ни от чего. Распоряжения же главнокомандующего фронта и его начальника штаба, предлагавших произвести перегруппировку корпусов 3-й армии с целью сосредоточения ее главных сил к северу от Львова, привели бы армию в лесисто-болотистый район, почти лишенный дорог, и обрекли бы ее на такую же катастрофу, которая произошла в Восточной Пруссии со 2-й армией, бесславно погибшей в Мазурских болотах.
Несмотря на путаные, а порой и нелепые директивы главнокомандующего Юго-Западного фронта, руководимые Рузским войска стремительно наступали на Львов и вели уже ожесточенные бои на самых его подступах. Только накануне падения Львова генерал Иванов распорядился, наконец, поручить Рузскому объединить под своим управлением действия 3-й и 8-й армий, дерущихся с австро-венгерцами почти бок о бок.
С вечера 19 августа корпуса 3-й армии заняли фронт Жолкев{6} — Желтанцы — Ярычев — река Кабановка. По донесениям разведчиков и по добытым еще в мирное время разведывательным данным было известно, что Львов окружен фортами, батареями и промежуточными укреплениями; войсковая разведка доносила, что все эти укрепления заняты австрийскими войсками. Произвести воздушную разведку было нельзя — небо было покрыто быстро бегущими облаками, все время моросил мелкий дождь, сама погода исключала возможность полетов. Между тем, от тайных агентов нашей разведки, как ни плохо была она у нас поставлена, начали поступать сведения о том, что австро-венгерские войска собираются покинуть Львов. В ночь на 21 августа надежный наш агент сообщил из Львова, что штаб 3-й австро-венгерскойй армии спешно покинул гостиницу, в которой размещался, и выехал из Львова.
Еще до получения этого обнадеживающего секретного внесения я доложил генералу Рузскому о возможности одновременной атаки Львова всеми корпусами; предупрежденные о предстоящей атаке, корпуса к ней уже подготовились.
Рузский приказал запросить командиров корпусов;
Почти все они в ответ на посланные им Драгомировым списки ответили, что атаку надо начинать немедленно.
Около 6 часов утра 21 августа я написал на синем телеграфном бланке: «Командующий армией приказал немедленно и одновременно атаковать Львовский укрепленный район». Далее следовали частные задачи, ставящиеся перед входившими в армию корпусами.
Пройдя в комнату, в которой спал Драгомиров, я разбудил его и попросил подписать телеграмму.
Внимательно прочитав ее, Драгомиров спросил:
— А на основании чего, собственно, вы составили этот приказ?
Сославшись на данные разведки и донесения секретных наших агентов, я доложил, что запрошенные штабом армии командиры корпусов стоят за немедленное наступление и что сам я держусь точно такой же точки зрения.
— Ступайте с этой телеграммой к командующему армией,- подумав, сказал Драгомиров и, отложив перо, которым чуть было, не подписал телеграмму, снова лег на свою жесткую походную койку. Ему по-прежнему нездоровилось, и то, что он лег, было не только дипломатическим маневром.
Понимая, что медлить нельзя, я торопливо вычеркнул из телеграммы слова «командующий армией приказал» и, надписав над зачеркнутой строкою «приказываю», прошел к Рузскому.
Командующий спал, но я бесцеремонно растолкал его и предложил подписать принесенный приказ. В отличие от Драгомирова Николай Владимирович не стал колебаться и спокойно поставил свою подпись. Участь Львова была решена.
Часам к девяти утра в штаб армии начали приходить донесения о том, что все корпуса, исполняя приказ командующего, оставили исходные рубежи и повели решительное наступление на Львов.
Часа через два Драгомиров предложил мне проехать вместе с ним к наступающим войскам. Мы сели в штабной автомобиль и помчались по шоссе, ведущему во Львов. Вскоре мы въехали в предместье города и стали обгонять пехоту и артиллерию.
Войска двигались по шоссе как-то затрудненно, часто останавливались и, едва тронувшись, снова образовывали пробку. Оказалось, что идущая в походной колонне пехота, остановилась около полусгоревшей табачной фабрики, расположенной в предместье, и расхватала хранившиеся на складах запасы.
Дав газ и немилосердно нажимая на клаксон, шофер ухитрился объехать колонну и устремиться вперед. Обгоняя задержавшуюся у фабрики пехоту, мы не без смеха наблюдали шагавших по шоссе солдат в забрызганных грязью шинелишках с подоткнутыми по-бабьи полами и с огромными, дорогими сигарами в зубах.
Тем временем прояснело. Выглянуло солнце, все еще жаркое в эти последние летние дни. Мы въехали в город и удивились обилию народа на залитых солнцем улицах — весь Львов высыпал из домов, чтобы поглядеть на проходившие русские войска.
Проехав город, мы повернули на шоссе Львов — Каменка Струмиловская{7} и оказались позади пояса фортов, батарей и укреплений, прикрывавших Львов.
Шоссе было безлюдно, никто не попадался нам навстречу, и точно в таком же положении мы застали и одну из долговременных австрийских батарей, у которой умышленно задержались. Рядом с орудиями были аккуратно сложены снаряды. В блиндажах, куда мы полюбопытствовали заглянуть, валялись брошенные бежавшими офицерами чемоданы. Орудийную прислугу точно сдуло ветром, и хорошо, что это было именно так. Мы не взяли с собой охраны, и окажись хоть где-нибудь австрийские солдаты, нам пришлось бы туго.
Примечания
{4} Духонин Николай Николаевич (1876-1917). Был Керенским назначен начальником штаба Ставки. 1 (14) XI 1917 года объявил себя главковерхом. 20 XI (3 XII) убит восставшим гарнизоном.
{5} Еврейская религиозная секта, распространенная в свое время в Галиции.
{6} Жолкев (ныне Нестеров) — станция на железной дороге Львов — Рава Русская
{7} Ныне — Каменка Бугская — станция на железной дороге Львов — Луцк.
Глава третья
Каменка Струмиловская. — В жолкевском замке. — Героическая смерть летчика Нестерова. — Назначение генерала Рузского главнокомандующим Северо-Западного фронта. — Приезд Радко-Дмитриева. — Я ухожу из 3-й армии. — Спор с Духониным. — На перевалочном пункте.
Львов был занят, но отступавшего противника не преследовали. Корпусам 3-й армии было приказано начать перегруппировку для исполнения новой, директивы главнокомандующего Юго-Западного фронта, а корпуса 8-й армии все еще располагались уступами влево от 3-й армии, между ее левым флангом и Днестром.
Время было упущено; австро-венгерская армия быстро оправилась и сама перешла в наступление.
Оставив брошенную противником батарею, мы с Драгомировым приехали в Каменку Струмиловскую, куда вслед за нами должен был прибыть и командующий армией с некоторыми отделами штаба. Все остальные управления громоздкого штаба перебирались в Жолкев.
Мы не доехали верст восьми до Каменки Струмиловской, как разразился ливень. Автомобиль у нас был открытый, и очень скоро на нас не осталось и сухой нитки.
В Каменке Струмиловской квартирьерами штаба была занята чья-то брошенная усадьба. В обширном помещичьем доме сохранилась еще дорогая старинная мебель, но кто-то уже успел по-разбойничьи прогуляться по анфиладе великолепно отделанных комнат. Под ноги попадали то сорванная с петель дверца от старинного шкафчика наборного дерева, то затоптанная спинка дивана стиля «жакоб», то расколотое пополам, обитое шелком креслице с резными золочеными ножками. У мраморных статуй, украшавших пышный вестибюль, были отбиты носы, на старинных, потемневших от времени портретах кто-то злобно выколол глаза.
Зато в брошенном доме оказалось множество всякого рода диванов и кроватей с пружинными матрацами, и, хотя мы были без вещей, отправленных в Жолкев, нам удалось неплохо отдохнуть после трудного дня.
После необычного ливня установилась холодная, сырая погода. Большую часть стекол в доме кто-то выбил, в комнатах было на редкость холодно и мрачно.
К вечеру в Каменку приехал Рузский. С ним прибыли и вестовые нашего походного штабного собрания, В обширном зале зашумел самовар, появились закуски и кое-какая выпивка, все обогрелись и ожили.
Перенесенные в район Равы Русской бои приняли затяжной характер, и, переехав из Каменки в Жолкев, мы надолго застряли в его отлично сохранившемся замке. В служебные часы офицеры штаба разбредались по многочисленным комнатам, но к обеду и к ужину все собирались в огромной готической столовой. Приходил и Рузский, охотно вступавший в общую беседу.
Еще в первые дни нашего пребывания в Жолкеве до штаба стали доходить подробности катастрофы, постигшей в Восточной Пруссии 1-ю и 2-ю армии. Говорили чуть ли не о полной гибели обеих армий. Передавали, что генерал Самсонов застрелился, а командовавший 1-й армией генерал Ренненкампф остался живым, но подлежит суду.
В конце августа из Петрограда приехал фельдъегерь и привез Рузскому пожалованные ему государем за Львовскую операцию ордена святого Георгия 3-й и 4-й степени.
К ужину Рузский вышел в новых орденах. Пошли поздравления и речи, появилось шампанское. Радужное настроение, владевшее чинами штаба в связи с относительно легкой победой над австрийцами, было омрачено гибелью известного летчика Нестерова.
Вскоре после переезда штаба армии в Жолкев началось жаркое бабье лето. С раннего утра 26 августа в небе не было ни облачка; отличная погода и заставила австрийского летчика проявить особую настойчивость. Он несколько раз появлялся над расположением штаба и даже сбросил две шумные бомбы, никому не причинившие вреда.
Вблизи штаба за городом, на открытом сухом месте была устроена площадка для подъема и посадки самолетов; на ней стояли самолеты армейской авиации и было разбито несколько палаток. В одной из них жил начальник летного отряда штабс-капитан Нестеров, широко известный в нашей стране пилот военно-воздушного флота.
В этот роковой для него день Нестеров уже не однажды взлетал на своем самолете и отгонял воздушного «гостя». Незадолго до полудня над замком вновь послышался гул неприятельского самолета — это был все тот же с утра беспокоивший нас австриец.
Налеты вражеской авиации в те времена никого особенно не пугали. Авиация больше занималась разведкой, бомбы бросались редко, поражающая сила их была невелика, запас ничтожен. Обычно, сбросив две — три бомбы, вражеский летчик делался совершенно безопасным для глазевших на него любопытных.
О зенитной артиллерии в начале первой мировой войны никто и не слыхивал. По неприятельскому аэроплану стреляли из винтовок, а кое-кто из горячих молодых офицеров — из наганов. Любителей поупражняться в стрельбе по воздушной цели всегда находилось множество, и, как водилось в штабе, почти все «военное» население жолкевского замка высыпало на внутренний двор.
Австрийский аэроплан держался на порядочной высоте и все время делал круги над Жолкевом, что-то высматривая.
Едва я отыскал в безоблачном небе австрийца, как послышался шум поднимавшегося из-за замка самолета. Оказалось, что это снова взлетел неустрашимый Нестеров.
Потом рассказывали, что штабс-капитан, услышав гул австрийского самолета, выскочил из своей палатки и как был в одних чулках забрался в самолет и полетел на врага, даже не привязав себя ремнями к сиденью.
Поднявшись, Нестеров стремительно полетел навстречу австрийцу. Солнце мешало смотреть вверх, и я не приметил всех маневров отважного штабс-капитана, хотя, как и все окружающие, с замирающим сердцем следил за развертывавшимся в воздухе единоборством.
Наконец, самолет Нестерова, круто планируя, устремился на австрийца и пересек его путь; штабс-капитан как бы протаранил вражеский аэроплан,- мне показалось, что я отчетливо видел, как столкнулись самолеты.
Австриец внезапно остановился, застыл в воздухе и тотчас же как-то странно закачался; крылья его двигались то вверх, то вниз. И вдруг, кувыркаясь и переворачиваясь, неприятельский самолет стремительно полетел вниз, и я готов был поклясться, что заметил, как он распался в воздухе{8}.
Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной победой нашего летчика, и ждали, что он вот-вот благополучно приземлится. Впервые примененный в авиации таран как-то ни до кого не дошел. Даже я, в те времена пристально следивший за авиацией, не подумал о том, что самолет, таранивший противника, не может выдержать такого страшного удара. В те времена самолет был весьма хрупкой, легко ломающейся машиной.
Неожиданно я увидел, как из русского самолета выпала и, обгоняя падающую машину, стремглав полетела вниз крохотная фигура летчика. Это был Нестеров, выбросившийся из разбитого самолета. Парашюта наша авиация еще не знала; читатель вряд ли в состоянии представить себе ужас, который охватил всех нас, следивших за воздушным боем, когда мы увидели славного нашего летчика, камнем падавшего вниз…
Вслед за штабс-капитаном Нестеровым на землю упал и его осиротевший самолет. Тотчас’ же я приказал послать к месту падения летчика врача. Штаб располагал всего двумя легковыми машинами — командующего и начальника штаба. Но было не до чинов, и показавшаяся бы теперь смешной длинная открытая машина с рычагами передачи скоростей, вынесенными за борт, лишенная даже смотрового стекла, помчалась к месту гибели автора первой в мире «мертвой петли».
Когда останки Нестерова были привезены в штаб и уложены в сделанный плотниками неуклюжий гроб, я заставил себя подойти к погибшему летчику, чтобы проститься с ним, — мы давно знали друг друга, и мне этот человек, которого явно связывало офицерское звание, был больше чем симпатичен.
Его темневшая изуродованная голова как-то странно была прилажена к втиснутому в узкий гроб телу. Случившийся рядом штабной врач объяснил мне, что при падении Нестерова шейные позвонки ушли от полученного удара внутрь головы…
На панихиду, отслуженную по погибшему летчику, собрались все чины штаба. Пришел и генерал Рузский.
Сутулый, в сугубо «штатском» пенсне, он здесь, у гроба разбившегося летчика, еще больше чем когда-либо походил на вечного студента или учителя гимназии, нарядившегося в генеральский мундир.
На следующий день Рузский в сопровождении всего штаба проводил останки Нестерова до жолкевского вокала — отсюда, погруженный в отдельный вагон, гроб поездом был отправлен в Россию.
В полуверсте от места падения Нестерова, в болоте, были найдены обломки австрийского самолета. Под ними лежал и превратившийся в кровавое месиво неприятельский летчик. Он оказался унтер-офицером, и, узнав об атом, я с горечью подумал, что даже в деле подбора воздушных кадров австрийцы умнее нас, сделавших доступ в пилоты еще одной привилегией только офицерского корпуса. «Нижние чины» русской армии сесть за руль самолета военно-воздушного флота Российской империи не могли{9}.
В самом конце августа в штабе армии была получена новая директива главнокомандующего Юго-Западным, фронтом, показавшаяся всем нам странной. Директива начиналась словами «первый период войны закончился», и мы никак не могли понять, почему высшее командование к такой определяющей судьбу страны войне подходит как к какому-то спектаклю, в котором действия и картины начинаются и кончаются по воле драматурга и режиссера.
Основные силы германо-австрийской коалиции, как это задолго до войны предвидели все сколько-нибудь грамотные в военном деле штабные офицеры, были брошены на Париж. Какого же чёрта наше высшее командование делало вид, что этого не понимает, и частные наши успехи принимало за решающие этапы войны?{10}
Чем больше я входил в самое существо военных операций, предпринимаемых нами, тем очевиднее становилось для меня то очковтирательство, которым неведомо зачем, обманывая только себя, а не западные державы, отлично знавшие настоящую цену этой парадной шумихе, занимались те, кто считался в ту пору «верными сынами родины». Шла мировая война, в пучине которой легко могла исчезнуть расшатанная, пораженная небывалым взяточничеством, распутинщиной и множеством иных пороков империя Романовых. Назревала гигантская революция, предвоенные забастовки и беспорядки в столице только чудом не вылились в вооруженное восстание, любой сколько-нибудь честный и сознательный человек в России ни в грош не ставил ни царских министров, ни самого царя. Каждый грамотный знал цену «потемкинским деревням», до которых так падка была царская Россия, и все-таки словно в какой-то всеобщей игре все обманывали друг друга и самих себя, истошно вопя о неизменном «процветании» империи и непременных победах «российского воинства». От всего этого тошнило, и я порой не находил себе места в атмосфере сплошной лжи и взаимного обмана.
Все время вспоминалась популярная сказка Андерсена о новом платье короля. Король был гол, а придворные восхищались его новым платьем, и то же самое делалось на полях сражений под дулами немецкой дальнобойной артиллерии, когда дореволюционная Россия обнаружила и не могла не обнаружить свою отсталость.
Огорчение следовало за огорчением. Не успел я пережить нелепую директиву фронта, как в штаб пришла телеграмма генерала Янушкевича, начальника штаба верховного главнокомандующего, вызывающего Рузского в Ставку, которая в те дни находилась на станции Барановичи Александровской железной дороги.
Нетрудно было догадаться, что Рузского вызывают для того, чтобы поручить ему провальный Северо-Западный фронт. Вместо Рузского, по словам штабных всезнаек, в 3-ю армию назначался генерал Радко-Дмитриев{11}, болгарин по происхождению’.
Известие это огорчило меня. Я ничего не имел против нового командующего, но мне было жаль расставаться с Рузским — мы с полуслова понимали друг друга, а для такой штабной работы, которую вел я, — это самое главное — ведь генерал-квартирмейстер, разрабатывающий все оперативные задания командующего, является чем-то вроде его «альтер-эго»{12}.
Генерал Рузский был знатоком Галицийского театра военных действий и австро-венгерской армии; в него, как в никого, верили офицеры штаба и строевые командиры 3-й армии, образовавшейся из частей Киевского военного округа. Уход генерала Рузского с поста командующего казался всем нам тяжелой потерей.
Свой отъезд в Ставку Николай Владимирович назначил на утро 2 сентября. Накануне, после обычного моего доклада, Рузский сказал, что ему, по всей вероятности, придется вызвать меня, если только он, действительно, получит в Ставке новое ответственное назначение. Конечно, я тут же выразил полную свою готовность работать с ним в любой армии и на любом фронте.
Мое отозвание из штаба 3-й армии было, вероятно, предрешено; в конце разговора Рузский многозначительно сказал:
— Я вас попрошу, Михаил Дмитриевич, получив телеграмму, обязательно захватить с собой моего кучера, лошадей и экипаж. Я еще по пути в Ставку отдам распоряжение, чтобы приготовили вагоны и лично для вас, и для всех наших лошадей.
Читателю, наверно, не очень понятна тогдашняя забота офицеров и генералов о положенных им лошадях. Уже и тогда высшие чины армейских и фронтовых штабов пользовались автомобилями. Но парный экипаж и собственная лошадь под верх были настолько обязательной принадлежностью штаб-офицерской и генеральской должности, что никто из нас даже не представлял, как можно находиться в действующей армии и не иметь своих лошадей. Конечно, это был смешной предрассудок. Ни я, ни тем более генерал Рузский почти не садились в седло, как и не пользовались парным экипажем. И все-таки лошади отнимали у нас немало времени и были предметом серьезных забот.
На следующий день после отъезда Рузского в сопровождении двух своих адъютантов в Жолкев приехал генерал Радко-Дмитриев. Драгомиров тотчас же явился к нему с докладом; по заведенному еще Рузским порядку я сопровождал начальника штаба и остался при докладе.
Радко-Дмитриев слушал молча и не очень доброжелательно. Драгомиров докладывал о мероприятиях по укреплению тыла, имея в виду дальнейшее продвижение армии к реке Сан. Новый командующий несколько раз бесцеремонно перебил докладчика и нет-нет да бросал реплики, вроде «у нас в Болгарии» или «мы в Болгарии поступали иначе».
Опыт недавней болгаро-турецкой войны все еще владел мыслями нового командующего, и это произвело на нас крайне неприятное впечатление — в конце концов 3-я армия имела и свой опыт военных действий и кое-какие заслуги в этом деле.
По мере продвижения корпусов к Сану решено было переместить и штаб армии. Местом новой его дислокации были выбраны Лазенки — лечебная станция, расположенная в нескольких верстах от небольшого городка Немиров.
Путь наш лежал сначала по шоссе, затем по проселку, порой с трудом перебиравшемуся через болотистые лесные поляны. Повсюду видны были следы войны: торчали застрявшие в болоте повозки, валялись конские трупы со вспученными животами, кое-где в самых неожиданных позах лежали убитые австрийцы, и глаз невольно примечал, что все они были без сапог, бесцеремонно снятых рыскающими вслед за передовыми частями мародерами.
Немиров представлял собой сплошное пожарище: вместо домов торчали почерневшие печные трубы, деревья обгорели, по улицам вдоль развалин бродили похожие на призраков люди.
Лазенки оказались климатической станцией для лечения сифилиса. Расположенные в лесу, отлично построенные, располагавшие роскошным курзалом, они были не тронуты войной и обещали бы заманчивый отдых, если бы не неприятное сознание: еще совсем недавно курорт кишел сифилитиками, и кто знает, кем из них была занята приготовленная для тебя постель…
Вскоре после приезда в Лазенки генерал Драгрмиров получил телеграмму, предлагавшую срочно откомандировать меня в Белосток в штаб Северо-Западного фронта. В телеграмме было сказано, что верховный главнокомандующий дал согласие на мое откомандирование из 3-й армии.
Из Лазенок я уезжал без малейшего сожаления. Немногие дни совместной с Радко-Дмитриевым работы показали, что в лучшем случае я окажусь только канцеляристом — новый командующий принадлежал к тому распространенному типу руководителей, которые все любят делать своими собственными руками…
По указанию начальника штаба я передал свои обязанности полковнику Духонину. Пользуясь старыми нашими приятельскими отношениями, Николай Николаевич признался, что смертельно завидует мне и многое отдал бы, чтобы оказаться в войсках, возглавлявшихся Рузским.
Когда все связанное с моим отъездом из армии было уже сделано, я отправился к командующему и доложил о вызове меня к генералу Рузскому.
— Наслышан уже об этом,- сказал мне Радко-Дмитриев, — и, откровенно говоря, жалею, что вынужден вас потерять. Признаться, мне не раз приходилось слышать о вас отличные отзывы, и я с грустью расстаюсь с вами.
В том, что Радко-Дмитриев сразу же меня невзлюбил, я был уверен. Знали об этом и все сколько-нибудь осведомленные чины штаба. Но в атмосфере штабных интриг и подсиживаний приходилось все время вести какую-то сложную игру, и в угоду неписанным ее правилам прямой и резкий генерал, каким был командующий, безбожно льстил мне и беззастенчиво говорил любезные фразы, в искренность которых не поверил бы даже самый недалекий из штабных писарей.
— Когда же отправляетесь, Михаил Дмитриевич? — на прощанье спросил командующий, впервые за нашу совместную работу величая меня по имени-отчеству.
— Я безмерно огорчен, ваше высокопревосходительство, что не смогу служить под вашим началом, — невольно включаясь в игру, сказал я, — но ничего не попишешь, приказ верховного. А потому, если вы разрешите, я отправлюсь в путь завтра же рано утром.
— Конечно, поезжайте. Медлить нечего,- согласился Радко-Дмитриев и милостиво кивнул мне головой.
Через два года я увиделся с ним в Риге, где он командовал 12-й армией. Мы радушно поздоровались, да, пожалуй, ни у меня, ни у него не было оснований для вражды.
Встреча в Риге была последней. Осенью 1918 года Радко-Дмитриев вместе с Рузским и группой всякого рода титулованных «беженцев» из Москвы и Петрограда попал в число взятых Кавказской Красной Армией заложников и был расстрелян.
В Москве смерть этих, несомненно выдающихся генералов, не имевших ни малейшего отношения к контрреволюционным заговорам и занимавшихся в Пятигорске только собственным, давно пошатнувшимся здоровьем, была встречена с огорчением, и я не раз слышал от В. И. Ленина, что оба эти генерала, не кончи они так трагически, могли бы с пользой служить в рядах Красной Армии.
Поздно вечером ближайшие мои сотрудники по управлению генерал-квартирмейстера армии собрались в моей комнате. Несмотря на запрещение продажи спиртных напитков, кое-что из водок и вин оказалось на столе, и мы дружески простились друг с другом. После того как все разошлись и в комнате на правах моего преемника остался один Духонин, я откровенно признался, что не понимаю ни стратегии, ни тактики генерал-адъютанта Иванова и его начальника штаба Алексеева. Согласившись со мной в оценке распоряжения главнокомандующего фронта, приостановившего наступление 3-й армии и не давшего ей добить австро-венгерцев, как бесспорной ошибки, Духонин, однако, отказался отнести ее на счет Алексеева. Уже и тогда, в самом начале войны, он благоговел перед воображаемыми талантами бесталанного, но зато и хитрейшего из царских генералов, и рабское послушание это уже после Октябрьской революции способствовало той страшной катастрофе, которая постигла Духонина{13}.
— Поживем, увидим, может быть, и вы, Николай Николаевич, согласитесь, что Алексеев злой гений нашего фронта,- сказал я, и мы расстались.
Ранним сентябрьским утром, когда еще не растаял туман и жолкевский замок казался призрачным, я выехал из штаба армии. Было холодновато, серые мои рысаки «Львов» и «Золочов», запряженные в парную коляску, шли широкой размашистой рысью; влажная земля летела из-под копыт и мягко шлепалась на примятый ночным дождем проселок; следом за мной в коляске Рузского важно восседал мой денщик Смыков, и рядом с ним шла «Рава», золотистая верховая кобыла, купленная мною еще под Черниговом. Вся эта пышная кавалькада была не нужна ни мне, ни генералу Рузскому. Но такова была сила традиции, и никто из окружающих не решился бы сказать, что незачем держать целые конюшни в штабах, обеспеченных отличными по тому времени легковыми автомобилями.
Дорога до самой Равы Русской шла по местам недавних боев. Валялись разбитые лафеты и опрокинутые повозки; порой поле, мимо которого мы проезжали, являло собой какое-то непонятное конское кладбище, — должно быть, в этом месте бой вела кавалерия. Некоторые лошади сохраняли необычные позы, застыв в том положении, в каком их застала мгновенная смерть. Издали они казались странными статуями, разбросанными по бурому жнитву.
Попадавшиеся на пути селения лежали в обгорелых развалинах. Невеселый вид имела станция Рава Русская. Двухэтажное здание вокзала было частью разбито снарядами, частью сожжено.
Предупрежденный о моем приезде, комендант станции занялся погрузкой моей конюшни и экипажей. К смешанному поезду, поданному под раненых, были прицеплены два крытых вагона и платформа. Спустя часа два лошади и экипажи были, наконец, погружены, паровоз отчаянно засвистел, и поезд тронулся, навсегда увозя меня из Галиции.
В Львове пришлось порядочно простоять — выгружали раненых. Вместе с нашими солдатами в поезд были погружены раненые австрийцы, но их везли в настолько скотских условиях, что мне стало стыдно за лошадей и мои вещи, занявшие два крытых вагона. К огорчению моему, ужасающие условия, в которых перевозили раненых пленных, я обнаружил только во Львове, вероятно, потому, что еще в Раве Русской лег спать и ничего не видел и не слышал.
В Львове вагоны мои были прицеплены к пассажирскому поезду, на котором я и добрался до разъезда за станцией Красное, где кончалась узкая австрийская колея и начиналась наша широкая, уже перешитая железнодорожными войсками.
Начальник сформированного здесь перевалочного пункта доложил, что по распоряжению Рузского, проехавшего в Ставку, для меня оставлены небольшой салон-вагон, крытый товарный для лошадей и платформа.
Разъезд, на котором происходила перевалка и перегрузка, являл собой необычное зрелище. Поражало множество железнодорожных путей, проложенных прямо на поле; рядом с ними темнели огромные бунты каких-то кладей, покрытых брезентами. Еще дальше правильными рядами стояли военные повозки и лафеты. И у бунтов и на путях копошились сотни солдат, что-то перегружавших, куда-то спешивших, стоявших кучками и просто, видимо, без всякой цели слонявшихся по изрезанному рельсами полю.
Над перевалочным пунктом стоял нестерпимый шум, не заглушаемый даже отчаянными свистками наших и австрийских паровозов. В те времена о воздушной опасности еще никто не думал, но будь перед нами не австрийцы, а немцы с их куда более развитой авиацией, на перевалочном пункте, представлявшем отличную мишень для бомбометания сверху, не обобрались бы хлопот.
Перегрузка моей злополучной конюшни не заняла много времени, и скоро я ехал уже по направлению к прежней государственной границе почти по той же дороге, по которой двигался вместе с полком в начале войны.
Навстречу мне тянулись воинские эшелоны с пополнением, идущим на фронт. В тыл я ехал не по своей охоте и все-таки не мог побороть в себе чувства неловкости перед теми, кто из теплушек встречных поездов провожал меня завистливым взглядом.
Примечания
{8} У австрийского самолета после нестеровского тарана отвалилась правая коробка крыла.
{9} В этом месте в воспоминаниях М. Д. Бонч-Бруевйча имеется неточность. По архивным данным, в австрийском самолете находились двое: офицер барон Фридрих Розенталь и унтер-офицер Франц Малина. Один из них выпал из самолета после тарана.
{10} Высшее командование не только «делало вид»; судя по всему, оно доверилось выкраденному в свое время из австрийского штаба плану стратегического развертывания и, не умея вести надлежащую разведку, считало, что австрийцы развернулись в приграничной зоне. На деле зона эта охранялась ландштурмистами и полицией, а кадровая армия разворачивалась на 100-120 километров западнее. Этим и объясняются многие просчеты штаба Юго-Западного фронта в первые дни войны.
{11} Радко-Дмитриев (точно — Дмитриев, Радко) — болгарский генерал (1859-1918), выдвинувшийся во время войны между Болгарией и Турцией в 1913 г. С 1913 г. — болгарский посланник в Санкт-Петербурге. С началом мировой войны вступил в русскую армию, порвав с ориентировавшимся на союз с Германией болгарским правительством. Командовал последовательно 7-м армейским корпусом, 111-й армией, 2-м сибирским корпусом, 12-й армией.
{12} Второе «я» (лат.}.
{13} Характеристика М. В. Алексеева как военачальника, даваемая М. Д. Бонч-Бруевичем, выражает его личные взгляды и далеко не во всем совпадает с мнениями других военных историков и мемуаристов (Ред.).
Глава четвертая
Нравы штаба фронта. — Очковтирательство генерала Ренненкампфа. — Генерал Флуг и его «стратегические вензеля». — Моя работа в качестве генерал-квартирмейстера штаба фронта. — Передача Северо-Западному фронту Варшавы и Новогеоргиевска. — Переезд в Седлец. — — Бои за Варшаву. — Доблесть сибирских полков. — Попытка превратить Рузского в «спасителя» Варшавы. — У великого князя Николая Николаевича. — Приезд царя. — Интересы династии и интересы России.
Находившийся в Белостоке штаб Северо-Западного фронта разместился в казармах стоявшего здесь до войны пехотного полка. В бывшей квартире командира полка, где жили состоящий для поручений при Рузском полковник и два адъютанта, нашлась свободная комната. Рузский предложил мне поселиться в ней, и я сделался соседом двух адъютантов главнокомандующего: поручика Гендрикова и вольноопределяющегося лейб-гвардии Кавалергардского полка графа Шереметьева. Гендриков и вскоре произведенный в корнеты Шереметьев были предупредительными и по молодости лет неизменно веселыми офицерами, состоящий для поручений полковник почти никогда не бывал дома, и я, таким образом, не мог пожаловаться на своих сожителей.
Я был назначен в распоряжение главнокомандующего. Генерал-квартирмейстером штаба был генерал-майор Леонтьев, но судьба его была уже предрешена. Обросшего солидной бородой, очень сурового и импозантного внешне, но бесхарактерного и беспринципного Леонтьева и знал еще много лет назад как однополчанина по лейб-гвардии Литовскому полку, в который я был выпущен после окончания военного училища.
После армии штаб фронта неприятно поразил меня своей пышностью и излишним многолюдством. Кроме штатных сотрудников, при штабе болталось огромное количество самой разнообразной военной и полувоенной публики: уполномоченных, корреспондентов и пр.
Предшественник Рузского на посту главнокомандующего, завел в штабе чуть ли не придворные нравы; чопорность и ненужная церемонность будущих моих товарищей по службе удручали меня. К счастью, Рузский был очень прост в обращении с подчиненными, и эта простота скоро заставила штабных «зевсов»{14} отказаться от того священнодействия, в которое они превращали любое свое даже самое незначительное занятие.
Мой вызов из 3-й армии и предположенная Рузским замена Леонтьева были, как я вскоре узнал, вызваны следующими обстоятельствами. После разгрома немцами 2-й армии генерала Самсонова и поражения, нанесенного 1-й армии, которой командовал генерал Ренненкампф, прославившийся своими карательными экспедициями при подавлении революции пятого года, Леонтьев был послан в Ставку. Докладывая «верховному», которым тогда был великий князь Николай Николаевич, беспринципный Леонтьев всячески обелял влиятельного, имевшего большие связи при дворе Ренненкампфа.
Последний, несмотря на паническое отступление его армии к Неману, дал телеграмму царю о том, что «войска 1-й армии готовы к наступлению», и, воспользовавшись услугой, которую оказал ему Леонтьев, убедил начальника штаба Ставки генерала Янушкевича в полной боеспособности своей армии,
Зная Ренненкампфа еще по совместной службе в Киевском военном округе как пустого и вздорного офицера, Рузский заподозрил неладное — в поражении 1-й и 2-й армий больше кого бы то ни было виноват был именно этот генерал, которого народная молва уже называла продавшимся немцам изменником.
Поэтому тотчас же после моего прибытия в штаб фронта Рузский поручил мне выяснить численный состав и боеспособность 1-й армии. Из представленного мною письменного доклада было видно, что армия Ренненкмпфа совершенно растрепана; почти во всех пехотных полках не хватало одного, а то и двух батальонов, в батареях — орудий; многие части остались без обозов, потеряв их в Восточной Пруссии; во время панического отступления были брошены зарядные ящики…
Вопреки заявлению Ренненкампфа, свой доклад я заканчивал выводом о том, что «1-я армия неспособна к наступлению». Внимательно выслушав меня. Рузский отдал приказ об отводе главных сил армии на правый берег Немана. Одновременно, основываясь на моем докладе, главнокомандующий потребовал срочного укомплектования ее людьми, лошадьми и всеми видами материальной части и снабжения.
К чести военного министерства и интендантства все затребованное Рузским было доставлено полностью и в срок, но это оказалось последним усилием неподготовленного к войне, уже истощившего все свои ресурсы военного ведомства.
Не многим лучше, нежели в 1-й армии, было положение и в 10-й, которой командовал генерал Флуг, тупой и чванливый немец. Вероятно, под влиянием военной литературы, в изобилии появившейся после русско-японской войны, он вознамерился поразить мир своими стратегическими талантами. Решив окружить германские главные силы, Флуг начал проделывать какие-то непонятные маневры, сводившиеся к фронтальному медленному наступлению одних корпусов и к захождению плечом других.
Такое направление корпусов 10-й армии вызвало у меня вполне резонные опасения, что корпуса эти очень скоро столкнутся друг с другом; а наружный фланг тех, что заходят с юга левым плечом, будет атакован германскими войсками. В это время Леонтьев был уже освобожден от должности, и я действовал в качестве генерал-квартирмейстера штаба фронта. По моему настоянию, генерал Флуг был вызван в Белосток. Прижатый к стенке, он так и не мог сколько-нибудь членораздельно объяснить необходимость всех тех «стратегических вензелей», которые по его вине описывали входившие в 10-ю армию корпуса.
Вскоре Флуг был отчислен от должности и заменен более способным и разумным генералом. Штаб Северо-Западного фронта все еще производил на меня гнетущее впечатление. Я прибыл из действующей армии, пережил Галицийскую битву с ее колебаниями то в нашу пользу, то в пользу австро-венгерской армии, привык к напряженной работе и бессонным ночам и уже воспитал в себе фронтовую выносливость и уменье работать когда угодно и где угодно. Здесь, в штабе фронта, стояла сонная одурь. Штабные воротилы, словно заранее решив, что с немцами все равно ничего не поделаешь, беспомощно опустили руки. Противник засел в Восточной Пруссии, умело укрепился и благодаря густой железнодорожной сети имел возможность идеально маневрировать и бросать нужные силы в любом направлении. Поэтому штаб предпочитал отсыпаться и откровенно бездельничал. В войсках же царило уныние, вызванное небывалой катастрофой, постигшей две отлично вооруженные, полностью укомплектованные русские армии-застрелившегося Самсонова и куда более виновного, но оставшегося здравствовать Ренненкампфа.
В таком подавленном настроении я и переехал вместе со штабом сначала в Волковыск, а затем в очаровательное, старинное Гродно. Превращенный в крепость, город поражал обилием старинных зданий, тесными, узкими улочками, многочисленными садами и отлично сохранившейся, построенной еще в XII веке, прилепившейся к крутому берегу Немана церковью Бориса и Глеба.
В Гродно штаб разместился в здании реального училища, находившегося неподалеку от так называемой Швейцарской долины — городского сада, разбитого по высоким берегам журчавшего где-то внизу ручья.
Едва мы прибыли в Гродно, как из Ставки пришла обрадовавшая меня директива, в силу которой весь район левого берега Вислы к северу от реки Пилицы вместе с Варшавой и крепостью Новогеоргиевск придавался нашему фронту. В районе между Пилицей и верхним течением Вислы действовала переброшенная из Галиции 5-я армия, которой командовал отличный боевой генерал Плеве. Под Варшавой сосредоточивалась и 2-я армия нового состава, сформированная взамен погибших в Мазурских болотах корпусов.
22 сентября 1914 года Рузский был вызван в Ставку, куда в это время приехал Николай II. Вернувшись в штаб фронта, Рузский рассказал мне, что получил «высочайшую аудиенцию», во время которой царь зачислил его в свою свиту и присвоил ему звание генерал-адъютанта. Присутствовавший при этом великий князь Никола Николаевич подарил Рузскому генерал-адъютантские погоны, приказав срезать их со своего пальто.
Вскоре началось немецкое наступление на Варшаву, штаб фронта переехал в Седлец. Отправление поезда главнокомандующего было назначено на полночь, но еще часам к девяти вечера все в моем управлении было готово к отъезду. Сидение в рабочем кабинете мне порядком наскучило, и я решил остающиеся до отхода поезда часы побродить по городу.
Шла осень, с утра моросил назойливый дождь, и на главной в городе Соборной улице было не очень людно. Но магазины и кондитерские еще торговали; по узким тротуарам род руку с местными девицами шагали фланирующие прапорщики; грохоча железными шинами по булыжнику мостовой, проезжали извозчичьи пролетки, светилась электрическая вывеска «иллюзиона», и у входа в него толпились великовозрастные гимназисты, писари и те же вездесущие прапорщики… И даже не верилось, что противник находится совсем недалеко от города, что не за горами то время, когда по улицам вот точно так же начнут разгуливать и толпиться у дверей «иллюзиона» немецкие лейтенанты, а те же девицы будут, как и сейчас, взвизгивать от сальных анекдотов.
Я не успел еще расположиться в новой своей квартире, отведенной в Седлеце, как дежурный по телеграфу офицер подал мне телеграммы, уже полученные от штабов, входивших в состав фронта армий. Судя по этим телеграммам, под самой Варшавой завязались упорные бои; на окраине польской столицы рвались снаряды германской тяжелой артиллерии, но в Праге, варшавском предместье на правом берегу Вислы, высаживались из эшелонов сибирские полки и через весь город шли к его западной окраине.
Доблесть сибирских полков решила судьбу Варшавы. Немцы, не приняв удара, начали отходить, и польская столица, хотя и на непродолжительное время, была спасена.
Участок к северу от реки Пилицы с Варшавой и Новогеоргиевском был передан Северо-Западному фронту из Юго-Западного в тот критический момент, когда немцы готовы были захватить Варшаву и прорваться на правый берег Вислы. Намеченное Ставкой и состоявшееся в это время сосредоточение в Варшаве 2-й армии разрушило замыслы германского генерального штаба. В отражении германской армии от польской столицы выдающуюся роль сыграли сибирские полки, которые, едва выгрузившись, с ходу пошли в наступление.
По времени эти наши неожиданные успехи совпали с передачей варшавского боевого участка Рузскому, и его немедленно произвели в «спасители» Варшавы.
Не без участия штабных интриганов возникла идея поднести Рузскому от имени благодарного населения польской столицы почетную шпагу «за спасение Варшавы». Об этом вел переговоры с главнокомандующим некий прапорщик Замойский, поляк по происхождению, ранее служивший ординарцем при Ставке верховного главнокомандующего.
Предложение это было сделано Рузскому в тяжелые для нас дни Лодзинского сражения, о котором я расскажу позже. У главнокомандующего нашлось достаточно такта для того, чтобы не присваивать себе чужих заслуг. Заказанная оружейникам дорогая шпага так и осталась ржаветь в граверной мастерской.
В Седлеце штаб фронта простоял сравнительно долго. Около вокзала была реквизирована чья-то пустовавшая пятикомнатная квартира, и в ней поместился Рузский со своими адъютантами и штаб-офицером для поручений.
Квартира главнокомандующего находилась во втором этаже добротного дома, третий этаж его занял сухопарый со щегольскими усиками, всегда подтянутый начальник штаба генерал Орановский со своим личным секретарем военным чиновником Крыловым.
Управление генерал-квартирмейстера расположилось дома за два от главнокомандующего и тоже заняло два этажа под свою канцелярию и квартиры сотрудников.
В числе моих сотрудников был и капитан Б. М. Шапошников, сделавшийся впоследствии начальником Генерального штаба РККА и маршалом Советского Союза. Конечно, тогда, в конце 1914 года, мне и в голову не приходило, что этот скромный и исполнительный капитан генерального штаба превратится в выдающегося военного деятеля революции. Занятый разработкой оперативных вопросов, я замкнулся в тесном кругу своих сотрудников и мало интересовался тем, что происходит в Седлеце,
Мой рабочий день начинался с того, что полевой жандарм входил в мой кабинет и брал с подзеркальника большого трюмо заклеенный накануне пакет с бумагами, предназначенными на подпись начальнику штаба. Часов в десять утра все эти бумаги снова и тоже в запечатанном пакете возвращались ко мне и направлялись по назначению.
Пока заготовленный с вечера пакет был у генерала Орановского, я изучал по карте утренние оперативные и разведывательные сводки. Наконец в одиннадцать часов я шел к начальнику штаба, докладывал содержание сводок, и после небольшого обмена мнениями оба мы отправлялись к главнокомандующему.
Очередной доклад начальника штаба происходил в моем присутствии и начинался с разбора по карте последних сводок. На столе у генерала Рузского всегда лежала стратегическая карта театра военных действий армий Северо-Западного фронта; обычно ее дополняли карты крупного масштаба тех районов, где происходили наиболее значительные боевые действия.
Докладывать Рузскому, как я уже говорил, было трудно, и мне, чтобы не попасть впросак, приходилось подолгу и тщательно готовиться к этим докладам.
Генерала Орановского, не привыкшего к таким порядкам, доклады у главнокомандующего явно тяготили; эти своеобразные экзамены приходилось держать два раза в день, а во время крупных сражений и чаще.
После доклада Рузский приглашал начальника штаба и меня к обеду, приносившемуся из столовой офицерского собрания.
За обеденный стол приглашались и полковник для поручений и оба адъютанта главнокомандующего. Посторонние бывали крайне редко. Обед и неизбежные за ним разговоры продолжались около часа, после чего все расходились по домам.
Около семи вечера на пороге моего кабинета появлялся полевой жандарм.
— Вас, ваше превосходительство, просит начальник штаба его превосходительство генерал Орановский,- выслушивал я стереотипную, до отказа набитую двумя генеральскими титулами фразу и шел к главнокомандующему.
После вечернего доклада все мы ужинали у Рузского.
Остаток вечера и часть ночи уходили на подчиненных мне начальников отделений, и только к двум часам я получал, наконец, бумаги и телеграммы, которые окончательно редактировал, подписывал и собирал в пакет для. утренней отсылки генералу Орановскому.
Таков был распорядок в те дни, когда на фронте ничего существенного не происходило. Но и тогда я хронически недосыпал. Когда же начинались серьезные операции и в довершение ко всем обычным делам приходилось часами сидеть на прямом проводе и отрываться от всяких других занятий, чтобы приготовить для главнокомандующего или начальника штаба внезапно понадобившуюся справку, то и сам я и офицеры моего управления работали круглые сутки; даже обедать приходилось на ходу и далеко не всегда…
В конце октября Рузский был вызван в Ставку. Вместе с ним в Барановичи, где стоял поезд великого князя Николая Николаевича, выехал и я. К этому времени я был награжден георгиевским оружием. Награждение это, по словам Рузского, исходило от верховного главнокомандующего, и я обязан был представиться ему и поблагодарить.
Приехав отдельным поездом в Барановичи, мы отправились в вагон-приемную великого князя. Ждать нам не пришлось, почти тотчас же из второго вагона, в котором был устроен кабинет, вышел Николай Николаевич и, не говоря ни слова, обнял и поцеловал Рузского.
Великого князя я видел еще до войны. Он остался таким же длинным и нескладным, каким был, с лошадиным, как говорят, лицом и подслеповатыми глазками.
Поцеловав Рузского, великий князь начал горячо благодарить его за отражение немцев от Варшавы. Рузский представил меня; Николай Николаевич поблагодарил, но уже небрежно, и меня и поспешно ушел к себе,
Как только «верховный» вышел из вагона, Рузский сделал удивленную мину и, усмехаясь, сказал:
— А я и не подозревал, что Ставка примет за крупный успех самые обыкновенные действия.
— Должно быть, Ставка настолько утомилась незначительными действиями обоих фронтов, что верховный неслучайно так бурно отзывается на удачу под Варшавой, — ответил я главнокомандующему.
— Ну что ж, успех, так успех! Пусть так и будет,- заключил Рузский.
Обедать мы были приглашены в вагон-столовую великого князя. Обедали за столиками, рассчитанными на четырех человек; вместе с Николаем Николаевичем сидели его брат, великий князь Петр Николаевич, и Рузский.
За обедом было объявлено, что между пятью и шестью часами в Ставку приедет государь. Около пяти часов генерал Рузский и я вышли на платформу.
Едва подошел царский поезд, как дворцовый комендант генерал Воейков доложил Рузскому, что государь приглашает его к себе.
Минут через пятнадцать Николай Владимирович вышел из царского вагона и, подозвав меня, рассказал, что царь в благодарность за отражение германцев от Варшавы наградил его орденом святого Георгия 2-й степени.
Он достал из кармана пальто роскошный футляр и показал мне врученный ему царем блистательный орден — белый крест на золотой звезде.
— Вам, Михаил Дмитриевич, я особо благодарен за помощь,- расчувствовавшись, сказал Рузский,- будьте уверены, что я не отпущу вас без георгиевского креста.
Я горячо поблагодарил главнокомандующего, и мне, знавшему Рузского много лет, и в голову не пришло, как внутренне изменился этот еще недавно прямой и честный генерал за те несколько месяцев, когда волей судьбы его неожиданно приблизили к высшим сферам. Видимо, яд царедворства уже попал в его душу, и отсюда и появилась та двуличность, которую я потом не раз наблюдал в нем.
Я работал совместно с Николаем Владимировичем не в одном еще штабе. Он имел полную возможность выполнить свое обещание насчет георгиевского креста, но не сделал этого, обнаружив, что двор и сама царская семья относятся ко мне недоброжелательно.
Вернувшись из Ставки, Рузский отдал приказ о давно подготовленном наступлении в глубь Германии и, чтобы быть поближе к наступающим войскам, переехал с начальником штаба и управлением генерал-квартирмейстера в Варшаву.
В Варшаве мы расположились в Лазенковском дворце; обычно в нем проживала свита высоких особ, приезжавших в польскую столицу. Многочисленные комнаты были обставлены тяжелой мебелью, сохранившейся еще с восемнадцатого века, и от мебели этой, каминов и старомодных печей, от каких-то коридорчиков и переходов, которыми был так богат дворец, отдавало уютом старинных помещичьих усадеб.
Переезд в Варшаву доставил мне немалую радость. Я очень любил эту нарядную, богатую контрастами, резко отличную, даже от крупнейших наших городов польскую столицу. Неповторимо красивая, с отлично сохранившимися средневековыми постройками, с обворожительными польками, которых даже наши многоопытные гвардейские «ромео» считали самыми красивыми женщинами в мире, она, кажется, имела даже свой особый запах, отличный от всяких других.
Привязанность моя к Варшаве была вызвана и тем, что в ней прошла моя военная молодость: три года — с 1892 по 1895-я прослужил здесь в лейб-гвардии Литовском полку. Уехав в Петербург в Академию Генерального штаба, я побывал потом в пленившей меня польской столице только один раз, и то проездом.
С тех пор прошло больше десяти лет, но Варшава почти не изменилась. Новостью для меня оказался лишь отличный каменный мост через Вислу, продолживший так называемую Иерусалимскую аллею — шумную и многолюдную улицу польской столицы.
Но как ни приятны были воспоминания молодости, на душе у меня стоял какой-то мрак. Приезд в Варшаву ознаменовался неожиданным и непонятным отходом 2-й армии, на которую мы с Рузским возлагали столько надежд в начавшейся операции против главных германских сил. Три месяца пребывания на высоких штабных должностях не прошли для меня даром: если перед войной я на многие нелепости и уродства нашего строя .мог еще смотреть сквозь розовые очки, то, осведомленный теперь больше, чем многие из моих соратников, я отчетливо видел угрожающие трещины, обозначившиеся на огромном здании Российской империи. Здание это грозило рухнуть, похоронив под обломками своими и то, что было мне особенно дорого,- русскую армию.
Правда, крах этот должен был наступить не завтра и не послезавтра. Но трещины уже появились, их делалось все больше и больше, и я все сильней разочаровывался в строе, который должен был отстаивать от врагов «внешних и внутренних».
Должности генерал-квартирмейстера, которые я последовательно занимал, сначала в 3-й армии, а затем в штабе Северо-Западного фронта, открывали передо мной завесу, этично прикрытую для всех. По существовавшему в войсках положению, в ведении генерал-квартирмейстера находились разведка и контрразведка.
Тайная война, которая велась параллельно явной, была мало кому известна. О явной войне трещали газеты всех направлений, ее воспроизводили бесчисленные фотографии и киноленты, о ней рассказывали миллионы участников-солдат и офицеров.
О тайной войне знали немногие. В органах, которые занимались ею, все было строжайшим образом засекречено. Я по должности имел постоянный доступ к этим тайнам и волей-неволей видел то, о чем другие и не подозревали.
Видел я и с какой ужасающей безнаказанностью еще : первых дней войны хозяйничала в наших высших штабах германская и австрийская разведки, и это немало способствовало моему разочарованию в старом режиме.
Читателю, особенно молодому, многое из того, о чем я рассказываю, покажется неправдоподобным. Да и как может читатель, знающий высокую бдительность советского народа, не забывший о том, как беспощадно расправлялись у нас в Великую Отечественную войну с фашистскими шпионами и пособниками, представить себе доходившую до прямой измены глупость и беспечность, с которыми относились в царской России к сохранению военной и государственной тайны.
С вездесущим «немецким засильем» во время войны с Германией не только мирились, но доходили до того, что в людях, боровшихся с этим губительным для страны явлением, видели «крамольников», подрывавших устои династии.
В близких к императорскому двору сферах полагали, что интересы России и династии отнюдь не одно и то же; первые должны были безоговорочно приноситься в жертву последним.
Сторонники этой «доктрины» утверждали, что преследование даже уличенных в шпионаже «русских» немцев подрывает интересы царствующего дома. Тот вред, который наносился истекающей кровью, преданной и проданной армии, во внимание не принимался, если речь шла о близких ко двору людях. Наконец, проще было валить вину за фронтовые неудачи на шпионаж, якобы осуществляемый пограничной еврейской беднотой, нежели углубляться в родственные связи царствующей династии с германским императором и многочисленными немецкими принцами и князьями.
Примечания
{14} Зевс — бог-громовержец у древних греков. Здесь в переносном смысле: громовержцы, крикливые начальники.
Глава пятая
Австро-германская разведка. — Неподготовленность русской разведки к войне. — Лодзинская операция и причины ее неудачи. — Дело военного чиновника Крылова. — Замена Рузского генералом Алексеевым. — Великий князь Николай Николаевич и немецкое засилье. — Разоблачение полковника Мясоедова. — «Сухомлиновщина». — Мое назначение в 6-ю армию.
Еще в начале века в теории и практике военного дела укрепилось мнение, что война требует длительной подготовки. В этой подготовке видное место отводилось разведывательной деятельности. Одним из наиболее действенных средств такой деятельности являлся шпионаж. Борьба со шпионажем потребовала и создания специальной организации — контрразведки.
Перед первой мировой войной разведку и контрразведку вели и Германия, и Австро-Венгрия, и Россия.
В Германии разведывательная служба сосредоточивалась в 3-м отделе Генерального штаба. После русско-японской войны германская разведка превратилась в сильную организацию, направленную в значительной мере против России, модернизация армии которой шла быстрыми темпами и требовала постоянного освещения. Развитию германской разведки способствовало и усиление действовавшей против Германии разведки Франции.
Морская разведка Германии ставила перед собой особые задачи, велась самостоятельно и вне связи с общевойсковой и была направлена в основном против Англии.
В России разведывательная деятельность сосредоточивалась до войны в главном управлении Генеральной штаба, в составе которого были созданы отделы, ведающие разведкой на будущих фронтах: германском, австро-венгерском, турецком.
Разведку вели и штабы военных округов, в которых Тыл и созданы разведывательные отделения, поначалу названные отчетными. На время войны предполагалась разведка средствами войск.
Оставшись без нужной техники, русская армия к началу войны если и не оказалась без разведки, то, во всяком случае, знала о противнике куда меньше, нежели следовало.
Правда, штаб Киевского военного округа еще задолго до войны вел разведку австро-венгерских вооруженных сил, изучал их командный состав, организацию и структуру, тактику и технические средства. На территории будущего противника создавалась агентура, и это, конечно, оправдало себя.
Штаб Варшавского военного округа разведывал германскую армию, получая от своей разведки немало ценных сведений. И вместе с тем в этом же первостепенном округе разведка все-таки была в забросе. Начальник разведки округа имел в своем распоряжении всего десяток агентов. Некоторые из них оказались «двойниками», работавшими и на нас, и на немцев.
Кустарщина царила во всем. Завербованных агентов снимали в обычных коммерческих фотографиях. Немцы воспользовались этим и начали собирать целые коллекции таких снимков, помогавших им легко разоблачать засылаемых в Германию разведчиков.
На организацию разведки, без которой нельзя вести сколько-нибудь успешные военные действия, округу отпускались ничтожные деньги — тысяч тридцать в год, заведомая мелочь сравнительно с тем, что тратили на шпионаж центральные державы — Германия и Австрия.
Мало что делалось и в области контрразведки.
С началом войны контрразведке стали уделять некоторое внимание, но постановка этого дела была порочна в самой своей основе.
При штабе каждой армии состоял по штату жандармский полковник или подполковник, который отвечал за контрразведку. Жандармский корпус издавна занимался борьбой с «крамолой», понимая под ней все, что могло угрожать или даже быть неприятным тупому и злобному самодержавию. Попав в действующую армию, жандармские полковники и подполковники продолжали по старой привычке рьяно искать ту же «крамолу».
Никакой связи контрразведки с боевыми операциями и тактическими действиями наших войск с целью прикрытия их от разведки противника жандармские офицеры эти наладить не могли, ибо не знали оперативной и тактической работы штабов и были недостаточно грамотны в военном деле.
Неприятельские лазутчики безнаказанно добывали в районе военных действий нужные сведения, делая это под носом таких «контрразведчиков», для которых случайно обнаруженная листовка была во много раз важнее, нежели явное предательство и измена в армии. Понятно, что германский генеральный штаб широко использовал эту нашу слабость.
Вступив в войну, Германия не имела еще организованной контрразведки. Но по мере развертывания военных действий германский генеральный штаб широко развернул борьбу со шпионажем противника, поручив ее тому же 3-му отделу. Что же касается разведки, то еще задолго до войны немцы создали разветвленную сеть не только в пограничной полосе, но и в глубинных районах России. Осведомленность германского Генерального штаба была такова, что немцы не раз узнавали даже о самых секретных замыслах русского командования. Так было, например, с Лодзинской операцией.
Целью этой операции, предпринятой в октябре 1914 года, было наступление на берлинском направлении с вторжением в пределы Германии. Но во все периоды Лодзинской операции штаб Северо-Западного фронта сталкивался с ошеломляющей осведомленностью германской разведки.
Узнав о наших замыслах, германское командование решило прорвать русский фронт у Лечицы и двинуло с этой целью армию генерала Макензена. Генералу Плеве, командовавшему 5-й армией, удалось взять прорвавшиеся немецкие войска «в мешок» и приостановить дальнейшее наступление противника. Тогда германские войска были двинуты в обход другого нашего фланга, и хотя операция эта закончилась неудачей, русское наступление на Берлин провалилось, и мы вынуждены были перейти к бесперспективной позиционной войне.
С происками тайной разведки противника я столкнулся б первые месяцы войны, едва вступив в должность генерал-квартирмейстера 3-й армии.
Способности и опыт полковника Духонина я явно переоценил, сколько-нибудь действующей контрразведки в штабе армии не оказалось, и очень скоро я убедился, как легко и просто австрийское командование получает нужные ему секретные сведения.
Готовясь к войне с Россией, австрийский Генеральный штаб создал на территории нашего пограничного с Австрией военного округа широко разветвленную агентуру. Его тайными агентами были преимущественно управляющие имениями, обычно немцы, чехи, поляки, давно завербованные австрийской разведкой.
Немало таких агентов было и среди руководителей всякого рода промышленных предприятий и торговых фирм, особенно среди заведующих складами сельскохозяйственных машин и орудий. Такое невинное дело, как продажа конных плугов или сенокосилок, часто было лишь ширмой для тайной разведки будущего противника.
Отличная агентурная сеть была подготовлена австрийкой разведкой и на территории Галиции, являвшейся вероятным театром войны.
Тайные австрийские агенты не только сообщали неприятельскому командованию сведения о русских войсках, но занимались и подрывными действиями: перерезали телефонные провода, взрывали водокачки и т. п. Особенно активно действовала вражеская агентура во время сражения на подступах к городу Львову — на реках Золотая Липа и Гнилая Липа.
Вскоре, как знает уже читатель, я был назначен генерал-квартирмейстером штаба Северо-западного фронта и с увлечением взялся за новые свои обязанности; огромные масштабы фронта открывали неограниченные возможности для оперативного творчества. Но каково было мое возмущение, когда спустя некоторое время я прочел в доставленной мне немецкой газете буквально следующее: «Генерал Бонч-Бруевич в настоящее время занят разработкой наступательной операции…» Далее приводились такие подробности разрабатываемой мною операций, которые были известны лишь строго ограниченному числу особо доверенных лиц.
Я никогда не страдал «шпиономанией», но уже первое знакомство с материалами контрразведки фронта заставило меня ужаснуться и повести борьбу с немецким шпионажем куда с большей настойчивостью и упорством, нежели я это делал в 3-й армии.
Немало зла приносили непонятная доверчивость и преступная беспечность многих наших генералов и офицеров.
Просматривая в качестве генерал-квартирмейстера штаба фронта секретные списки лиц, заподозренных в шпионаже, я натолкнулся на фамилию военного чиновника Крылова, секретаря… самого генерала Орановского. До войны генерал возглавлял штаб Варшавского военного округа, и тем непонятнее была его слепота.
Внимание контрразведки Крылов привлек некоторыми подробностями своей жизни. Форменная одежда Крылова была пошита из сукна очень высокого качества, сам он курил дорогие сигары и часто ездил из Белостока, где тогда стоял штаб армии, в Варшаву, не очень стесняя себя в польской столице и расходуя на это немалые деньги. Крылов жил явно не по средствам. По службе он имел доступ к особо секретным документам, и это заставило назначить за ним наблюдение.
Спустя некоторое время контрразведка установила, что, пользуясь неограниченным доверием начальника штаба фронта, Крылов делает выписки из важных бумаг, проходивших через его руки, и передает их поставщикам военно-экономического общества в Варшаве. Последние же отдавали их связным немецкой разведки. Связных этих не удалось задержать — они перебрались через фронт; Крылов же и уличенные в шпионаже поставщики были переданы судебным властям.
Дело Крылова заставило пристально вглядеться в то, что творилось в частях армии. У некоторых из них были свои поставщики (маркитанты), занимавшиеся более чем подозрительными делами.
Весной 1915 года генерал Рузский заболел и уехал лечиться в Кисловодск. Большая часть «болезней» Николая Владимировича носила дипломатический характер, и мне трудно сказать, действительно ли он на этот раз заболел, или налицо была еще одна сложная придворная интрига. Уход Рузского сопровождал отданный в Царском Селе “высочайший” рескрипт. Рескрипт этот Николай II заканчивал следующими фальшивыми словами, свидетельствующими о нежелательности оставления Рузского в действующей армии:
“Ценя в вас не только выдающегося военачальника, но также опытного и просвещенного деятеля по военным вопросам, каковым вы зарекомендовали себя, как член Военного совета, я признал за благо назначить вас ныне членом Государственного совета”.
Главнокомандующим Северо-Западного фронта вместо Рузского был назначен генерал-от-инфантерии Алексеев. У него была манера обязательно перетаскивать с собой на новое место особо полюбившихся ему штабных офицеров. Перебравшись в штаб Северо-Западного фронта, Алексеев перетащил туда и генерал-майора Пустовойтенко. Я остался без должности и был назначен “в распоряжение” верховного главнокомандующего. Высокий пост этот с начала войны занимал великий князь Николай Николаевич. Двоюродный дядя последнего царя страдал многими пороками, присущими роду Романовых. Он не хватал звезд с неба и был бы куда больше на месте в конном строю, нежели в Ставке. Даже сделавшись верховным главнокомандующим, он оставался таким же рядовым кавалерийским офицером, каким был когда-то в лейб-гвардии гусарском полку.
Наследственная жестокость и равнодушие к людям соединялись в нем с грубостью и невоздержанностью. Но при всем этом Николай Николаевич был намного умнее своего венценосного племянника, которого еще в пятом году уговорил подписать пресловутый манифест. Наконец, он искренне, хотя и очень по-своему, любил Россию и не мог не возмущаться тем, что делалось в армии.
— У меня нет винтовок, нет снарядов, нет сапог,- жаловался он еще в первые месяцы войны,- войска не могут сражаться босыми.
Тогдашнего военного министра Сухомлинова{15} он не выносил и считал главным виновником тяжелого положения, в котором оказалась русская армия. Арест связанного с военным министром полковника Мясоедова укрепил великого князя в этих его предположениях и заставил заговорить о “немецком засилии”.
Жандармский полковник Мясоедов служил в начале девятисотых годов на пограничной станции Вержболово и не раз оказывал всякого рода любезности и Одолжения едущим за границу сановникам. Коротко остриженный, с выбритым по-актерски лицом и вкрадчивым голосом, полковник охотно закрывал глаза на нарушение таможенных правил, если оно исходило от влиятельных особ, и скоро заручился расположением многих высокопоставленных лиц, в том числе и командовавшего войсками Киевского военного округа генерала Сухомлинова.
Одновременно Мясоедов поддерживал “добрососедские” отношения с владельцами немецких мыз и имений и отлично ладил с прусскими баронами, имения которых находились по ту сторону границы. К услужливому жандарму благоволил сам Вильгельм II, частенько приглашавший его на свои “императорские” охоты, устраиваемые в районе пограничного Полангена.
С немцами обходительного жандармского полковника связывали и коммерческие дела — он был пайщиком германской экспедиторской конторы в Кибортах и Восточно-азиатского пароходного общества, созданного на немецкие деньги.
Познакомившись с Сухомлиновым, Мясоедов скоро стал своим человеком в его доме. Как раз в это время у Сухомлинова при очень странных и подозрительных обстоятельствах умерла его жена. Поговаривали, что она не сумела отчитаться в находившихся у нее довольно крупных суммах местного Красного Креста.
Старый генерал не захотел остаться вдовцом. Выбор его пал на некую Екатерину Викторовну Бутович, жену полтавского помещика. Согласия на развод Бутович не давал, и тут-то и развернулись таланты Мясоедова. Вместе с группой темных дельцов он взял на себя посредничество между упрямым мужем и Сухомлиновым и занялся лжесвидетельством, необходимым для оформления развода в духовной консистории.
Сделавшись военным министром, благодарный Сухомлинов, несмотря на протесты департамента полиции, ссылавшегося на связи Мясоедова с германской разведкой, прикомандировал услужливого жандарма к контрразведке Генерального штаба.
За два года до войны в связи с появившимися в печати и сделанными в Государственной Думе разоблачениями Мясоедов вышел в отставку. Но едва развернулись военные действия, как он появился у нас, в штабе Северо-Западного фронта.
— Как же нам быть, Михаил Дмитриевич? — растерянно спросил меня Рузский.
Рузский был странный человек, давно вызывавший во мне противоречивые чувства. Мы прослужили вместе в Киевском военном округе не один год, и это казалось достаточным для того, чтобы хорошо его узнать. И все-таки было в нем что-то такое, что не раз ставило меня в тупик.
Николай Владимирович никогда не был оголтелым монархистом, не страдал столь распространенным среди генералитета “квасным патриотизмом” и к императорскому дому относился настолько отрицательно, что мне и другим близким к нему людям неоднократно говаривал:
— Ходынкой началось, Ходынкой и кончится! Но близость ко двору обязывала, и тогда вдруг этот высокопорядочный и вдумчивый человек как бы подменялся типичным придворным льстецом-политиканом. Мгновенно забывались принципы, которым обычно Рузский был верен; улетучивались привычная широта взглядов и критическое отношение к династии; изменял врожденный такт и исчезало обаяние, казалось бы, неотделимое от него.
Так произошло и на этот раз. Заведомо скомпрометированный жандармский полковник прибыл с рекомендательным письмом военного министра. Давнишняя совместная с Сухомлиновым служба обусловила приятельские с ним отношения Рузского. Давно сложились добрые отношения и с последней женой Сухомлинова, которая когда-то до первого своего замужества служила машинисткой у дяди Николая Владимировича — киевского присяжного поверенного.
— Да-с, сложная мне выпала задача,- продолжал Рузский. — Конечно, я не поклонник этого сомнительного жандарма. Но нельзя же не считаться с желанием военного министра. Вы не сможете использовать этого Мясоедова у себя? По отделу контрразведки? — неуверенно спросил он.
Сославшись на то, что контрразведка штаба полностью укомплектована, я посоветовал главнокомандующему отправить Мясоедова обратно в Петроград.
— Что вы, что вы! — замахал на меня руками Рузский.- Да как я после этого встречусь с военным министром?
Он вспомнил о том, что Мясоедов служил в Вержболове и, видимо, отлично знает этот район.
— А что бы нам послать его к генералу Сиверсу? В 10-ю армию? — предложил Рузский, и такова была сила субординации, что я смог лишь довольно робко напомнить о подозрительном прошлом Мясоедова и… замолчать.
Но в декабре 1914 года в Генеральный штаб явился из германского плена подпоручик Колаковский и заявил, что ради освобождения согласился для вида на сотрудничество в немецкой разведке. Направленный для шпионской работы в Россию, он, судя по его словам, получил задание связаться с полковником Мясоедовым, более пяти лет уже состоявшим тайным агентом германского генерального штаба.
Одновременно полковник Батюшин, возглавлявший контрразведку фронта, начал получать донесения о подозрительном поведении Мясоедова. Разъезжая по частям армии и получая от них секретные материалы, Мясоедов чаще всего останавливался в немецких мызах и имениях пограничных баронов. Предполагалось, что именно в результате этих ночевок в германскую армию просачиваются сведения, не подлежащие оглашению. Доносили агенты контрразведки и о том, что Мясоедов занимается мародерством, присваивая себе дорогие картины и мебель, оставшуюся в покинутых помещичьих имениях.
Я приказал контрразведке произвести негласную проверку и, раздобыв необходимые улики, арестовать изменника. В нашумевшем вскоре “деле Мясоедова” я сыграл довольно решающую роль, и это немало способствовало усилению той войны, которую повели против меня немцы, занимавшие и при дворе и в высших штабах видное положение.
Едва был арестован Мясоедов, как в Ставке заговорили об обуревавшей меня “шпиономании”. Эти разговоры отразились в дневнике прикомандированного к штабу верховного главнокомандующего штабс-капитана М. Лемке{16}, журналиста по профессии.
“Дело Мясоедова,- писал он,- поднято и ведено, главным образом, благодаря настойчивости Бонч-Бруевича, помогал Батюшин”.
Для изобличения Мясоедова контрразведка прибегла к нехитрому приему. В те времена на каждом автомобиле, кроме водителя, находился и механик. Поэтому в машине, на которой должен был выехать Мясоедов, шофера и его помощника, как значился тогда механик, заменили двумя офицерами контрразведки, переодетыми в солдатское обмундирование. Оба офицера были опытными контрразведчиками, обладавшими к тому же большой физической силой.
Привыкший к безнаказанности. Мясоедов ничего не заподозрил и, остановившись на ночлег в одной из мыз, был пойман на месте преступления. Пока “владелец” мызы разглядывал переданные полковником секретные документы, один из переодетых офицеров как бы нечаянно вошел в комнату и схватил Мясоедова за руки. Назвав себя, офицер объявил изменнику об его аресте. Бывшего жандарма посадили в автомобиль и отвезли в штаб фронта. В штабе к Мясоедову вернулась прежняя наглость, и он попытался отрицать то, что было совершенно очевидным.
Допрашивать Мясоедова мне не пришлось, но по должности я тщательно знакомился с его следственным делом и никаких сомнений в виновности изобличенного шпиона не испытывал. Однако после казни его при дворе и в штабах пошли инспирированные германским Генеральным штабом разговоры о том, что все это дело якобы нарочно раздуто, лишь бы свалить Сухомлинова.
Из штаба фронта Мясоедова переотправили в Варшаву и заключили в варшавскую крепость. Военно-полевой суд, состоявший, как обычно, из трех назначенных командованием офицеров, признал Мясоедова виновным в шпионаже и мародерстве и приговорил к смертной казни через повешение. Приговор полевого суда был конфирмован генералом Рузским и там же, в варшавской цитадели, приведен в исполнение.
Разоблачение и казнь Мясоедова не могли не отразиться на военном министре. Ставило под подозрение Сухомлинова и вредительское снабжение русской армии, оказавшейся в самом бедственном положении. Наконец, почти открыто поговаривали о том, что военный министр, запутавшись в денежных делах, наживается на поставках и подрядах в армию и окружил себя подозрительными дельцами, едва ли не немецкими тайными агентами.
Я познакомился с Сухомлиновым, когда он был еще начальником штаба Киевского военного округа. После смерти Драгомирова, много лет возглавлявшего округ, Сухомлинов был назначен командующим войсками, и моя совместная с ним служба продолжалась еще не один год. Бывал я у Сухомлинова и после его переезда в Петербург. Но странная компания, постоянно околачивавшаяся в его большой министерской квартире, заставила меня, уже профессора Академии Генерального штаба, воздержаться от дальнейшего знакомства “домами”. Уже и тогда мне была ясна роковая роль, которую играла в жизни не так давно достойного и честного генерала его новая жена.
Не принадлежа к аристократии, Сухомлинова, несмотря на высокое положение мужа, не была допущена в высшее общество Петербурга. Петербургская знать чуждалась Екатерины Викторовны, считая ее “выскочкой”. Очень красивая, хитрая и волевая женщина, она в противовес холодному отношению “света” создала свой кружок из людей, хотя и не допущенных в великосветское общество, но занимавших благодаря своим деловым связям и большим средствам то или иное видное положение. На приемах, которые устраивала у себя жена военного министра, постоянно бывал бакинский миллионер Леон Манташев, иностранные консулы, разного рода финансовые тузы. В сопровождения Манташева она ездила в Египет и там где-то около пирамид ставила любительские спектакли.
Кроме полковника Мясоедова, Екатерине Викторовне в скандальном разводе ее с первым мужем помогали австрийский консул в Киеве Альтшуллер, агент охранного отделения Дмитрий Багров, позже убивший Столыпина, начальник киевской охранки подполковник Кулябко и еще несколько столь же сомнительных людей. Роман Бутович начался у Сухомлинова, когда ему шел седьмой десяток. Старческая страсть к красивой, но беспринципной женщине сделала его слепым, и он, вопреки рассудку, начал протежировать любому из темных дельцов, участвовавших на стороне его жены в бракоразводном процессе. Когда с началом войны решено было выслать, как австрийского подданного, того же Альтшуллера, за него поручился военный министр.
Вскоре стало известно, что Альтшуллер — тайный агент немецкой разведки. Но бывший консул уже находился в Вене и мог лишь смеяться над беспомощностью русской контрразведки.
Близость к военному министру открывала для всех вертевшихся около него людей и прямые возможности для быстрого обогащения — от Сухомлинова зависело не только размещение военных заказов, но и приемка от поставщиков военного снаряжения и вооружения.
В угоду Николаю II, не понимавшему в силу своей ограниченности значения техники в современной войне, Сухомлинов оставил русскую армию настолько технически неподготовленной к ведению военных действий, что уже осенью четырнадцатого года выяснилась ее беспомощность перед технически оснащенным неприятелем.
Широкий образ жизни, который вела жена военного министра, требовал больших денежных средств. И не зря в Петербурге поговаривали о том, что Сухомлинов непрерывно катается по стране, лишь бы набрать для своей требовательной супруги побольше “прогонных”.
Но высокооплачиваемыми “прогонными” дело не ограничивалось, и когда в апреле 1916 года Сухомлинов был наконец арестован и заключен в Петропавловскую крепость, следственные власти обнаружили у него в наличности и на банковском счету шестьсот тысяч рублей, в незаконном происхождении которых трудно было усомниться.
В отличие от своего венценосного племянника, покровительствовавшего проворовавшемуся военному министру, Николай Николаевич занимал по отношению к Сухомлинову непримиримую позицию. Не препятствовал он и разоблачению Мясоедова.
Роль моя в деле Мясоедова, вероятно, побудила верховного главнокомандующего дать мне, едва я попал в распоряжение Ставки, особо важное поручение — ознакомиться с постановкой контрразведывательной работы в армиях и внести свои предложения и пожелания для коренной перестройки этого дела.
Я знал, как дорого обходится нам осведомленность германской тайной разведки, и еще до поручения верховного главнокомандующего занялся улучшением работы контрразведки фронта, непосредственно мне подчиненной. Произведенный в генералы Батюшин оказался хорошим помощником, и вместе с ним мы подобрали для контрразведывательного отдела штаба фронта толковых офицеров, а также опытных судебных работников из учреждений, ликвидируемых в Западном крае в связи с продвижением неприятеля в глубь империи.
Вернувшись из командировки, я написал на имя начальника штаба Ставки генерала Янушкевича подробную докладную записку. Через несколько дней в Ставке стало известно, что я назначаюсь начальником штаба 6-й армии, прикрывающей Петроград.
Примечания
{15} Сухомлинов Владимир Александрович (1848-1926). Первым браком женат на баронессе Корф, вторым, после скандального бракоразводного процесса, на Е. В. Гошкевич-Бутович. В 1909-1915гг. военный министр. В июне 1915 года снят с должности и отдан под суд. Процесс затягивался, и приговор (пожизненная каторга) был вынесен уже после февральской революции.
{16} Мих. Лемке. 250 дней в царевой ставке. Петроград, ГИЗ, ч. 20 г.
Глава шестая
Напутствие верховного главнокомандующего. — Приезд в Петроград. — Фан-дер-Флит и великосветские приемы в штабе. — Световая сигнализация барона Экеспарре. — “Знакомство” с Пиляр-фон-Пильхау. — Коммерческие дела братьев Шпан. — Шпионская деятельность компании Зингер. — Сбор пожертвований на… немецкий подводный флот. — Скандал с полковником Черемисовым.
Своим назначением в 6-ю армию я был обязан тому, что в районе ее и самом Петрограде до крайних пределов усилился немецкий шпионаж. На моей обязанности было помочь престарелому и ветхому главнокомандующему армии Фан-дер-Флиту навести хоть какой-нибудь порядок в столице. Я доложил генералу Янушкевичу о своем намерении положить конец хозяйничанью германской разведки, и он от имени великого князя передал мне, что я могу действовать без опаски и рассчитывать на поддержку верховного главнокомандования.
Еще через день я был приглашен на обед в поезд Николая Николаевича. После обеда великий князь, выйдя в палисадник, разбитый около стоянки, подозвал меня к себе. Взяв меня под руку, он довольно долго гулял со мной по палисаднику, разговаривая о предстоящей мне работе.
— Вы едете в осиное гнездо германского шпионажа,- слегка понизив голос, сказал он мне, — одно Царское село чего стоит. Фан-дер-Флит вам ничем не поможет; на него не рассчитывайте. В случае надобности обращайтесь прямо ко мне, я всегда вас поддержу. Кстати, обратите особое внимание на немецких пасторов, торчащих в Царском Селе. Думаю, что все они работают на немецкую разведку.
Оглянувшись и убедившись, что нас никто не слышит, великий князь попросил меня присмотреться к битком набитому немцами двору Марии Павловны. Вдова великого князя Владимира Александровича и мать будущего претендента на русский престол Кирилла, она до замужества была немецкой принцессой и не могла равнодушно относиться к нуждам родного “фатерланда”.
— Ваше высочество, — взволнованно сказал я, — разрешите заверить вас, что я сделаю все для борьбы с немецким Василием и тем предательством, которым окружена 6-я армия.
Интимный разговор с великим князем продолжался не так уж долго, но едва я расстался с верховным главнокомандующим, как ко мне подлетел полковник из оперативного отделения штаба.
— И везет же вам, ваше превосходительство,- расшаркиваясь, поздравил он меня, намекая не столько на новое мое назначение, сколько на прогулку с великим князем.
Я сделал вид, что не понял этих намеков, и, поблагодарив за поздравления с назначением в 6-ю армию, поспешно покинул моего обескураженного собеседника и, отправившись к себе, начал собираться в дорогу.
25 апреля 1915 года я был уже в Петрограде. Северной Пальмиры, как любили тогда называть столицу, я не видел с начала войны, и она показалась мне ничуть не изменившейся. Как и в, мирное время, Невский заполняла нарядная толпа. По безукоризненно вымытой торцовой мостовой мягко шуршали резиновые шины лакированных экипажей; как и прежде, много было собственных выездов с выхоленными рысаками, мордастыми раскормленными кучерами и порой с ливрейными лакеями на козлах. Дамы щеголяли в модных и едва ли не парижских весенних туалетах, на проспекте было много офицеров, и почти все они носили щегольскую форму мирного времени. О войне ничто не напоминало, кроме, пожалуй, того, что город переименовали в Петроград,- немецкое “Петербург” кому-то наверху показалось не патриотичным. Но никто из коренных петербуржцев и не подумал отказаться от привычного названия, а немецкая речь, хоть и несколько реже, чем до войны, по-прежнему раздавалась в столице империи.
Из Ставки, в то время находившейся в Барановичах, я выехал в своем вагон-салоне и наутро был в Вильно, куда должна была приехать из Киева моя жена. В столицу я прибыл уже вместе с Еленой Петровной.
Квартиры, где можно было бы остановиться, в Петрограде у меня не было, и, приказав коменданту Варшавского вокзала поставить мой вагон на запасный путь, я решил покамест остаться в нем.
Проехав в штаб армии, помещавшийся на верхнем этаже хорошо знакомого здания штаба войск гвардии и Петроградского военного округа, я, стараясь не обращать на себя ничьего внимания, быстро прошел в комнату, на массивных дверях которой висела дощечка: “Кабинет начальника штаба”.
Двери кабинета выходили в обширный зал,- я волей-неволей должен был его пересечь. И то, что я увидел в этом зале, еще раз убедило меня, что Петербург (разумея под этим привилегированную его верхушку) не расположен считать, что идет война, — все было таким, как и год, и два, и много лет назад.
В зале, увешанном портретами начальников штабов чуть ли не за целое столетие, было полно представительных мужчин во фраках, генералов в парадной форме и при орденах, сверкающих бриллиантами дам в дорогих туалетах, оголенных в тех пределах, за которыми “высший свет” уступал место “полусвету”. Ничего похожего я не предполагал увидеть в штабе армии, считавшейся “действующей”. Мне подумалось даже, что я попал не в штаб, а в великосветскую гостиную; казалось, вот-вот грянет музыка и всех позовут к роскошно сервированному столу.
Пройдя в кабинет, я поручил адъютанту выяснить, в чем дело. Немного спустя он доложил мне, что в зале собрались просители, ожидающие выхода главнокомандующего.
— Такие приемы, ваше превосходительство, бывают здесь дважды в неделю,- прибавил адъютант и, поспешно согнав с лица ироническую усмешку, пояснил, что кабинет Фан-дер-Флита находится напротив моего.
Я подал рапорт о вступлении в должность и начал знакомиться со штабной жизнью.
В отличие от других командующих армиями Фан-дер-Флит то ли из-за особого стратегического значения 6-й армии, то ли для того, чтобы не был обижен близкий ко двору генерал, получил право называться главнокомандующим со всеми вытекающими из этого громкого звания преимуществами.
Сама армия состояла из ополченческих бригад, сведенных в армейские корпуса, и должна была оборонять столицу со стороны Финляндии и Финского залива. На армии же лежала оборона подступов к Петрограду в двинско-псковском направлении. Наконец, Фан-дер-Флиту был подчинен и стоявший в Финском заливе Балтийский флот, имевший в своем составе четыре дредноута.
Скоро я понял, что многочисленные посетители приемной Фан-дер-Флита имеют прямое касательство к секретному поручению, которое дал мне великий князь.
Впадающий в детство рамолик, Фан-дер-Флит никак не подходил для такого высокого и ответственного поста. Штабные офицеры охотно сравнивали его с Менелаем из “Прекрасной Елены” — было известно, что престарелый главнокомандующий находится под башмаком у своей супруги, особы чрезвычайно деспотической и заносчивой. Зазнайство “главнокомандихи”, как ее называли штабные вестовые, доходило до того, что даже я, являвшийся по должности правой рукой Фан-дер-Флита, не мог удостоиться и предстать перед ее грозные очи. Долг вежливости обязывал меня в дни больших праздников отправляться к главнокомандующему с визитом, но визиты эти сводились лишь к тому, что я расписывался в особой книге, лежавшей в передней генеральской квартиры Фан-дер-Флита.
Все поведение не в меру “доброго” главнокомандующего определялось указаниями его властолюбивой супруги. Не было дня, чтобы Фан-дер-Флита не одолевали петербургские немцы, с которыми он как истый петербуржец, водил хлеб-соль еще в мирное время; все они успевали до приема заручиться благосклонным отношением всесильной генеральши и ехали на Дворцовую площадь, заранее уверенные в успехе.
Большая часть этих состоявших на русской службе людей немецкого происхождения значилась в списках подозрительных по шпионажу лиц и стремилась, используя старые связи с главнокомандующим и его супругой, избегнуть репрессий и высылки.
Недостатка в людях, занимавшихся в Петрограде борьбой с немецким шпионажем, как будто не было. Кроме подчиненного мне контрразведывательного отделения штаба 6-й армии, которым руководил подполковник Риттих, с немецкой разведкой боролся и начальник контрразведки штаба Петроградского военного округа генерал-майор Тяжельников, мой бывший однополчанин по лейб-гвардии Литовскому полку.
Вялый и безвольный Тяжельников, словно оправдывая свою фамилию, был тугодумом и мало годился для той сложной и рискованной работы, которую ему поручили. Руководимая им контрразведка ходила вокруг да около шпионских организаций и отдельных германских агентов, но расправиться с ними не решалась. Не очень углублялся Тяжельников и в далеко идущие связи немецкой разведки. Ничем, кроме обширного списка лиц, заподозренных в связях с германским генеральным штабом, не мог похвастаться и Риттих. Получалось по пословице — у семи нянек дитя без глазу, — настоящей борьбы с неприятельским шпионажем в Петрограде не велось. А ведь отсюда, из столицы, направлялась вся шпионская подрывная работа.
Просматривая представленный мне подполковником Риттихом пространный список, пестрящий фамилиями известных и влиятельных в столице людей, вроде близкого ко двору Экеспарре{17}, крупного коммерсанта Шпана{18} и т. п., я везде видел меланхолическую отметку: “Продолжать наблюдение”.
— Почему же вы не предпринимаете никаких сколько-нибудь действенных мер? — недоуменно спросил я Риттиха.- Хотя бы в отношении тех, чья причастность к шпионажу уже доказана?
— Видите ли, ваше превосходительство,- замявшись, не сразу ответил подполковник,- его высокопревосходительство генерал Фан-дер-Флит настолько добр, что его ничего не стоит уговорить. И каждый раз, когда мы пытались выслать уличенного в шпионской деятельности петербуржца, заподозренный или его близкие являлись на очередной прием к главнокомандующему, и он тут же приказывал не начинать дела…
Разобравшись в имеющихся у контрразведки материалах, я, помня о поддержке, обещанной мне верховным главнокомандующим, решил не обращать внимания на выживающего из ума Фан-дер-Флита и действовать так, как этого требовала моя совесть.
По мере моего нажима на заподозренных в шпионаже лиц Фан-дер-Флит все чаще выслушивал жалобы на мой скверный характер и излишнюю подозрительность. Не раз генерал с необычной для его возраста прыткостью заскакивал во время штабного своего приема в мой кабинет и выговаривал мне за самоуправство и за то, что я возбуждаю против штаба армии чуть ли не весь петербургский “свет”. Я твердо стоял на своем и, пользуясь тем, что начальник штаба армии непосредственно отвечает за состояние разведки и контрразведки, продолжал аресты и высылки шпионов.
Едва ли не самый большой скандал вызвала высылка гофмейстера двора фон Экеспарре.
Дредноутам, составлявшим основу Балтийского флота, необходим был выход в открытое море. Германские подводные лодки, проникавшие в Финский залив, делали прямой путь опасным. Поэтому вдоль южного берега был проложен секретный фарватер, безопасный от неприятельских мин.
Контрразведка, однако, установила, что каждый раз, когда наши корабли направлялись по этому фарватеру, кто-то сигнализирует об их выходе немцам. Световые сигналы подавались с северной оконечности острова Эзель. Дальнейшее расследование показало, что сигнализацией занимаются служащие расположенного в этой части острова имения действительного статского советника Экеспарре.
Вдоль берегов Финского залива начали курсировать два специально наряженных катера. Немного спустя сигнальные посты в имении Экеспарре были ликвидированы, а сам он под надежной охраной отправлен в Сибирь.
22 июля было тезоименитство вдовствующей императрицы Марии Федоровны, вдовы Александра III. Во дворце состоялся торжественный выход; во время его и хватились Экеспарре.
На следующий день ко мне приехал начальник канцелярии вдовствующей императрицы генерал-лейтенант Волков и спросил, не знаю ли я, где находится бесследно исчезнувший из столицы член Государственного совета Экеспарре?
— А вы почему, ваше превосходительство, спрашиваете меня об этом? — делая недоуменное лицо, осведомился я.
— Да изволите ли видеть, ваше превосходительство,- смущенно сказал Волков,- он ведь немец, а о вас в один голос говорят, что по отношению к ним вы зверствуете чрезвычайно…
— А что я, по-вашему, должен делать с немецкими шпионами? — не выдержал я.
— Да какие там шпионы, ваше превосходительство,- сказал Волков, делая большие глаза,- это все вашим офицерам мерещится — шпион да шпион. Экеспарре, должен вам доложить, отлично воспитанный человек и вхож к ее императорскому величеству…
Я вызвал в кабинет Риттиха и приказал ему в присутствии генерала Волкова повторить обвинения, предъявленные арестованному.
— Что вы, что вы, ваше превосходительство, это все напраслина,- запротестовал Волков, и я понял, что не сумею переубедить ни двор, ни даже этого выслуживающегося генерала.
Еще скандальнее была история барона Пиляр-фон-Пильхау.
Войска 6-й армии и организованного в августе 1915 года Северного фронта в основном располагались на территории Прибалтийского края. Немецкие бароны, владевшие исконными латвийскими, эстонскими и литовскими землями, мечтали о присоединении безжалостно эксплуатируемого ими края к Германии и в связи с продвижением германских войск в глубь России деятельно готовились к “аншлюссу”{19}.
Заинтересовавшись подозрительной деятельностью прибалтийских баронов, в подавляющем большинстве своем причастных к шпионажу, контрразведка натолкнулась на выходящее из ряда вон обстоятельство: оказалось, что в губерниях Курляндской, Лифляндской и Эстляндской наряду с русской администрацией существует и тайная немецкая, возглавляемая бароном Пиляр- фон-Пильхау, тайным советником и членом Государственного совета. Было установлено, что в случае оккупации края созданная бароном администрация будет хозяйничать до тех пор, пока Прибалтика окончательно не войдет в состав Германской империи.
Организация барона Пиляр-фон-Пильхау была настолько законспирирована, что контрразведке удалось расшифровать далеко не всех ее сотрудников, работавших одновременно и в официальных правительственных органах. Но зато агенты контрразведки установили причастность к шпионажу многих выявленных ими тайных сотрудников барона.
По докладу контрразведки фронта я, пользуясь предоставленными мне правами, начал ликвидацию этого шпионского и сепаратистского гнезда. Разоблаченные шпионы были переданы судебным органам, по самой организации был нанесен сокрушающий удар. Был предрешен и вопрос об аресте самого барона.
Опереточный главнокомандующий был к этому времени освобожден от должности, вместо него армию принял снова вернувшийся в войска Рузский, и я полагал, что теперь никто не будет мешать мне бороться с сиятельными немецкими шпионами.
Неожиданно Рузский вызвал меня к себе. Я вошел в знакомый кабинет и увидел развалившегося в кресле рыжего немца с угловатой, словно вытесанной топором, головой. Николай Владимирович не только не казался задетым вызывающей позой посетителя, но с преувеличенной любезностью разговаривал с ним.
— Знакомьтесь, Михаил Дмитриевич,- сказал мне Рузский, не очень торопливо закончив разговор с неизвестным.- Это — член Государственного совета, барон Пиляр-фон-Пильхау{20}.
Барон неуклюже поднялся и двинулся ко мне, протягивая мясистую, очень широкую короткопалую» руку.
Я машинально отступил и, заложив руку за пуговицы кителя, сказал, обращаясь к Рузскому:
— Простите меня, ваше превосходительство, но мне, как начальнику штаба, отлично известна преступная деятельность барона, занятого подготовкой передачи Прибалтийского края неприятелю. Как русский генерал, я не могу подать ему руки.
Рузский смутился и заметно покраснел.
— Мы с вами, Михаил Дмитриевич, еще поговорим об этом,- примирительно сказал он и, повернувшись к барону, дал мне понять, что я могу быть свободным.
После ухода барона Рузский снова вызвал меня к себе и не без стеснения заговорил, в какое трудное и деликатное положение ставит его самого дело барона Пиляр-фон-Пильхау.
— Я ведь, Михаил Дмитриевич, состою в свите его величества, – начал объяснять мне Рузский, – а барон, черт его побери, близок ко двору, и я не могу с этим не считаться. И уж никак нельзя было вам так резко поступать с этим немцем в моем присутствии. Ведь это же форменный скандал! Да ведь барон по правилам должен был вас за это на дуэль вызвать…
— Во время войны дуэли воспрещены… Как, впрочем, и в мирное время. А с такими прохвостами на дуэли никто не дерется,- не выдержал я.
— Конечно, не дерется. Но вы, как хотите, а поставили меня в крайне конфузное положение…
Я доложил, что дал контрразведке разрешение на арест барона.
— Что вы, что вы? Об этом не может быть и речи, — испуганно сказал Рузский. -Хорошо, если все обойдется. Ведь барон-то приходил ко мне жаловаться на вас и на контрразведку,- дескать, переарестовали ни в чем не повинных людей… Только за то, что они немцы по происхождению. Нет уж, вот что, голубчик,- просительно закончил главнокомандующий,- те, кого вы посадили, пусть уж сидят, а самого барона не трогайте ни под каким видом…
Я понял, что спорить бессмысленно, и, скрепя сердце, выполнил приказание главнокомандующего{21}.
Ведя себя так безвольно по отношению к барону Пи-ляр-фон-Пильхау, тот же Рузский в ряде других случаев не только не мешал мне расправляться с немецкими тайными агентами, но и поддерживал меня авторитетом главнокомандующего.
Так было, например, с нашумевшим делом торгового дома “К. Шпан и сыновья”.
Многие наши банки были в немецких руках, и уже одно это привлекло к их деятельности- внимание контрразведки. Особый интерес вызвали подозрительные махинации двух видных петербургских финансистов — братьев Шпан, немцев по происхождению.
Когда старший из братьев ухитрился попасть на прием к императрице Александре Федоровне и поднести ей восемьдесят тысяч рублей на “улучшение” организованного ею в Царском Селе лазарета, контрразведка занялась этим “невинным” торговым домом и обнаружила не только постоянную связь, которую братья Шпан поддерживали с воюющей против нас Германией, но и другие, не менее значительные их преступления.
В связи с войной артиллерийское ведомство испытывало острую нужду в алюминии. Достать его ни в столице, ни в других городах России казалось невозможным. Возглавлявший фирму, старший из братьев Шпан предложил привезти нужное количество алюминия из-за границы. Артиллерийское ведомство согласилось, и Шпан тотчас отправил в Швецию своего агента. Под второй подошвой ботинка агент этот припрятал врученные ему Шпаном документы, из которых следовало, что некая германская фирма отправляет в Россию принадлежащий ей алюминий. На самом деле огромное количество алюминия хранилось в самом Петрограде на тайных складах той же фирмы “К. Шпан и сыновья”. Вся эта инсценировка понадобилась, чтобы продать дефицитный металл за баснословную сумму.
За выезжавшим за границу агентом было установлено наблюдение, и на обратном пути он был захвачен с поличным.
Родственники и знакомые братьев Шпан подняли невообразимый шум. Но Рузский на этот раз поддержал меня, и я, не считаясь с высокими покровителями фирмы, приказал арестовать обоих братьев и выслать их в Ачинск. Любопытно, что юрисконсультом этой шпионской фирмы был одно время будущий премьер и “главковерх” Керенский.
Одновременно Рузский одобрил и представил в Ставку составленный мною “Проект наставления по организации контрразведки в действующей армии”. Верховный главнокомандующий утвердил его; во всех армейских штабах были созданы контрразведывательные отделения с офицерами генерального штаба, а не жандармами во главе. В основу работы армейской контрразведки была положена тесная связь с оперативными и разведывательным отделениями штабов, и это сразу же сказалось.
Благосклонное, несмотря ни на что, отношение Рузского к моей борьбе с немецким шпионажем окрылило меня, и я постарался нанести по разведывательной деятельности германского генерального штаба еще несколько чувствительных ударов.
В России уже не один десяток лет была широко известна торгующая швейными машинами компания Зингер. Являясь немецким предприятием, акционерное общество это с началом войны поспешно объявило о своей принадлежности к Соединенным Штатам Америки. Но эта перекраска не спасла фирму от внимания контрразведки и последующего разоблачения ее шпионской деятельности.
Верная принципу германской разведки — торговать высококачественными товарами, чтобы этим получить популярность и быстро распространиться по стране, компания Зингер продавала действительно превосходные швейные машины. Ведя продажу в кредит и долголетнюю рассрочку, фирма сделалась известной даже в глухих уголках империи и создала разветвленнейшую агентуру.
Характерно, что спустя много лет, уже во время второй мировой войны, немецкая фирма “Олимпия”, открывшая в Венгрии со специальными шпионскими целями свой филиал, начала выпускать пишущие машинки с венгерским алфавитом куда более высокого качества, нежели те, что собирались внутри страны. Видимо, и в случае с компанией Зингер, и в деятельности фирмы “Олимпия” приток денежных средств, получаемых от германского генерального штаба, давал возможность торговать себе в убыток.
Компания Зингер выстроила на Невском многоэтажный дом, после революции превращенный в Дом книги. Во всех сколько-нибудь значительных городах находились фирменные магазины, а в волостях и даже в селах — агенты компании.
У каждого агента имелась специальная, выданная фирмой географическая карта района. На ней агент условными знаками отмечал число проданных в рассрочку швейных машин и другие коммерческие данные. Контрразведка установила, что карты эти весьма остроумно использовались для собирания сведений о вооруженных силах и военной промышленности России. Агенты сообщали эти данные ближайшему магазину, и там составлялась сводка. Полученная картограмма направлялась в Петроград в центральное управление общества Зингер. Отсюда выбранные из картограмм и интересующие германскую разведку сведения передавались за границу,
Убедившись в основательности обвинения, я циркулярной телеграммой закрыл все магазины фирмы Зингер и приказал произвести аресты служащих и агентов, причастных к шпионской деятельности.
Бесцеремонность, с которой компания Зингер почти открыто работала в пользу воюющей Германии, не должна особенно удивлять. Последние годы империи характеризовались таким разложением государственного аппарата, что в непосредственной близости к ошалевшему от распутинской “чехарды” русскому правительству и всяким иным властям предержащим делались самые неправдоподобные вещи.
Трудно, например, поверить, что в столице Российской империи в самый разгар войны с Германией собирались пожертвования на… германский подводный флот. и притом не где-нибудь в укромных уголках, а на самом виду — в министерстве иностранных дел и других не менее почетных учреждениях. Надо ли говорить о том, что германские подводные лодки были в первую мировую войну наиболее действенным оружием Германии, обращенным против англичан, но не щадившим и нашего флота…
Сбор этих средств был организован даже без какой-либо хитроумной выдумки. Завербовав швейцаров ряда министерств и других петроградских правительственных учреждений, немецкие тайные агенты заставили их держать у себя слегка зашифрованные подписные листы и собирать пожертвования.
Натолкнувшись на списки жертвователей, контрразведка быстро ликвидировала эту наглую авантюру германской разведки.
Наряду с использованием задолго до войны завербованных тайных агентов, германская разведка уже в ходе военных действий добывала нужные ей сведения любыми способами, не останавливаясь перед похищением у доверчивых офицеров секретных документов.
Показательно дело генерала Черемисова, не отданного под суд и не разжалованного только из-за редкостного либерализма и бесхребетности высшего командования в вопросах борьбы с вражеским шпионажем.
В конце 1915 года на должность генерал-квартирмейстера 5-й армии, занимавшей двинский плацдарм, был назначен Черемисов, тогда еще полковник. В том же штабе армии в должности офицера для поручений состоял ротмистр, немецкая фамилия которого не сохранилась в моей памяти. Офицер этот жил с немкой, и, хотя шла война, никого в штабе это ничуть не смущало. Наоборот, тот же Черемисов дневал и ночевал у гостеприимного ротмистра.
Спустя некоторое время ко мне как начальнику штаба вновь образованного Северного фронта явился артиллерийский полковник Пассек и потребовал личного свидания со мной.
Пассека провели ко мне на квартиру, и он, крайне возбужденный и взволнованный, доложил мне, что у ротмистра, о котором шла речь выше, ежедневно собираются офицеры, как приехавшие с фронта, так и едущие на фронт. Посетителей уютной квартиры ждет ужин с неизменной выпивкой и карты. Играют в азартные игры и на большие деньги. Вин и водок, несмотря на “сухой” закон, за ужином всегда изобилие. Во всех этих кутежах и карточной игре неизменное участие принимает и Черемисов; пример его явно ободряет остальных штаб- и обер-офицеров, бывающих у ротмистра.
Многие офицеры после карт оставались ночевать. Некоторых из них безжалостно обыгрывали в карты. Других напаивали до бесчувствия; в вино и в водку для верности подсыпался одурманивающий порошок.
После того как такой офицер впадал в беспамятство, его багаж, а заодно и карманы тщательно обыскивались; документы и бумаги внимательно просматривались и иногда копировались. Сам полковник Пассек был обыгран на крупную сумму и так как, снедаемый стремлением отыграться, не раз посещал квартиру подозрительного ротмистра, то смог убедиться в преступной его деятельности.
Посоветовавшись с Батюшиным, подобно мне переведенным в штаб Северного фронта и являвшимся начальником его контрразведки, я вызвал к себе на квартиру генерала Шаврова, военного юриста по образованию, и приказал ему на специальном паровозе выехать в Двинск, чтобы там, не подымая особого шума, проверить сообщенные Пассеком факты.
Поздно ночью Шавров вернулся и доложил, что подозрения полковника Пассека подтвердились: во время устроенного в квартире ротмистра обыска были найдены даже списки бывавших у него офицеров с явно шпионскими пометками около каждой фамилии.
Как выяснилось, ротмистр, являясь резидентом немецкой разведки, совместно с приставленной к нему под видом сожительницы разведчицей умышленно обыгрывал офицеров, чтобы, воспользовавшись трудным положением, в которое они попадали, в дальнейшем их завербовать.
Дополненные контрразведкой материалы генерала Шаврова я доложил главнокомандующему и как будто получил полное его одобрение. Виновные в шпионаже были арестованы и преданы военно-полевому суду, штаб армии подвергся основательной чистке. Но едва дело дошло до Черемисова, как начала действовать та страшная дореволюционная российская система, которую с такой удивительной точностью охарактеризовал еще Грибоедов.
«Родному человечку» кто-то «порадел», и Черемисов вместо отрешения от должности на все время следствия и, в лучшем случае, выхода в отставку, отделался тем, что… был назначен командиром бригады в одну из пехотных дивизий.
Примечания
{17} Экеспарре Оскар Рейнгольдович, действительный статский советник, гофмейстер двора, член Государственного совета.
{18} Шпан — фирма “К. Шпан и сыновья” занималась торговлей машинным оборудованием и деталями. Главой фирмы являлся Борис Шпан.
{19} Присоединению.
{20} Пиляр-фон-Пильхау Адольф Адольфович, барон, действительный статский советник в должности гофмейстера. Член Государственного совета по выборам (то есть то немецкой “курии”).
{21} Надо учитывать, что царское правительство, предоставляя высокопоставленным немцам полную свободу в осуществлении шпионской деятельности, в то же время никогда не отказывалось где только можно раздувать национальную рознь и ненависть, попутно стараясь сваливать на любых нацменов, в том числе и на обрусевших немцев, любые трудности и собственные вины. Этим объясняется, что в те же годы, о которых повествует автор, в так называемой “рептильной” прессе, во всем послушной правительственным приказам, усиленно печатались всевозможные “разоблачения” многочисленных немцев, зачастую совершенно далеких и от Германии и от шпионажа. Журналисты Ал. Ксюнин и Мзура сделали себе специальность из таких разоблачений, которые, однако, никогда не поднимались выше определенного общественного положения подозреваемых. Широкая общественность настороженно относилась к этой деятельности, чувствуя, что она вела к одинаковой травле и “жидов”, и “немчуры”, и “чухон”, и “армяшек”, т. е. всех граждан России, не “осененных” благодатью “истинно-русского происхождения и православной веры”.
Глава седьмая
Студент Иогансон. — Вредительство на военных заводах. — Шпионаж под флагом Красного Креста. — Камер-юнкеры Брюмер и Вульф и их «августейшие» покровители. — Аудиенция у императрицы. — Отставка генерала Плеве. — Назначение генерала Куропаткина.
В столице Финляндии Гельсингфорсе{22}, на высоком берегу моря находился в годы войны излюбленный жителями бульвар, уставленный удобными деревянными скамьями. Агенты контрразведки как-то приметили на нем студента, показавшегося подозрительным. Студент этот приходил на бульвар, как на службу — каждое утро и всегда в одно время. Присев на скамью, он раскладывал принесенные с собой книги и углублялся в чтение. Было замечено, что, читая, студент делает в книге отметки. В этом не было ничего подозрительного, но к студенту обычно подходил какой-то человек в штатском, и оба они уходили с бульвара.
После тщательного наблюдения агенты контрразведки установили, что заинтересовавший их студент неизменно : передает человеку в штатском принесенные с собой книги, и только тогда они расстаются.
Получив книги, человек в штатском спускался к морю, садился на катер и отплывал к шведскому берегу.
Испросив мое согласие, контрразведка арестовала обоих. Студент, оказавшийся проживавшим в Гельсингфорсе немцем Иогансоном, признался, что пользуется книгами, как своеобразным шифром. Подчеркнув в тексте отдельные буквы и делая это по установленной системе, он с помощью той или иной книги передавал донесения, сообщая о передвижении войск и подготовке оборонительных полос. Человек в штатском был переодетым немецким матросом; на обязанности его лежала только добавка переданных Иогансоном книг на находившийся на шведском берегу немецкий разведывательный пост.
В другой раз агенты разведки обратили внимание на женщину средних лет, с непонятной настойчивостью гулявшую по Николаевскому мосту. За неизвестной проследили. Было установлено, что она в определенные дни приезжает из Царского Села и кого-то высматривает с моста. В конце концов контрразведка арестовала ее при попытке передать шпионское донесение лодочнику одной из постоянно теснившихся на Неве лодок.
Немецкая разведка, имевшая в Петрограде влиятельнейших покровителей, прибегала к такой рискованной связи не так уж часто. Кроме дипломатической почты нейтральных государств, служебной переписки пасторов и других официальных способов, агенты германского генерального штаба пользовались и кабелем продолжавшего невозмутимо работать концессионного датского телеграфного общества, условными объявлениями в газетах и многими другими безопасными и трудно уловимыми способами связи.
Наряду с разоблачением шпионской деятельности компании Зингер контрразведкой была обнаружена и другая группа тайных германских агентов, ведущих вредительскую работу на заводах и в мастерских, выполнявших заказы военного ведомства.
Особенно заметным стало это вредительство на металлургическом заводе Сан-Галли, переданном военному ведомству. Разоблачение немецкой агентуры на этом и на других заводах представляло тем большую трудность, что контрразведку постоянно сбивал с толку департамент полиции. Обнаружив на любом заводе следы революционной подпольной деятельности, охранка охотно вопила о происках германской разведки и тем направляла контрразведчиков по ложному следу, заставляя напрасно тратить силы и время.
Кроме вредительства на заводе Сан-Галли, были разоблачены шпионские группы среди спекулянтов, у служащих арсенала, на оборонительных сооружениях и т. д.
Меня не раз предупреждали о возможности покушения на мою жизнь. Приходилось получать и анонимные письма, грозившие мне смертью. Настойчивая моя борьба с немецкой разведкой не нравилась многим, и в первую очередь тайной агентуре германского генерального штаба. Подстрелить меня из-за угла или отравить, подсыпав яд в пищу, было не трудно, и я начал принимать меры предосторожности, тем более, что агенты контрразведки подтвердили возможность организации против меня террористических актов.
На всякий случай я засекретил время своих выездов из штаба и маршруты поездок по Петрограду и его окрестностям.
Слежка за мной была, вероятно, плохо налажена, и очень скоро агенты контрразведки донесли, что в немецких кругах считают меня неуязвимым.
Но если уберечься от вражеской пули или яда было не так уж хитро, то справиться с интригами и минами, которые подводились под меня при дворе и в Ставке, было непосильно.
Особенно дорого мне обошлось разоблачение камер-юнкеров Брюмера и Вульфа. С делом этих заведомых германских шпионов мне пришлось возиться в штабе Северного фронта.
Однажды начальник контрразведки доложил мне, что в расположении 12-й армии, стоявшей в районе Риги, появились уполномоченные Красного Креста камер-юнкеры Брюмер и Вульф. Разъезжая по частям якобы для организации полевых банно-прачечных отрядов, остзейские дворянчики эти фотографировали тщательно замаскированные укрепления рижского плацдарма.
Ночуя в баронских мызах и имениях Прибалтийского края, камер-юнкеры показывали и передавали сделанные ими фотографии своим «гостеприимным» хозяевам, являвшимся, как предполагала контрразведка, резидентами германской разведки.
Проверив донесения агентов контрразведки и придя к убеждению, что факт преступления налицо, я приказал задержать Брюмера и Вульфа.
При допросе в контрразведке штаба фронта камер-юнкеры вынуждены были признать свою вину. Изобличали их и найденные при обыске фотографии секретных оборонительных сооружений и показания шоферов и механиков, подтверждавших частые ночлеги обоих на немецких мызах.
Дело Брюмера и Вульфа во многом напоминало мясоедовское — германская разведка задолго до войны подготовила для себя надежную агентуру и резидентуру в немецких имениях и мызах Прибалтики.
Не испытывая особых колебаний, я решил своей властью выслать обоих камер-юнкеров в Сибирь. Предать их, как Мясоедова, военно-полевому суду было нельзя — ни офицерами, ни солдатами русской армии они не являлись и юрисдикции таких судов не подлежали.
Но не успел я привести в исполнение свое не такое уж «кровожадное» намеренье, как к генералу Рузскому, принявшему командование войсками фронта, поступил телеграфный запрос из канцелярии императрицы Александры Федоровны.
— Ничего не могу сказать, Михаил Дмитриевич, вы правы, — согласился со мной Николай Владимирович, ознакомившись с материалами следствия. — Конечно, оба этих молодчика — большие прохвосты и, наверняка, германские агенты. Но вы сами знаете, — слегка замялся он,- что такое двор и каким осторожным надо быть, когда имеешь дело с придворной камарильей.
— И все таки, Николай Владимирович, я настаиваю на том, чтобы этих негодяев погнали по этапу в Сибирь,- возразил я, пользуясь разрешением главнокомандующего говорить с ним без положенной субординации. — Наконец, не будь они связаны со двором и не имей придворного звания, я бы приказал обоих расстрелять как шпионов, пойманных с поличным…
— Все это так,- согласился со мной Рузский,- и я не стал бы спорить с вами, если бы верховным был по-прежнему великий князь. Он, по крайней мере, не выносил немцев и не стал бы церемониться с ними. Но портить отношения с ее величеством, особенно сейчас, когда царь возложил на себя верховное командование, — слуга покорный… Вы знаете, — продолжал он, — мое отношение к династии. Ходынкой началось, Ходынкой и кончится. Но пока что мы вынуждены считаться даже с Распутиным… Да, Михаил Дмитриевич, вот что вам придется сделать, — сказал он, умышленно встав с кресла и тем показывая, что дружеский разговор закончен, — из расположения фронта вы этих голубчиков, конечно, вышлите. Но, понятно, не в Сибирь и без всякого конвоя… Пусть едут одиночным порядком, так сказать, сами у себя под стражей, — каким-то странным тоном пошутил Рузский.
— Куда же прикажете их выслать, ваше высокопревосходительство? — вытянувшись, спросил я.
— Куда? — задумался Рузский. — Да куда-нибудь подальше. А знаете что, — словно озаренный блестящей идеей, воскликнул он, — пошлите-ка их на Юго-Западный фронт. Пусть там свои бани и прачечные открывают. А уж насчет шпионажа, то где-где, а там, на Юго-Западном, беспокоиться не придется. Там ведь австрийцы, а не немцы. С какой же стати эти немчики будут для них стараться…
Рузский заметил мое недоумение и, стараясь не встречаться со мной взглядом, недовольно сказал:
— Издевательство? Заранее согласен с вами, Михаил Дмитриевич, что полное… Я бы сказал, что это даже глумление… глумление над нами, над армией, над правдой. Но что поделаешь, — таково высочайшее повеление, и попробуйте его не исполнить!
Я вынужден был выполнить приказание главнокомандующего, хотя оно поразило меня своим цинизмом и во многом отвратило от Рузского. Но Брюмера и Вульфа не удовлетворило даже это решение, и они вместо Юго-Западного фронта прямиком направились в Петроград к императрице.
Не знаю, что эти немецкие разведчики наговорили на меня, но Александра Федоровна написала в Ставку своему венценосному супругу о «бедных молодых людях», подвергшихся нападкам и преследованиям со стороны «зазнавшегося генерала Бонч-Бруевича». Одновременно она занесла в свой дневник весьма нелестную для меня характеристику, подсказанную теми же Брюмером и Вульфом.
О переписке императрицы с Николаем Вторым и о записях в ее дневнике мне стало известно лишь через несколько лет после падения самодержавия.
Не сразу узнал я, что ускользнувшие от заслуженного наказания германские агенты использовали и своего «земляка» — престарелого министра двора графа Фредерикса. Фредерикс, пользуясь близостью к царю, изобразил арест Брюмера и Вульфа, как произвол генерала Бонч-Бруевича, страдавшего навязчивой идеей и чуть ли не в каждом подозревавшего немецкого шпиона…
По жалобе Фредерикса царь приказал начать расследование. Ничего хорошего от этого «расследования» я не ждал, и дело Брюмера и Вульфа действительно скоро обернулось против меня.
Я не знал толком о сложной интриге, затеянной против меня при дворе, но поползшие по штабу слухи заставили меня насторожиться. И когда из канцелярии императрицы пришла телеграмма, вызывающая меня в Царское Село, я понял, что вызов этот связан с происками и жалобами уличенных мною лифляндских дворянчиков.
Из Петрограда в Царское Село я поехал поездом. На вокзале меня ждала придворная карета с дворцовым лакеем.
Другой дворцовый лакей, одетый, как и мой спутник, в кажущуюся маскарадной цветную ливрею, в нелепых чулках на тощих ногах и с бритым лицом католического патера, провел меня в приемную, примыкавшую к кабинету императрицы.
Лакей предложил мне подождать, у Александры Федоровны был на приеме какой-то полковой командир.
Наконец дверь в кабинет приоткрылась, и меня пропустили к императрице. Впервые я видел ее так близко и получил возможность с ней говорить. Против воли в памяти всплыли ходившие в столице и в штабах сплетни об интимной связи Александры Федоровны с Распутиным, для которого она вышивала рубашки. Рубашками этими открыто хвастался пресловутый «старец».
Императрица была в костюме сестры милосердия. С неподвижным, неулыбающимся и не меняющим выражения лицом, она не показалась мне ни красивой, ни привлекательной. По-русски говорила она почти правильно, но напряженно, так, как говорят иностранцы. Подав руку, но не предложив мне сесть и не садясь сама, она спросила, в каком состоянии находятся войска Северного фронта и можно ли ждать на этом фронте каких-либо особых неожиданностей. Я понял, что вопрос Александры Федоровны вызван идущими в Петрограде разговорами о якобы предстоявшем в ближайшее время решительном наступлении германских войск и о возможной угрозе столице.
Я доложил, что подступы к Петрограду обороняются на Западной Двине войсками фронта; за эту оборону я совершенно спокоен.
— Должен отметить, ваше императорское величество, что неприятель делал неоднократные попытки прорвать фронт, но все они оказались неудачными, и, следовательно, оборону Западной Двины можно считать прочной. Но если немецкое командование сосредоточит большие силы для удара по Петрограду, то положение Северного фронта окажется тяжелым. Фронт не располагает резервами, необходимыми для отражения такого большого наступления. Осмелюсь доложить, ваше императорское величество,- продолжал я, играя на тревожном настроении императрицы, — что фронт не пользуется нужным вниманием Ставки. Поэтому было бы весьма желательным, чтобы количество войск и боевых средств, назначаемых фронту, увеличили в соответствии с задачей обороны подступов к Петрограду.
— Вы можете все это написать? — о чем-то подумав, спросила Александра Федоровна.
— С величайшим удовольствием, ваше императорское величество, — не подумав, сказал я, обрадованный возможностью, минуя штаб Ставки, обратиться к верховному главнокомандующему. Было ясно, что записка моя нужна императрице только для того, чтобы сообщить ее содержание царю.
Тотчас же я сообразил, что про «удовольствие» незачем было упоминать, да и вообще-то все мое поведение мало соответствует придворному этикету.
Но Александра Федоровна, то ли делая вид, то ли не заметив моего бестактного поведения, протянула мне большой, переплетенный в сафьян блокнот и предложила присесть за столик.
Когда я написал все, о чем меня просили, императрица сказала:
— Вашу записку я отошлю императору.
О Брюмере и Вульфе Александра Федоровна так и не заговорила. Не начинал этого разговора и я.
Аудиенция кончилась. Я готов был считать, что нависшая надо мной туча прошла мимо, но уже в начале февраля началась расправа с заменившим снова «заболевшего» Рузского генералом Плеве и, конечно, со мной.
Бедный Плеве обвинялся в том, что не прекратил дела Брюмера и Вульфа и не догадался полностью реабилитировать их.
Никто при дворе об этом прямо не говорил, и снятие Плеве с должности главнокомандующего Северного фронта было проведено якобы совсем по другим мотивам.
В конце января 1916 года в расположении фронта закончилось укомплектование XXI армейского корпуса. Для смотра корпуса в Режицу прибыл Николай II. На смотр был вызван и генерал Плеве.
На беду у Плеве на нервной почве случилось расстройство желудка. На смотре генералу пришлось быть в седле и оказаться в блестящей свитской кавалькаде, сопровождавшей царя.
Плеве был выдающийся кавалерист, неутомимый и ловкий, с великолепной посадкой. Но болезнь давала себя знать, а в таком положении ни один седок не смог бы сохранить красивой посадки. Свитские зубоскалы ухватились за удачный повод для острот и всякого рода «мо», К тому же стало известно, что государь недоволен делом Брюмера и Вульфа и считает, что Плеве как главнокомандующий не проявил должного такта.
Небольшого роста, с носатым неприятным лицом, прилизанными, разделенными прямым пробором какими-то серыми волосами и такими же неприятными усами, Плеве был некрасив, но не настолько, чтобы объявить его этаким «квазимодо». Но кличка привилась, а во всем послушный двору Алексеев, являвшийся в это время уже начальником штаба Ставки, присоединился к свитским острякам и в тот же день составил «верноподданнический доклад» о необходимости снятия Плеве с поста за полной непригодностью его к службе.
Заслуги генерала во время так называемого «Свенцянского прорыва» были совершенно забыты. Тогда, в октябре прошлого года, германские войска, прорвав фронт, поставили под угрозу двинский плацдарм. Весь штаб 5-й армии, которой командовал Плеве, в один голос настаивал на оставлении Двинска и всего плацдарма. Но непоколебимая воля Плеве взяла верх. Двинск остался у нас, а германское наступление было отбито с большими потерями для неприятеля.
Вместо Плеве, к общему возмущению, был назначен генерал-адъютант Куропаткин{23}, главнокомандующий всех вооруженных сил на Дальнем Востоке во время русско-японской войны, смещенный за бездарность после бесславно проигранного мукденского сражения.
Куропаткину шел шестьдесят девятый год, в России не было другого, до такой степени ославленного по прошлой войне генерала, кроме осужденного за сдачу Порт-Артура Стесселя. Поручить такому генералу такой решающий фронт, как Северный, можно было только в издевку над здравым смыслом. Было известно, что в начале войны Куропаткин просил великого князя Николая Николаевича дать ему хотя бы корпус, но тот наотрез отказал.
11 февраля генералу Плеве было сообщено, что ему надлежит передать войска фронта своему преемнику, а назавтра двоедушный Алексеев с видом полного сочувствия сообщил мне, что я должен сдать должность начальника штаба фронта.
— Вы не представляете себе, как я огорчен всем этим, дорогой Михаил Дмитриевич, — лицемерно говорил Алексеев, шевеля своими длинными, как у кота, усами, — ведь это такая потеря для нас. Но ничего не поделаешь, — такова воля его императорского величества. Могу сказать, но только, чтобы это осталось между нами, — продолжал он, понизив голос, — государыня недовольна вами, и это недовольство вызвано вашими неосмотрительными действиями с арестом этих… самых…
Он запнулся и, делая вид, что не сразу вспомнил, назвал нажаловавшихся на меня камер-юнкеров.
— Но, дорогой Михаил Дмитриевич, что бы там ни было, а вас я все-таки не отпущу из штаба фронта. Назначается новый главнокомандующий, и вы, натурально, будете его правой рукой. Хотя и без должности. Конечно, с сохранением прежнего оклада,- поспешил прибавить Алексеев, понимая, как мало это меня занимает.
Зная, что генерал Алексеев давно уже недолюбливает меня и рад случаю насолить, я в соответствии с нравами Ставки сделал вид, что верю в добрые его чувства, и, поблагодарив, откланялся.
Из Могилева мы ехали вместе с Плеве. В пути мы разговорились, и Плеве с удивившей меня прозорливостью объяснил все те сложные интриги, которые велись против нас в Ставке.
— Претерпевый до конца — спасется, – зачем-то процитировал он известное изречение из священного писания и посоветовал мне остаться при штабе фронта, чтобы хоть чем-нибудь помочь в деле борьбы с неприятелем.
На другой же день после возвращения в Псков Плеве отслужил благодарственный молебен и выехал в Москву, где вскоре и умер от удара.
В конце февраля фельдъегерь привез мне письмо от генерала Алексеева.
«Глубокоуважаемый Михаил Дмитриевич! Ваше назначение в распоряжение с сохранением содержания, конечно, состоится,- писал он.- Мечтаю все-таки, о том, чтобы дать возможность генералу Куропаткину воспользоваться вами полностью во время операции, ибо новый главнокомандующий приедет совершенно не знакомый с обстановкой и не поработав над идеей. По делам же Брюмера и Вульфа сделаю все, что смогу. Влияния в этих вопросах велики, мощны. Но бог даст устроится!
Преданный вам
Мих. Алексеев».
Вскоре последовал высочайший рескрипт о назначении меня в распоряжение главнокомандующего армий Северного фронта.
Примечания
{22} Хельсинки.
{23} Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) — старейший, рядом с Н. И. Ивановым, генерал русской армии в войну 1914-1917 гг. Общественность всегда видела в Куропаткине военачальника, ответственного за поражения в Русско-японской войне 1904-1905 гг. В дни мировой войны Куропаткин ничем не сгладил впечатления своей бездарности и политического мракобесия. В 1916 году назначен генерал-губернатором Туркестана, где жестоко подавил восстание местного населения.
Глава восьмая
Министр внутренних дел у хироманта. — Распутин и царская семья. — Министерская чехарда. — Русский Рокамболь. — Покушения на Распутина. — Моя встреча с Распутиным. — Куропаткин на Северном фронте. — Провал наступления. — Возвращение Рузского. — Распутин и Северный фронт. — Арест Манасевича-Мануйлова.
Трудно представить, до какого разложения дошел государственный аппарат Российской империи в последние годы царствования Николая II. Огромной империей правил безграмотный, пьяный и разгульный мужик, бравший взятки за назначение министров. Императорская фамилия, Распутин, двор, министры и петербургская знать — все это производило впечатление какого-то сумасшедшего дома. Даже я, имевший возможность близко ознакомиться с закулисной стороной самодержавия, хватался за голову и не раз спрашивал себя:
— А не снится ли все это мне, как дурной сон?
В феврале 1916 года, в результате дворцовых интриг и непосредственного вмешательства в мою судьбу злой и мстительной императрицы, я был отстранен от участия в войне и оказался как бы не у дел. Но дружеские связи мои с офицерами контрразведки помогали мне быть в курсе многих засекреченных историй, подтверждавших факт полного загнивания режима.
От контрразведки я знал и о таких подробностях из жизни последнего министра внутренних дел Протопопова, после которых никто не усомнился бы в его больной психике.
Перед самой войной в Петербурге появился «известный хиромант и спирит» Шарль Перрен{24}. Прочитав попавшееся ему на глаза объявление хироманта, рекламировавшего через «Вечерние биржевые ведомости» свое уменье «предсказывать будущее, составлять гороскопы и отгадывать мысли», Протопопов, в то время товарищ председателя Государственной думы, немедленно отправился в гостиницу «Гранд-отель» и узнал, что планета его, Протопопова,- «Юпитер, но проходит она под Сатурном». Будущему министру внутренних дел было сказано также, что он должен «опасаться четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого чисел каждого месяца». Попутно хиромант «отгадал» имя матери своего высокопоставленного клиента и этим окончательно пленил его. Протопопов заплатил Перрену двести рублей, гонорар по тому времени поистине сказочный, — цыганки делали подобные предсказания за пятиалтынный или двугривенный.
Контрразведка, заинтересовавшаяся хиромантом, выдававшим себя за американского подданного, тогда же установила, что он — австриец и вовсе не Шарль, а Карл. Кроме гаданья, «хиромант» этот, судя по всему, занимался и шпионажем.
Почти никакой борьбы с немецким шпионажем у нас до войны не велось, и Перрену еще до начала военных действий удалось уехать из России и обосноваться в Стокгольме.
Незадолго до своего назначения министром внутренних дел Протопопов в составе парламентской группы ездил за границу. На обратном пути он задержался в Стокгольме ч на свой страх и риск повел переговоры о сепаратном мире с неким Вартбургом, прикомандированным к немецкому посольству в Швеции. Одновременно Протопопов имел доверительное свидание с Перреном. О встрече этой узнала контрразведка, окончательно убедившаяся к этому времени в шпионской деятельности подозрительного хироманта.
Спустя некоторое время Протопопов был назначен министром внутренних дел, и вслед за тем Перрен начал слать ему телеграммы, прося разрешения на въезд в Россию.
Протопопов запросил подчиненный ему департамент полиции. Директор департамента доложил Протопопову, что его протеже заподозрен в шпионаже. Министр, однако, своего отношения к Перрену не изменил и, продолжая телеграфную переписку с заведомым шпионом, с непонятной любезностью просил хироманта лишь повременить с приездом в Россию.
Сам Протопопов состоял в распутинском кружке и имел в нем даже свою кличку — Калинин. Контрразведке было известно, что Распутин является сторонником сепаратного мира с Германией и если и не занимается прямым шпионажем в пользу немцев, то делает очень многое в интересах германского генерального штаба. Влияние, которое Распутин имел на императрицу и через нее на безвольного и ограниченного царя, делало его особенно опасным. Понятен поэтому интерес, с которым контрразведка занялась «святым старцем» и его окружением.
Мне и теперь неясно, в чем был «секрет» Распутина. Неграмотный и разгульный мужик, он не раз в присутствии посторонних орал не только на покорно целовавшую ему руку Вырубову, но и на императрицу. Вероятно, это был половой психоз; агенты контрразведки, донося .об очередной «ухе», которая устраивалась у Распутина, сообщали о таких «художествах» старца, что трудно было поверить. Доходили сведения и о том, что Александра Федоровна не прочь устранить царя и стать регентшей. Выпив любимого своего портвейна, Распутин, не стесняясь, говаривал, что «папа — негож» и «ничего не понимает, что права, что лева». Папой он называл царя, мамой — Александру Федоровну. Подвыпив, «старец» хвастался, что имеет на Николая II еще большее влияние, нежели на императрицу. Сотрудничавший в контрразведке Манасевич-Мануйлов как-то сообщил, что Распутин говорил по поводу уехавшего в Могилев царя: «Решено папу больше одного не оставлять, папаша наделал глупостей и поэтому мама едет туда».
Генерал Батюшин, взявшийся за расследование темной деятельности Распутина, старался не касаться его отношений с царской семьей, Вырубовой и другими придворными, но это было трудно сделать — настолько разгульный мужик вошел в жизнь царскосельского дворца.
Чем дальше шла война, тем больше я, к ужасу своему, убеждался, что истекающей кровью, разоренной до крайних пределов империей фактически управляет не неумное правительство и даже не тупой и ограниченный монарх а хитрый и распутный «старец».
От агентов контрразведки я знал, как Распутин смещает и назначает министров. Сделавшись с помощью «старца» министром внутренних дел. Хвостов целовал ему руку. Назначенного по настоянию Распутина председателем совета министров семидесятилетнего рамолика Штюрмера бывший конокрад презрительно называл «старикашкой» и орал на него. Большинство министров военного времени было обязано Распутину своим назначением.
Контрразведке было известно, что за всю эту «министерскую чехарду» Распутин брал либо большими деньгами, либо дорогими подарками, вроде собольей шубы. Так, за назначение Добровольского министром юстиции Распутин получил от привлеченного за спекуляцию банкира Рубинштейна сто тысяч рублей. Назначенный вместо Штюрмера председателем совета министров Трепов, чтобы откупиться от Распутина, предлагал ему двести тысяч рублей. Мы знали, наконец, что министерство внутренних дел широко субсидирует «старца».
Еще в бытность мою начальником штаба 6-й армии контрразведка штаба не раз обнаруживала, что через Распутина получают огласку совершенно секретные сведения военно-оперативного характера.
Все это вместе взятое заставило Батюшина, хотя и скрепя сердце, привлечь для работы в контрразведке пресловутого Манасевича-Мануйлова, журналиста по профессии и авантюриста по призванию. Задачей нового агента контрразведки было наблюдение за Распутиным, в доверие к которому он ухитрился войти.
Манасевича-Мануйлова можно без преувеличения назвать русским Рокамболем.
Подобно герою многотомного авантюрного романа Понсон дю Террайля, французского писателя середины прошлого века, которым зачитывались неискушенные в литературе читатели моего поколения, Манасевич-Мануйлов переживал неправдоподобные приключения, совершал фантастические аферы, со сказочной быстротой разорялся и богател и был снедаем только одной страстью — к наживе.
Жизнь высшего общества в последние годы русской империи была полна таких необыкновенных подробностей и совпадений, что превзошла вымыслы бульварных романистов. Выходец из бедной еврейской семьи Западного края, Манасевич-Мануйлов сделался правой рукой последнего некоронованного повелителя загнившей империи — тобольского хлыста Григория Новых, переменившего «с высочайшего соизволения» фамилию и все-таки оставшегося для всех тем же Распутиным.
Отец русского Рокамболя Тодрез Манасевич был по приговору суда сослан в Сибирь за подделку акцизных бандеролей. Казалось бы, сын сосланного на поселение местечкового «фактора»{25} не мог рассчитывать на то, что попадет в «высший свет». И вот тут-то начинаются бесконечные «вдруг», за которые критика так любит упрекать авторов авантюрных романов…
Вдруг семилетнего еврейского мальчика усыновил богатый сибирский купец Мануйлов. Вдруг этот купец, умирая, оставил духовное завещание, которым сделал Манасевича наследником состояния в двести тысяч рублей, и также вдруг этот завещатель оказался чудаком, оговорившим в завещании, что унаследованное состояние передается наследнику только по достижении им тридцатипятилетнего возраста.
Порочный, алчущий легкой жизни подросток едет в Петербург. В столице идет промышленный и биржевой ажиотаж, характерный для восьмидесятых годов. Все делают деньги, деньги везде, и юного Манасевича окружают ростовщики, охотно осуждавшие его деньгами под будущее наследство.
Он принимает лютеранство и превращается в Ивана Федоровича Манасевича-Мануйлова. И снова начинаются капризы судьбы. Манасевич-Мануйлов оказывается чиновником департамента духовных дел; вчерашний выкрест делается сотрудником славящегося своим антисемитизмом «Нового времени».
Столь же неожиданно и вопреки логике этот лютеранин из евреев назначается в Рим «по делам католической церкви» в России. Одновременно он связывается с русской революционной эмиграцией и осведомляет о ней департамент полиции.
Несколько времени спустя всесильный министр внутренних дел и шеф жандармского корпуса Плеве посылает Манасевича в Париж для подкупа иностранной печати.
Жизнь Манасевича делается изменчивой, как цвет вертящихся в калейдоскопе стекляшек. Во время русско-японской войны ему удается выкрасть часть японского дипломатического шифра, а военное ведомство добывает через него секретные чертежи новых иностранных орудий.
В годы первой русской революции Манасевич — начальник «особого отделения» департамента полиции, созданного им по образцу французской охранки.
В, отличие от России и других стран, где военный шпионаж и борьба с ним находились в ведении главного штаба, во Франции последний ведал лишь военным шпионажем; контрразведкой же занималось специальное отделение в министерстве внутренних дел, так называемое «Сюрте женераль». Находясь в Париже, Манасевич был вхож в это засекреченное учреждение и, вернувшись, попытался перенести его опыт на русскую землю.
Во главе полицейской контрразведки Манасевич пробыл недолго и был отчислен за темные денежные махинации, обсчет агентов и переплату больших денежных сумм за устаревшие, а то и заведомо ложные сведения.
Карьера афериста должна была кончиться. Но он неожиданно оказался «состоящим в распоряжении» председателя совета министров графа Витте, и ему был назначен министерский оклад. Немного времени спустя Манасевич выехал в Париж для секретных переговоров с Гапоном.
По возвращении из Парижа он снова занялся журналистикой, сотрудничал в «Новом времени» и даже сделался членом союза русских драматических писателей.
Можно написать целый роман о Манасевиче. Тут были и вымогательства, и попытка продать за границу секретные документы департамента полиции, и все это сходило русскому Рокамболю с рук. С началом войны Манасевич снова оказался на государственной службе и, войдя в связь с Распутиным, был назначен чиновником для особых поручений при тогдашнем министре-председателе Штюрмере.
Особого удовольствия от того, что генерал Батюшкин привлек этого проходимца к работе в контрразведке, я не испытывал. Но с волками жить — по-волчьи выть. И волей-неволей мне пришлось даже воспользоваться сомнительными услугами Манасевича. Это было связано с Распутиным, опасная и вредная деятельность которого занимала меня все больше и больше.
Я наивно полагал, что если убрать с политической арены Распутина, то накренившийся до предела государственный корабль сможет выпрямиться.
Об этом думали и многие видные государственные деятели старого режима. Наиболее простодушные полагали, что государь по слепой своей доверчивости не видит тех коленец, которые откалывает «святой старец». Достаточно только открыть царю глаза на этого развратника, взяточника и хлыста, и все пойдет по-хорошему.
Я знал, например, что великий князь Николай Николаевич сделал одну такую попытку, дорого обошедшуюся ему. Распутин, которого он сам же в свое время ввел в «высший петербургский свет», смертельно возненавидел его и начал распускать слухи о том, что великий князь мечтает о короне.
Неоднократно, но без всяких результатов пытался открыть царю глаза на Распутина и председатель Государственной думы Родзянко.
Многочисленные пьяные скандалы и дебоши, которые устраивал Распутин, тщательно скрывались от царской фамилии. Но когда генерал-майор Джунковский, командовавший отдельным корпусом жандармов, воспользовавшись предоставленным ему правом непосредственного доклада государю, рассказал ему о пьяном скандале, учиненном Распутиным в московском ресторане «Яр», последний легко оправдался тем, что и он, мол, как все люди, — грешный.
Не изменил отношения царя к Распутину и наделавший много шуму пьяный дебош, учиненный «старцем» на пароходе уже во время войны. Напившись, Распутин начал приставать к пассажирам и по их настоянию был выведен из первого класса. Напоив оказавшихся на палубе новобранцев, он начал плясать и кончил тем, что избил пароходного лакея. Хмель ударил Распутину в голову, и он, нисколько не считаясь с тем, что его слышат, начал весьма неуважительно говорить об императрице и ее дочерях. Но и это «художество» прошло безнаказанно, как сходило с рук и постоянное получение Распутиным через шведское посольство идущих из-за границы крупных денежных сумм, и тесная связь с людьми, находившимися на подозрении контрразведки.
Не вызывала отпора со стороны государя и вся «политическая деятельность» «старца», о которой даже такой ограниченный и реакционно настроенный человек, как Родзянко, говорил, что она продиктована из Берлина и направлена прямо на то, чтобы ослабить и вывести из строя воюющую Россию…
О том, насколько неуязвимым чувствовал себя обнаглевший «старец», свидетельствует одна из многочисленных телеграмм в Царское Село, адресованная царской семье и тайно переписанная кем-то из офицеров контрразведки. «Миленький папа и мама! — телеграфировал Распутин. — Вот бес-то силу берет окаянный. А Дума ему служит; там много люцинеров и жидов. А им что? Скорее бы божьего по мазаннека долой. И Гучков господин их прохвост, — клевещет, смуту делает. Запросы. Папа! Дума твоя, что хошь, то и делай. Какеи там запросы о Григории. Это шалость бесовская. Прикажи. Не какех запросов не надо. Григорий».
И царь приказывал, и запросы оставались без ответа, а специальным циркуляром министра внутренних дел газетам было запрещено писать о Распутине и даже упоминать о нем.
Неудивительно, что многие начали видеть выход только в физическом уничтожении Распутина. Покушение на жизнь этого своеобразного «регента империи» готовил даже министр внутренних дел Хвостов, ставленник «старца». По словам контрразведчиков, одно время, когда ждали приезда Распутина вместе с царской семьей в Ливадию, на него замыслил довольно фантастическое покушение ялтинский градоначальник Думбадзе. Широко известный черносотенец и погромщик предполагал сбросить Распутина со скалы, находившейся неподалеку от Ялты, или убить его, инсценировав нападение «разбойников».
Все это походило на анекдот, но идея убийства ненавистного «старца» будоражила многие умы.
Что касается до меня, то я считал, что с Распутиным надо разделаться иным, бескровным и, как мне казалось, наиболее радикальным способом.
Я был в это время уже начальником штаба Северного фронта. Сама должность предоставляла мне огромную власть. Я мог, например, самолично выслать в места отдаленные заподозренных в шпионаже лиц, если они действовали в районах, подчиненных фронту.
Поэтому я решил с помощью особо доверенных офицеров контрразведки скрытно арестовать Распутина и отправить в самые отдаленные и глухие места империи, лишив тем самым его всякой связи с высокими покровителями. Несмотря на немолодой уже возраст и большой военный и административный опыт, я полагал, что сумею привести свой план в исполнение, и не понимал того, каким неограниченным влиянием на царствующую чету пользовался Распутин. Только много позже, с головой окунувшись в кипучую работу по созданию Красной Армии и многое перечитав и передумав, я понял, что с распутинщиной могла покончить только революция.
Тогда же, в шестнадцатом году, я, не ограничиваясь тщательным изучением всех имевшихся в контрразведке материалов о Распутине, побывал в находившемся в Царском Селе лазарете Вырубовой, о котором контрразведчики говорили как о конспиративной квартире Распутина. Под видом посещения раненых в госпитале этом бывала и встречалась со «старцем» и сама императрица и ищущие его покровительства сановники.
Несмотря на брезгливость, которую нелегко было побороть, я несколько раз встретился и с Манасевичем-Мануйловым. То, о чем с готовностью профессионального сыщика рассказал мне этот проходимец, еще раз укрепило меня в моих рискованных намерениях.
Перед тем как отдать распоряжение об аресте и высылке Распутина, я решил с ним встретиться. Всю свою жизнь я руководствовался простым, но разумным правилом — прежде чем принять ответственное решение, все самому проверить.
Организатором моего свидания с Распутиным явился Манасевич. Местом встречи была выбрана помещавшаяся на Мойке в «проходных» казармах комиссия по расследованию злоупотреблений тыла. Председателем этой комиссии не так давно назначили генерала Батюшина; он был для меня своим человеком, и я без всякой опаски посвятил его в свои далеко идущие намерения.
В назначенное время приехал Распутин, и я, наконец, увидел этого странного человека, сделавшего самую фантастическую в мире карьеру. Мое любопытство было до крайности возбуждено, хотелось понять, откуда у неграмотного мужика вдруг взялась такая сила воздействия на царскую семью.
Распутин был в обычном своем одеянии, напоминавшем хориста дешевого цыганского хора: шелковая малинового цвета рубашка, суконная жилетка поверх ее, черные бархатные шаровары, заправленные в лакированные сапоги. На голове у «старца» был котелок, который носили старообрядческие священники, и, хотя я допускаю возможность, что по давности что-либо перепутал, мне твердо запомнилось смешное несоответствие между одеждой и головным убором.
Глаза у Распутина были холодные, умные и злые. Холеной своей бородой он явно щеголял и, хотя был почти неграмотен и никак не воспитан, больше играл этакого «серого мужика», нежели им являлся.
Манасевич очень ловко заговорил с ним о наших общих знакомых. Болезненно болтливый при всей своей хитрости, «старец» начал рассказывать о том, где бывает, кого знает, с кем водится. Очень скоро он начал хвастаться влиянием, которым пользуется при дворе, и, словно стараясь мне доказать, что «все может», стал всячески себя возвеличивать.
Беседа наша продолжалась больше часа, и я не обнаружил в Распутине ни гипнотической силы, ни уменья очаровать собеседника. Передо мной был подвыпивший стараниями Манасевича, развязный и неприятный бородач, смахивающий на внезапно разбогатевшего петербургского дворника. Было ему на вид лет пятьдесят, и я одинаково не мог представить себе ни императорского министра, целующего похожую на лапу грубую руку «старца», ни изнеженных придворных дам, прислуживавших ему в бане.
Я спешил в Псков и уехал из Петрограда, не успев принять окончательного решения. В штабе фронта я вскоре получил от Распутина типичную для него записочку и из начертанных на клочке бумаги каракулей узнал, что и я теперь для этого проходимца «милой и дарогой». В неряшливой записке содержалась и какая-то просьба, которой я не исполнил.
Увольнение мое с должности начальника штаба Северного фронта и оставление в распоряжении главнокомандующего лишило меня всякой власти; мне стало не до борьбы с Распутиным. Рассчитывать на помощь нового главнокомандующего я не мог.
Приехав в Псков, генерал Куропаткин занялся обходом всех учреждений штаба. Решив очаровать штабных офицеров, он расточал ласковые слова и улыбки и был по-придворному щедр на всяческие посулы.
Но, попав в контрразведывательный отдел, генерал повел себя иначе. Обрюзгший, с совершенно седой генеральской бородкой, в грубой защитной шинели, умышленно надетой, чтобы придать себе фронтовой вид, и с одним маленьким белым крестиком вместо многочисленных орденов и медалей, он, Явно играя под боевого генерала, распоясался, как фельдфебель перед новобранцами. Приказав построить в одну шеренгу всех офицеров, прокуроров и следователей отдела, Куропаткин сердито сказал:
— Господа! Должен вам прямо сказать, что вашей работой недоволен не один я, главнокомандующий войск фронта. Вы забыли субординацию, зазнались и, по существу, заводите смуту. Ваши неосторожные действия подрывают доверие не только к верным слугам государя, но и к особам, приближенным ко двору.
Он съязвил насчет «шпиономании», которой якобы больны многие офицеры контрразведки, и начал распространяться о том, что они, подобно услужливому медведю, не столько помогают командованию, сколько делают вредное для империи дело.
— Работа контрразведки будет коренным образом перестроена, — зловещим тоном заключил он. — Большинство чинов отдела будет отчислено. И пусть они скажут спасибо за то, что их не отдают под суд…
Слова главнокомандующего фронта не оказались пустой угрозой, — контрразведка была разогнана и всякая борьба с немецким шпионажем прекращена.
Уничтожив и разладив все то, что было сделано мною в штабе с одобрения Рузского и Плеве, новый главнокомандующий решил объехать подчиненные фронту полевые войска. Он начал с Финляндии, где стоял XLII отдельный корпус.
Требуя, чтобы я повсюду сопровождал его, Куропаткин сделал меня участником всех этих, никому не нужных смотров и парадных обедов, устраиваемых в его честь. К нашему приезду у вокзала выстраивались части гарнизона, и главнокомандующий в сопровождении обширной свиты проходил вдоль фронта одеревеневших «нижних чинов». Порой он останавливался и обласкивал кого-нибудь из солдат или младших офицеров. Со штаб-офицерами и генералами Куропаткин бывал неизменно груб, полагая, что этим вернет давно утраченное доверие войск.
За парадом следовал обильный обед, и смотр на этом кончался. После одного из таких обедов, придя в благодушное настроение, Куропаткин сказал мне:
— Я думаю, Михаил Дмитриевич, что вы будете у меня командующим армией.
Я вежливо поблагодарил, но про себя подумал, что раньше, чем получу обещанное новым главнокомандующим назначение, его за полной непригодностью уберут из Пскова.
Вскоре, не довольствуясь всеми этими парадами и торжественными обедами, Куропаткин решил проявить свои полководческие таланты.
Весна в этот год стояла ранняя, снег начал стремительно таять, и полая вода залила огромную площадь. 8 марта в девять часов утра надвинулись дождевые тучи, загремел гром и разразилась неожиданная, никаким календарем не предусмотренная гроза с ливнем.
Ровно в десять часов утра я вошел в кабинет главнокомандующего для очередного, ежедневно проводившегося обсуждения полученных за ночь оперативных и разведывательных сводок.
— А я, Михаил Дмитриевич, сделал сегодня ночью большое дело,- хвастливо сказал Куропаткин и с победоносным видом протянул мне длинную телеграмму, из которой я узнал, что он, ни с кем не советуясь, приказал частям 5-й армии оставить двинский плацдарм и, перейдя в наступление, овладеть находившимися впереди высотами.
Операция эта намечалась еще зимой, когда замерзшие болота создавали полную возможность для такого наступления. Но генерал Алексеев по каким-то своим соображениям его запретил, и с весной мы перестали о нем думать.
— Едва ли из этого выйдет что-либо удачное, ваше высокопревосходительство, — осторожно сказал я, с ужасом подумав о том, во что превратились заполненные полой водой болота и как разлилась освободившаяся ото льда Западная Двина.
Куропаткин пропустил мое замечание мимо ушей и перешел к какому-то другому вопросу.
Предпринятое по его приказу наступление кончилось полным крахом. Войска, наступавшие по пояс в воде, вынуждены были вернуться на прежние позиции, оставив в болотах около сорока тысяч солдат и офицеров.
Как этого следовало ожидать, Куропаткина вскоре сняли и назначили генерал-губернатором Туркестана, где он еще раз «прославился» — на этот раз зверской расправой с восставшим населением края.
Главнокомандующим Северного фронта был снова назначен Рузский. Будучи с генералом в очень добрых отношениях, если не сказать в дружбе, я все время переписывался с ним, делал что мог для того, чтобы он вернулся на Северный фронт, и полагал, что с возвращением его займу прежнее свое место в штабе. Однако начальником штаба к Рузскому был назначен не я, а генерал Данилов.
Встретившись со мной в Пскове, Рузский не без смущения сказал мне:
— Я не мог просить о назначении вас начальником штаба, потому что этим сделал бы неприятность государю и государыне, которые вашей фамилии даже не назвали.
Из штаба фронта Рузский меня, однако, не отпустил, и я остался в его «распоряжении».
Я попробовал было заговорить о высылке Распутина.
— Нам этого никто не позволит, — сказал Рузский, выслушав меня. — Вы знаете, Михаил Дмитриевич, мое отрицательное отношение к государю. Но Распутина нам с вами не одолеть.
Много позже, уже после смерти Рузского, я понял, в какое неудобное положение поставило его мое намерение расправиться с развратным «старцем».
Возвращение Рузского в Псков устроил не кто иной, как Распутин, и не знать об этом Николай Владимирович не мог. Трудно сказать, что руководило «старцем». Вероятно, безнадежное положение, которое создал на Северном фронте Куропаткин, начало беспокоить двор и самое Александру Федоровну — как-никак войска фронта прикрывали Питер. Это беспокойство и заставило Распутина подумать о сколько-нибудь подходящей кандидатуре. Возможно также, что, устроив назначение Рузского, он рассчитывал сделать своим союзником одного из наиболее популярных в России генералов.
Во всяком случае, он дал царю телеграмму, начинавшуюся так: «Народ глядит всеми глазами на генерала Рузского, коли народ глядит, гляди и ты».
Через несколько дней, когда высочайший рескрипт о назначении Рузского был подписан, Распутин сделал попытку встретиться с ним, но Николай Владимирович отклонил переданное ему через третьих лиц предложение и уехал в Псков.
Распутин был еще жив, когда Рузский командировал меня в Петроград для обследования деятельности контрразведки штаба округа, недавно выделенного из состава фронта, и ознакомления с работой комиссии генерала Батюшина.
Приехав в Петроград, я остановился в собрании армии и флота, где в это время жила моя жена, и, приведя себя в порядок, отправился к генералу Хабалову, не так давно назначенному главноначальствующим Петроградского военного округа.
К приезду моему в Петроград Хабалов отнесся безразлично, но обследованию комиссии Батюшина и контрразведки округа мешать не стал.
Контрразведку округа я застал в самом запущенном состоянии и не получил удовлетворительного ответа ни на один из заданных мною вопросов.
Из штаба округа я проехал в контрразведывательное отделение департамента полиции. Возглавлявший его жандармский полковник доложил мне, что отделение больше всего занято проделками Манасевнча, сделавшегося видным сотрудником комиссии генерала Батюшина.
Оказалось, что русский Рокамболь, снабжая комиссию ложными сведениями, отводил меч правосудия от таких прохвостов, как арестованный, но уже освобожденный банкир Рубинштейн, и обделывал свои темные и прибыльные делишки. Комбинации Манасевича обратили на него внимание департамента полиции. Спасаясь от полиции, Манасевич запутывал факты и ставил комиссию Батюшина в такое положение, при котором она невольно начинала защищать его от уголовного преследования за излюбленный им шантаж.
Тщательно ознакомившись со всеми этими фактами, я составил подробный доклад, который и представил Рузскому после своего возвращения в Псков.
Николай Владимирович, к моему удивлению, остался недоволен докладом и сказал мне, что я слишком уж много места и внимания уделил проходимцу Манасевичу, не заслуживающему ничего, кроме допроса в полицейском участке. Мне и в голову не пришло, что Манасевичем генерал не хотел заниматься по тем же причинам, по которым посоветовал мне не интересоваться больше Распутиным.
Доклад мой так и остался лежать без всякого движения в чьем-то столе, а когда я справился о его судьбе, генерал Данилов рассеянно сказал:
— Да он исчез куда-то. Ну и бог с ним. Главнокомандующий не проявил к нему никакого интереса, и вы, Михаил Дмитриевич, на этот раз, как я думаю, попали мимо цели…
Спустя некоторое время Манасевич был, наконец, пойман с поличным. Товарищ директора Московского соединенного банка Хвостов обратился в департамент полиции с жалобой на то, что Манасевич, обещая избавить банк от якобы намеченного Батюшиным обследования, шантажирует его и требует 25 тысяч рублей.
Директор департамента полиции генерал Климович посоветовал Хвостову передать вымогателю просимые деньги, Предварительно записав номера кредитных билетов. В тот же день Манасевич был арестован при выходе из своей квартиры. Полученные от Хвостова деньги оказались при нём, и мошенник так и не смог отвертеться от уголовного дела. Начавшееся судебное следствие обнаружило, что русский Рокамболь ухитрился за короткий срок создать себе состояние, превышающее триста тысяч рублей. Дело по обвинению Манасевича было назначено к слушанью в Петроградском окружном суде, но по высочайшему повелению отложено, а назначивший его к рассмотрению министр юстиции Макаров уволен в отставку.
Поведение Николая II стало понятным только после опубликования переписки его с Александрой Федоровной.
«На деле Мануйлова прошу тебя написать «прекратить дело» и переслать его министру юстиции. Батюшин, в руках которого находилось все это дело, теперь сам явился к Вырубовой и просил о прекращении этого дела, так как он, наконец, убедился, что это грязная история, поднятая с целью повредить нашему другу», — писала в Ставку императрица.
Через неделю, в ночь с семнадцатого на восемнадцатое декабря, Распутина завлекли в особняк князя Феликса Юсупова, и известный черносотенец Пуришкевич вместе с хозяином квартиры и великим князем Дмитрием. Павловичем, двоюродным братом государя, шестью выстрелами покончили со «святым старцем».
Впрочем, он жил некоторое время даже после того, как отравленный и смертельно раненный был брошен под лед.
Примечания
{24} Перрен Шарль, шарлатан, человек двойного подданства, гипнотизер, предсказатель и несомненный шпион.
{25} Маклера
Глава девятая
Разговоры о дворцовом перевороте. — Мои встречи с царем. — Бездарность верховного главнокомандования. — Грубый просчет, допущенный при подготовке войны. — Николай Николаевич и Алексеев. — Беседа с в. к. Андреем Владимировичем. — Приезд в Псков графа Бобринского. — Секретное письмо Алексеева. — Отречение царя.
Убийство Распутина показало таким малоискушенным в политике людям, как я и многие мои сослуживцы, что монархический образ правления окончательно скомпрометировал себя и не имеет сторонников даже в армии, на которую он, казалось бы, мог рассчитывать. Некоторые из нас пытались утешить себя мыслью, что опорочены только Николай II и его ненавистная народу жена, злая и коварная «Алиса Гессенская». Легковерные люди, мы полагали, что достаточно заменить последнего царя кем-либо из его многочисленных родственников, хотя бы тем же великим князем Михаилом Александровичем, командовавшим с начала войны Кавказской туземной дивизией, и династия обретет былую силу.
Мысль о том, что, пожертвовав царем, можно спасти династию, вызвала к жизни немало заговорщических кружков и групп, помышлявших о дворцовом перевороте.
По многим намекам и высказываниям я мог догадываться, что к заговорщикам против последнего царя или по крайней мере к людям, сочувствующим заговору, принадлежат даже такие видные генералы, как Алексеев, Брусилов и Рузский. В связи с этими заговорами называли и генерала Крымова, командовавшего конным корпусом. Поговаривали, что к заговорщикам примыкают члены Государственной думы. О заговоре, наконец, были осведомлены Палеолог и Джордж Бьюкенен, послы Франции и Великобритании. Довольно туманно сообщалось о каких-то двух кружках, замышлявших насильственное отречение царя. Шли разговоры и о том, чтобы захватить по дороге между Ставкой и Царским Селом специальный поезд, в котором государь ездил в Могилев. Кое-кто из «всезнаек», которых всегда было порядочно в высших штабах и в Ставке, утверждал, что среди заговорщиков идет спор, уничтожить ли только ненавистную всем императрицу или заодно и самого самодержца.
Рузский, несмотря на кажущуюся мою с ним дружбу, свое участие в заговоре от меня скрывал, хотя и не уставал повторять свою неизменную фразу о двух Ходынках.
В декабре шестнадцатого года в Псков приехала с младшей дочерью жена Рузского Зинаида Александровна. Не раз на квартире у главнокомандующего за вечерним чаем начинались откровенные разговоры, и, хотя сам Рузский, как всегда, чего-то не договаривал, Зинаида Александровна, отлично осведомленная о настроениях петербургского общества и знавшая обо всех ходивших по столице слухах, многозначительно издыхала и безнадежно повторяла:
— Бедная Россия! Что с ней будет?
В заговоры меня не втягивали, возможно, потому, что, находясь не у дел, я не представлял интереса для заговорщиков.
Но сам я все чаще ставил перед собой вопрос о своем отношении к династии и царствующему императору. Мне было лет тринадцать, когда нас, воспитанников Межевого института, соединявшего тогда подобие реального училища со специальными землемерно-геодезическими классами, водили в Кремль для участия в хоре во время коронации Александра III. Огромный, с саженными плечами и пышной, как у рождественского деда, бородой царь показался мне сказочным великаном и произвел на меня потрясающее впечатление. Отец, служивший в Москве землемером, был человеком старого закала. С раннего детства в меня, как и в остальных детей, вбивалось безграничное преклонение перед господом богом и его помазанником на земле, и я не мог без слез умиления глядеть на живого, не так уж далеко от меня стоявшего в Успенском соборе и к тому же на редкость величественного императора.
Не могу точно припомнить, когда я впервые увидел Николая II. Вероятно, это было в 1895 году, когда я уже учился в Академии генерального штаба.
Ежегодно 8 ноября в Зимнем дворце отмечался полковой праздник лейб-гвардии Московского полка. Лейб-гвардии Литовский полк, в котором я служил до поступления в Академию, был расквартирован в Варшаве. Но так как оба полка формировались в одно и то же время еще перед Отечественной войной с французами, то на парадный обед во дворец приглашались и все оказавшиеся в столице офицеры Литовского полка. В числе приглашенных были и слушатели Академии. Ни самый обед с накрытыми на четырех человек столиками, ни однообразные тосты, ни даже появление государя особого впечатления на меня не произвели — место восторженного мальчика занял двадцатипятилетний офицер, много читавший и нисколько не веривший в святость «божьего помазанника».
Говорить с царем мне пришлось только перед выпуском из Академии; разговор этот тоже не произвел на меня заметного впечатления.
В начале мая начальник Академии генерал Леер по существующей традиции представил весь выпуск государю, приехавшему для этого к нам на Английскую набережную. Николаю II шел тогда тридцать второй год, но выглядел он значительно старше из-за помятого своего лица и мешков под неподвижными глазами. На нем был мундир армейского офицера, на полковничьих погонах темнели вензеля Александра III. Говорил он тихим, но четким голосом, был очень вежлив, но явно скучал и, словно нехотя, обходил выстроившихся выпускников. Леер останавливался около каждого из нас и представлял государю.
— Лейб-гвардии Литовского полка штабс-капитан Бонч-Бруевич, — доложил Леер, когда царь приблизился ко мне, и не без некоторого самодовольства прибавил: — Всегда отлично учился, ваше императорское величество.
Генерал был видным военным теоретиком, выпустил три тома своего капитального труда по стратегии, которую и преподавал в Академии, и, как всякий преподаватель, одобряя мои успехи, в значительной степени относил их за свой счет.
Государь безразлично выслушал Леера и вяло спросил, что я собираюсь делать после окончания Академии.
Я доложил, что меня больше всего интересует штабная и военно-научная работа.
Царь кивнул головой и протянул мне руку. Я прикоснулся к безжизненным его пальцам; он в упор поглядел на меня тяжелым взглядом своих свинцовых глаз, и. все-таки мне показалось, что он не видит меня, — такое безразличие было написано на его лице. Нездоровое лицо это с волосами и бородой цвета спелой соломы было от меня на расстоянии вытянутой руки, я разглядел мелкие, веерообразные морщинки у его глаз, безвольные губы, чуть ноздреватую кожу мясистого носа и решил, что встреть я его на улице или на учебном плацу, никогда, бы не отличил от любого из удивительно похожих друг на друга армейских офицеров-неудачников.
В следующий раз я увидел государя во время столетнего юбилея обоих гвардейских полков: Московского и Литовского.
Я был уже полковником генерального штаба, и ни обед в Зимнем дворце, ни последовавший за этим концерт никакого интереса во мне не вызвали. Да и отношение к царю даже такого аполитичного штабного службиста, каким я был в ту пору, резко изменилось К худшему, — трудно было забыть о бессмысленном расстреле безоружной толпы на Дворцовой площади, о бесславно проигранной японской войне и о подавленной, но все-таки сумевший развенчать последнего самодержца революции пятого года.
За несколько месяцев до первой мировой войны, перед отъездом из Петербурга в Чернигов, я как вновь назначенный полковой командир представился государю.
Он начал расспрашивать меня про полк. По службе своей в Киевском военном округе я отлично знал все входившие в него части и потому смог ответить на вопросы самодержца. Но он, как мне показалось, расспрашивал меня только потому, что так было положено.
Со второго года войны, когда Николай II принял на себя верховное командование русскими войсками, я видел его много раз, но встречи эти почти не остались в памяти. Время от времени в Могилеве устраивались совещания главнокомандующих фронтов; генерал Рузский часто по-настоящему или дипломатически «заболевал», и мне приходилось вместо него делать доклады о состоянии фронта в присутствии императора.
Ярче других запомнилось совещание в Ставке, проведенное 11 февраля 1916 года, должно быть потому, что и я и Плеве возлагали на него очень много надежд и были жестоко разочарованы.
По приказанию Плеве я разработал план операции, которая должна была, как мы с ним полагали, резко улучшить положение Северного фронта. В специально составленной мною докладной записке основная цель действий Северного фронта была охарактеризована следующими словами: «Удерживаться на реке Западная Двина до конца войны и при возможности нанести германцам удар с развитием его действиями крупных резервов на левом берегу Зап. Двины, пользуясь для этого удерживаемыми нами плацдармами».
В записке была указана необходимость передачи в состав Северного фронта войск с других второстепенных фронтов и подчеркивалось, что «решению активной задачи благоприятствует выгодное (охватывающее) положение фронта относительно германцев». Было решено, что Плеве сам доложит эту записку на совещании. По прибытии в Ставку Плеве был немедленно принят государем, а затем оба мы были приглашены к обеду за «высочайшим» столом.
В назначенное время мы были уже в доме, в котором, приезжая в Ставку, жил Николай II. Сама Ставка, вернее, управление генерал-квартирмейстера, помещалась на высоком берегу Днепра, в очищенном для этой цели доме губернского правления. Рядом через двор находился дом генерал-губернатора, отведенный царю. В доме этом, кроме государя и наследника, когда его привозили в Могилев, размещались министр двора Фредерикс, гофмейстер, дворцовый комендант Воейков и дежурный флигель-адъютант.
Поднявшись на второй этаж губернаторского дома, мы попали в оклеенный белыми обоями зал. Небольшой, со скромными портьерами, строгой бронзовой люстрой и роялем, зал постепенно заполнялся приглашенными к обеду. Наконец вышел царь, одетый в привычную форму гренадерского Эриванского полка.
Обойдя всех ожидавших его, государь направился к дверям, ведущим в столовую. Двери как бы сами открылись перед ним, и, повернув голову, он сделал знак собравшимся в зале генералам, приглашая их следовать за собой.
В столовой стояли два стола: большой сервированный для обеда, и маленький — у окна, с закуской. Царь первым подошел к закускам и, налив себе серебряную чарочку, быстро выпил. В том едва уловимом движении губ, которое он, не разрешая себе из соображений хорошего тона причмокнуть, все-таки сделал, было что-то от обычной армейской манеры пить: обязательно залпом, не сразу закусывая и ни в коем случае не морщась. Вслед за государем к водке подошли и остальные.
Гофмаршал обошел приглашенных, указывая, кому где сесть. В руке у него был список, но он в него почти не заглядывал, давно набив руку на этом не ахти каком сложном деле.
Когда все закусили, царь направился к своему месту и сел спиной к залу. По правую его руку, как обычно, поместился Алексеев, по левую — посадили генерала, Иванова, все еще командовавшего Юго-Западным фронтом, и рядом — бог весть зачем объявившегося в Ставке Куропаткина. Ни я, ни Плеве не предполагали, что еще через день этот «герой» бесславно проигранной русско-японской войны будет назначен главнокомандующим Северного фронта.
Тарелки, рюмки, чарки были серебряные, вызолоченные внутри. Подавали лакеи в солдатской форме защитного цвета; им помогал дворцовый скороход. На столе стояли вина в серебряных кувшинах; ни стекла, ни фарфора не было — Ставка считалась в походе, и потому из сервировки были исключены все бьющиеся предметы.
После сладкого царь вынул портсигар.
— Кто желает курить? — спросил он.
Когда государь докурил папиросу, подали кофе. После обеда в кабинете царя началось совещание. Все три главнокомандующих фронтов{26} были с начальниками своих штабов. Рядом с государем сидел Алексеев; около него, не вмешиваясь в разговор и льстиво улыбаясь, пристроился генерал Куропаткин.
Алексеев сделал короткий обзор положения на фронтах и умолк. Царь повернул свое чуть припухшее лицо к Плеве; главнокомандующий поспешно встал и, волнуясь, начал докладывать о том, что нас с ним занимало больше всего. Слушали его плохо: у государя было скучающее выражение лица; Алексеев, наклонившись к рядом сидевшему Куропаткину, время от времени бросал ему чуть слышные реплики.
Когда Плеве дошел до задуманного штабом фронта, но запрещенного Алексеевым наступления, царь оживился и громко сказал:
— Значит, прозевали.
Плеве, наконец, кончил, но вместо обсуждения доклада царь начал вспоминать о боевых подвигах, совершенных на Северном фронте. Плохо разбираясь в вопросах стратегии и тактики, он всегда предпочитал говорить об отдельных эпизодах. Кто-то вынес раненого офицера с поля боя, еще кто-то был в разведке и захватил «языка»; третий был ранен, но не покинул строя… Все эти похожие друг на друга, обычно приукрашенные штабами случаи легко запоминались государем, и он любил о них говорить. При обсуждении же сложных вопросов у царя был такой страдающий вид, что можно было подумать, что у него заболели зубы.
Это была обычная для Николая II манера поведения на совещаниях, но прежде он все-таки давал хоть немного поговорить о поставленных на обсуждение вопросах. На этот раз он демонстративно не открыл прений, и мне стало ясно, что злопамятный царь делает это умышленно, чтобы показать, как мало он, верховный главнокомандующий, считается с заслуженным своим генералом.
Любой из присутствующих на совещании умел понимать настроение царя даже по еле приметному жесту. Догадавшись, что он по каким-то своим соображениям не хочет обсуждать предложений Плеве, все наперебой предались воспоминаниям. Даже меня Алексеев заставил рассказать о нескольких, наиболее ярких боевых эпизодах, имевших место за последние дни в частях фронта.
Об оперативных планах Северного фронта никто не сказал ни слова. Этикет не позволил мне первому заговорить об этом, а царь так и не коснулся того, ради чего, собственно, и отрывали чрезмерно загруженных главнокомандующих от прямого их дела.
После совещания все вышли во двор и снялись вместе с Николаем II. После этого государь подошел ко мне и, пожав руку, изобразил на своем отекшем лице особенно любезную улыбку. Зная характер царя, я понял, что меня ждет какая-то очень большая неприятность.
Мы вышли на улицу, и потрясенный Плеве, забыв о своей многими годами службы воспитанной сдержанности, сказал:
— Все это неспроста. Я чувствую, что мы с вами, Михаил Дмитриевич, работаем последние дни. Но как можно во время такой войны создавать такое в самой Ставке…
Предчувствие не обмануло Плеве — на следующий день стало известно, что на его место, как я уже об этом писал, назначается генерал Куропаткин. Был освобожден от должности начальника штаба и я.
Немалую горечь ощущал я и после многих других посещений Ставки и участия в созываемых в ней совещаниях, не заканчивавшихся для меня так печально.
Царь явно не годился для взятой им роли верховного вождя русских армий, и это понимали даже те, кто по привычке считал себя до конца преданным монархии. Попытку взять на себя верховное командование Николай II сделал еще в самом начале войны, но тогда его отговорили от этого безумного намерения. Но независимо от бездарности царя катастрофа была неизбежна.
Готовясь к войне с Германией, правительство царской России допустило грубый просчет, стоивший миллионов человеческих жизней, потери значительной территории и, наконец, проигрыша всей кампании.
Не только военное ведомство, кабинет министров. Государственный совет и двор, но и «прогрессивная» Государственная дума были уверены, что война с немцами закончится в четыре, от силы — в семь-восемь месяцев{27}. Никто из власть имущих не предполагал, что военные действия затянутся на несколько лет. Все мобилизационные запасы делались с расчетом на то, что кампания будет закончена, если и не до снега, то во всяком случае не позже весны.
Расчет на быстрое окончание войны и этакая купеческая «широта» натуры повели к тому, что и без того недостаточные запасы вооружения, боевых припасов, снаряжения, обмундирования и продовольствия расходовались в первые месяцы войны с чудовищной расточительностью.
Воровства и злоупотреблений в интендантстве и в военном ведомстве во время первой мировой войны было, пожалуй, поменьше, нежели в период Севастопольской обороны, но это ни от чего не спасало. Все равно все, кому не лень, крали и расхищали казенное добро; основной бич старой России – взятка проникала в любые министерские кабинеты; взявшие на себя заботу о снабжении нашей армии союзники подлейшим образом не выполняли своих обязательств; наконец, к такой войне Россия не готовилась и вести ее не могла.
Невыполненными оказались и стратегические планы. Накануне войны предполагалось, что с объявлением ее русские войска поведут через Силезию наступление на Берлин. Будь это сделано, мы, вероятно, оказались бы в германской столице. Но правый фланг русской армии почему-то устремился в Восточную Пруссию, и неумное наступление это погубило армии Самсонова и Ренненкампфа. Наступление же в Галиции завело несколько наших армий в Карпаты, где мы безнадежно застряли.
Началось тяжелое похмелье. Неожиданно выяснилось, что в войсках нет ни снарядов, ни винтовок, ни сапог. Великолепный русский солдат должен был чуть ли не палкой отбиваться от отлично вооруженного и обеспеченного всем необходимым противника.
Пограничные крепости, на которые до войны возлагалось столько надежд, пали порой в результате прямого предательства и измены. Так было, например, с Ковенской крепостью, комендант которой генерал Григорьев был отдан под суд, разжалован и присужден к 15 годам каторжных работ.
Обвинительный акт, обличавший Григорьева в преступном бездействии и в самовольном оставлении осажденной и своевременно не укрепленной крепости, был направлен не столько против этого трусливого генерала, сколько против всей порочной системы руководства, насаждавшейся в дореволюционной русской армии.
Уже летом 1915 года русская армия перешла к позиционной войне на всем австро-германском фронте. Но и для такой войны у нас не нашлось ни достаточных сил, ни оружия и боевого снаряжения. Огромные потери во время отступления повели к тому, что в пехоте пришлось перейти с четырехбатальонных полков на трехбатальонные, а в артиллерии вместо шестиорудийных батарей формировать четырехорудийные.
Все это не могло не волновать тех офицеров и генералов, которые готовы были честно и до конца, как они это понимали, выполнить свой долг перед родиной.
Как было и с распутинщиной, так и здесь на фронте любому из нас, соприкоснувшемуся с чудовищной бестолочью, подлостью и изменой, казалось, что достаточно «открыть» кому-то наверху глаза, и все пойдет, как надо.
Это было заведомой «маниловщиной», но тогда я этого не понимал и в меру моих сил пытался довести до сведения правительства и даже до царя правду о том, что делается на необозримых фронтах войны.
Хорошо помню две такие мои попытки.
2 августа 1915 года вагон-салон, в котором мы с Рузским ехали по вызову великого князя, прибыл на станцию Волковыск, где находился штаб Северо-Западного фронта. Почти одновременно подошел и поезд Николая Николаевича.
Великий князь пригласил Рузского и меня к себе. Едва мы вошли, как явился генерал Алексеев, которого справедливо считали основным виновником создавшегося на Северо-Западном фронте катастрофического положения.
— Ваше высочество, — плачущим голосом начал Алексеев,- армии фронта отступают, и неизвестно, когда и где они остановятся. Не лучше ли мне уйти с поста главнокомандующего армий фронта? Право, ваше высочество, освободите меня и увольте на покой, — продолжал Алексеев, отлично зная слабости великого князя.
Расчувствовавшись, Николай Николаевич обнял генерала и сказал, что за все, что творится на фронте, ответственность падает на него самого, верховного главнокомандующего. Видя, что его дело выиграно, Алексеев принялся каяться и окончательно умилил великого князя. Я понял, что ни мне, ни Рузскому не переубедить верховного главнокомандующего, и огорченный вышел из вагона.
Давно уже я не был так подавлен. Положение, в котором оказались русские армии, казалось мне безнадежным, и я понимал, что думаю так не от излишнего пессимизма. Поспешное отступление спасало еще наши войска от полного разгрома, но положение день ото дня делалось все тяжелее и катастрофичнее. Поток «беженцев», из которых едва ли не большинство бросало насиженные места под нажимом не в меру ретивых начальников, захлестнул забитые составами железные дороги. Солдаты тысячами сдавались в плен, моральный дух войск был подорван; наряду с паническим отступлением войск Северо-Западного фронта, сплошные неудачи преследовали нас и на Юго-Западном, уже откатившемся из Восточной Галиции к границам Киевского военного округа. Висла, за которую так цеплялся генерал Алексеев, была оставлена, Брестско-Белостоцкий район, в котором сходились пути отходивших к востоку русских армий, был накануне полного захвата его германскими войсками.
Конечно, в угрожавшем русским войскам разгроме виноват был не только генерал Алексеев. Но как главнокомандующий Северо-Западного фронта он сделал многое, чтобы ускорить этот разгром, и мне казалось, что проявленная только что верховным главнокомандующим мягкотелость гибельно скажется на дальнейшем ходе всей этой, видимо, проигранной войны.
Утопающий хватается за соломинку, и я решил, что даже замена генерала Алексеева кем-либо из других генералов может сделать много… В вагоне верховного главнокомандующего находился великий князь Андрей Владимирович{28}, и мне подумалось, что через него я добьюсь принятия Ставкой тех мер, без которых вслед за Брестом могла быть сдана и Рига.
Я дождался, наконец, Андрея Владимировича и, махнув рукой на придворный этикет, постарался нарисовать великому князю ту ужасающую картину, которая так отчетливо представлялась мне.
— Прошу извинить меня за резкость, ваше высочество, но я буду говорить так, как думаю, — с жаром заговорил я, когда великий князь выразил готовность меня выслушать, — Генерал Алексеев вообразил себя Кутузовым, забыв, что сам он далеко не прославленный фельдмаршал и что теперь не 1812 год. Тогда русская армия отступала глубокими колоннами, но узкой полосой; теперь развернутые в боевые порядки армии отходят на широком фронте от болот Полесья до Балтийского моря и Курляндии. Отступая, войска оставляют противнику огромную территорию со всем, что на ней находится, и этим явно усиливают его.
Я напомнил Андрею Владимировичу о том, что все пограничные, крепости — Ново-Георгиевск, Варшава, Ивангород, Брест, Ковно, Осовец и Гродно были сданы немцам вследствие отступления армий, действовавших в промежутках между ними, и долго еще горячо и взволнованно убеждал его в необходимости принятия государем решающих мер по реорганизации фронтов, изменению дальнейшей тактики и стратегии, упорядочению снабжения войск и замене командующих и даже главнокомандующих, начиная с Алексеева.
Я не просил великого князя говорить с государем, военная субординация и придворный этикет все же связывали меня, я и так позволил себе недопустимую откровенность с членом царской фамилии. Но Андрей Владимирович понял меня и обещал поговорить с царем.
Старый военный, командовавший лейб-гвардии конной артиллерией, он был как будто убежден моими горячими речами, но… ничего не сделал. Правда, никаких неприятностей от этого не в меру откровенного разговора я не имел.
Зато другая такая попытка, тоже не дав никаких положительных результатов, вызвала нудную и кляузную переписку Ставки с генералом Плеве и повела к обвинениям меня в раскрытии военной тайны.
В начале 1916 года в Псков приехал граф Бобринский, сенатор и член Государственного совета{29}, и обратился ко мне через своего зятя, корнета Шереметьева, с просьбой принять его. Зная, что граф близок к высшим петербургским сферам, я дал согласие и решил использовать разговор с ним для того, чтобы истинное, весьма плачевное положение дел на театре военных действий стало известно и наверху.
Визит Бобринского, насколько я понял, был вызван тем беспокойством за столицу, которое испытывала петроградская знать в связи с поражением русских войск. Успокоив графа и уверив его, что опасаться за Петроград нет оснований, пока немцы не сосредоточат силы для решительного удара, я, остановившись на перспективах войны, прямо сказал, что вопрос об ее окончании загнан в тупик «стратегами» из Ставки и, в частности, генералом Алексеевым. Не называя цифр и не сообщая Бобринскому никаких секретных сведений, я не постеснялся нарисовать ему подлинную картину разгрома немцами армий Юго-Западного и Западного фронтов. Растолковав значение Северного фронта, не только прикрывающего Петроград, но и дающего возможность покончить с бессмысленной позиционной войной и перейти, как это было замышлено еще Рузским, к активным действиям против германских войск, я полагал, что привлеку через графа внимание двора и самого государя к нуждам нашего фронта.
Однако прошла неделя, другая, и вдруг оказалось, что разговор, который я вел с графом Бобринским с глазу на глаз, стал известен давно подкапывавшемуся под меня всесильному начальнику штаба Ставки генералу Алексееву. Смрадной атмосфере постоянных и сложных «дворцовых» интриг, царившей в Ставке, сопутствовала целая система внутреннего шпионажа. В штабе верховного главнокомандующего было немало любителей посплетничать высокому начальству, передать да притом еще в утрированном виде то, что какой-либо нижестоящий генерал неосторожно сказал о вышестоящем; словом, хватало и осторожных клеветников, и тайных доносчиков, и убежденных ябедников.
Воспользовавшись тем, что я говорил графу Бобринскому, генерал Алексеев приписал мне то, о чем я даже не заикался, и раздул всю эту историю до размеров чуть ли не государственной измены столь неприятного ему Бонч-Бруевича. Спустя некоторое время главнокомандующий Северного фронта получил из Ставки подписанное самим Алексеевым «совершенно секретное» письмо, выдержку из которого я не могу не привести:
«Сего числа дворцовый комендант свиты его величества генерал-майор Воейков сообщил мне со слов управляющего кабинетом его величества генерал-лейтенанта Волкова и члена Государственного совета графа Бобринского суть разговора, который вел начальник штаба Северного фронта генерал-майор Бонч-Бруевич с графом Бобринским, — писал Алексеев, -генерал-майор Бонч-Бруевич высказал графу Бобринскому:
1. Северному фронту не дают надлежащего количества войск и средств, в соответствующих ходатайствах отказывают. С наличными силами нет возможности отбить натиск германцев на Петроград (если бы он состоялся); столица в опасности. Главнокомандующий фронта и его начальник штаба не могут нести ответственность за грядущие неудачи.
2. Генерал-майора Бонч-Бруевича «травят», но он найдет возможность получить аудиенцию у государя императора и доложить его величеству всю неправильность действий и распоряжений по отношению к Северному фронту.
Прошу ваше высокопревосходительство предписать ген.-м. Бонч-Бруевичу представить свои объяснения, почему он считает не только возможным, но и уместным и желательным посвящать в служебные секреты и дела лиц, совершенно не принадлежащих к составу армии, без убеждения, что дела эти и суждения не сделаются известными большому числу лиц и не явятся источником тревоги нашего нервно-настроенного общества; главное же, эти суждения, сделавшись достоянием общим, могут быть получены и нашим противником…»
В этом же письме я обвинялся и в том, что якобы осведомлял председателя Государственной думы Родзянко о секретной переписке Ставки со штабом Северного фронта. Налицо, таким образом, было все для привлечения меня к суду за разглашение военной тайны.
Генерал Плеве, который тогда еще командовал фронтом, ознакомил меня с этими сфабрикованными в Ставке обвинениями. Разумеется, никакому Родзянко я содержания секретных телеграмм не сообщал, как и не вел с ним каких-либо разговоров. Давно уже я не видел и генерала Воейкова. Судя по всему, кроме Алексеева, удружил мне и пресловутый Воейков, ярый защитник петроградских немцев, давно мечтавший подложить мне свинью.
Я подал главнокомандующему фронта рапорт, в котором категорически опроверг все эти измышления. Но, как говорилось тогда, «пошла писать губерния», и долго еще ничего, кроме неприятностей, я не имел от памятного разговора «по душам».
Еще в те времена, когда я был начальником штаба фронта, интересы обороны столицы потребовали строительства нескольких рокадных железных дорог. Я успел закончить лишь линию Нарва — Псков. Соединявшую железные дороги Псков — Двинск и Псков — Рига линию продолжали строить до самой революции.
В начале февраля 1917 года генерал Рузский командировал меня на эту, все еще недостроенную дорогу.
Зима выдалась необычно суровая, земля глубоко промерзла, лопата грабаря не брала мерзлого грунта, и, если бы даже на строительстве не было воровства и взяточничества, столь неотделимого в то время от постройки любой железной дороги, дело все равно не шло бы.
Вагон-салон доставил меня на станцию, еще недостроенную и не открытую. Отсюда я и сопровождавшие меня офицеры на лошадях выехали на линию. Стояли тридцатипятиградусные морозы, ночевали мы больше в сараях и неотапливаемых бараках, вместо обеда приходилось довольствоваться подмерзшими мясными консервами и затвердевшим солдатским хлебом.
Едва отъехав от железной дороги, мы оказались совершенно оторванными от жизни. Не только столичные газеты, но даже слухи не проникали в эту болотную глушь. Было это уже после убийства Распутина, когда Петроград, Москва и другие промышленные города империи походили на готовый ожить вулкан. Даже такие далекие от политики люди, как я и мои спутники, слышали подземный гул, предвещающий близкое извержение. Но здесь, на приостановленной стройке стратегической военной дороги, стояла глухая тишина. Дул ледяной февральский ветер, занесенные снегом редкие деревеньки были безмолвны, лишь вялый дымок над утонувшей в сугробах ветхой избушкой напоминал о том, что не все еще вымерло в этой снежной пустыне.
Вернувшись на станцию и очутившись снова в своем, показавшемся на редкость привлекательном вагоне, я был счастлив, как никогда, Поставленный денщиком самовар наполнял душу блаженством, дешевый чай, заваренный в казенном фаянсовом чайнике, показался необычайно вкусным и ароматным. Избавившись от заиндевевшего тулупа, валенок, рукавиц и еще каких-то теплых вещей, без которых поездка вдоль строящейся рокадной дороги была бы немыслима, я собрался поужинать, как вдруг адъютант принес со станции копии телеграмм, в которых говорилось о восстании в Петрограде. Сообщалось, что не только Государственная дума, но и армия требуют отречения царя.
Я вспомнил излюбленную фразу Рузского о Ходынке и подумал, что предсказанный им крах самодержавия наступил. Никогда еще революционные волнения в столице не носили такого широкого характера. Телеграммы утверждали, что к демонстрантам присоединились и войска.
Я приказал коменданту станции прицепить мой вагон к первому отходившему поезду и ранним утром 3 марта был уже в Пскове.
Поезд едва подошел к станции, как в вагон мой вошел полковник из железнодорожного жандармского отделения, не раз бывавший у меня по всяким, связанным со штабом фронта делам. Обычно молодцеватый и самоуверенный, он был бледен и растерян,
— Ваше превосходительство, беда, — начал он еще на пороге, — государь император отрекся. Как же теперь, а?
Он беспомощно уставился на меня испуганными глазами и замер в ожидании ответа. Он ждал, что я ободрю его, скажу что-нибудь утешительное, объясню, что делать и как быть.
Но я промолчал. Еще меньше, нежели испуганный жандарм, я знал, что ждет сбросившую ненавистное самодержавие огромную, озлобленную трехлетней бессмысленной бойней страну. Не мог я и представить себе, что ожидает меня, моих близких, моих товарищей по армии. Я скорее чувствовал, нежели понимал, что на Россию надвинулся девятый вал, о котором очень много говорили, но в который никто из окружавших меня по-настоящему не верил.
«Пусть будет, что будет»,- решил я и поехал в штаб фронта, чтобы доложить генералу Рузскому о своем приезде.
Примечания
{26} Иванов — Юго-Западного фронта, Эверт — Западного и Плеве — Северного.
{27} Примерно такие же просчеты были допущены всеми воевавшими государствами. Россия в этом смысле не исключение. Но остальные, будучи экономически крепче, смогли выправить положение.
{28} Андрей Владимирович Романов (род. в 1879 г.), брат Кирилла, будущего эмигрантского претендента на русский престол, племянник. Николая II. Как все «Владимировичи», принадлежал к наиболее реакционной ветви царского дома.
{29} Бобринский Алексей Александрович, граф (род. в 1852 г.), обер-гофмейстер, член Государственного совета и III Государственной думы (возглавлял крайние правые партии), крупнейший сахарозаводчик, единомышленник виднейшего мракобеса П. Дурново, идеолога теснейших связей с монархиями Габсбургов и Гогенцоллернов во имя спасения династии. После смерти Дурново лидер «правых» — черносотенцев.
Глава десятая
Приказ №1. — Ночной провожатый. — Убийство полковника Самсонова. — Я назначаюсь начальником псковского гарнизона. — Состав гарнизона. — Псковский Совет. — Настроение в армии. — Уход с фронта. — Революционная дисциплина. — Судьба генерала Рузского. — Офицеры и советы. — Приезд военного министра Гучкова.
Мой служебный вагон-салон был поставлен на запасный путь, на котором накануне стоял поезд отрекшегося императора. Отречение произошло меньше чем за сутки до моего приезда. Генерал Рузский, к которому я отправился с рапортом о прибытии, был в числе тех немногих людей, которым довелось присутствовать при подписании царем акта отречения.
— Говорят, великий князь Михаил откажется от престола, хоть государь и отрекся в его пользу, — сказал мне Николай Владимирович. — Ненависть к династии настолько велика, что вряд ли кому-нибудь из Романовых удастся снова оказаться у власти. Мне передавали, что вчера великий князь просил дать ему поезд для поездки из Гатчины в Петроград, но в Совете ему сказали, что «гражданин Романов может прийти на станцию и, взяв билет, ехать в общем поезде».
— В каком Совете? Что за Совет? — удивился я. О возникновении Советов рабочих и солдатских депутатов я еще ничего не слышал и был далек от мысли о том, что с совместной работы с одним из таких Советов — Псковским — начнется мое вхождение в новую послереволюционную жизнь.
— А вот это вы видели? — вместо ответа спросил Рузский и протянул мне измятый номер газеты, снабженный совершенно необычным заголовком:
«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»,- прочел я.
— Возьмите с собой, у меня есть лишний номер, — предложил Николай Владимирович. — Обратите особое внимание на опубликованный здесь приказ № 1. Я думаю, что это — начало конца, — мрачно добавил он.
Вернувшись в вагон, я поспешил познакомиться с приказом, так сильно расстроившим главнокомандующего фронта. Признаться, сделав это, я впал в такую же прострацию.
Обращенный к гарнизону Петроградского округа приказ № 1 отменял отдание чести и вставание во фронт. Отменялось и титулование. Я перестал быть «вашим превосходительством» и не имел права говорить солдату «ты»; солдат не являлся больше «нижним чином» и получал все права, которыми революция успела наделить население бывшей империи. Наконец, во всех частях выбирались и комитеты и депутаты в местные Советы. Приказ оговаривал, что в «своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам».
Я не мог не понять, что опубликованный в «Известиях» приказ сразу подрывает все, при помощи чего мы, генералы и офицеры, несмотря на полную бездарность верховного командования, несмотря на ненужную, но обильно пролитую на полях сражения кровь, явное предательство и неимоверную разруху, все-таки подчиняли своей воле и держали в повиновении миллионы озлобленных, глубоко разочаровавшихся в войне, вооруженных людей.
Хочешь не хочешь, вместе с отрекшимся царем летел куда-то в пропасть и я, генерал, которого никто не станет слушать, военный специалист, потративший многие годы на то, чтобы научиться воевать, то есть делать дело, которое теперь будет и ненужным и невозможным. Я был убежден, что созданная на началах, объявленных приказом, армия не только воевать, но и сколько-нибудь организованно существовать не сможет.
Ко всем этим тревожным мыслям примешивалась и мучительная боязнь, как бы воюющая против нас Германия не использовала начавшейся в войсках сумятицы. По дороге в штаб фронта я видел, как изменились и поведение и даже внешний облик солдата. Генеральские погоны и красный лампас перестали действовать. Вместо привычного строя, в котором солдаты доныне появлялись на улицах города, они двигались беспорядочной толпой, наполовину перемешавшись с одетыми в штатское людьми. Начался, как мне казалось, полный развал армии.
Все это безмерно преувеличивалось мною. И все-таки, несмотря на мерещившиеся мне страхи, привычка к штабной службе делала свое. Выслушав мой скомканный отчет о поездке, Рузский не дал мне никакого нового распоряжения, и я, послав коменданту станции записку с приказанием прицепить мой вагон к пассажирскому поезду, решил продолжить свою затянувшуюся командировку.
В Пскове меня и знали и побаивались. Несмотря на бестолочь, царившую на станции, очень скоро послышался лязг буферов, маневровый паровоз потащил мой вагон по путям, буфера снова загрохотали, и, выглянув в тамбур, я увидел, что нас прицепили к пассажирскому составу.
Минут за пять до отхода поезда в занятое мною купе нервно постучали. Открыв дверь, я увидел дежурного офицера для поручений при штабе фронта.
— Ваше превосходительство,- задыхаясь от быстрой ходьбы, доложил офицер,- главнокомандующий требует вас к себе. На квартиру.
Решив, что вызов к Рузскому вызван желанием его уточнить прежние распоряжения о строительстве рокадной дороги, я приказал своим спутникам подождать моего возвращения и предупредить коменданта, чтобы вагон отцепили и отправили со следующим поездом.
Несмотря на расстроенное состояние, в котором я давеча застал Рузского, он, не очень внимательно выслушав меня, все же сказал, что очень заинтересован в скорейшем открытии движения по вновь построенной линии. Фраза эта и заставила меня предполагать, что поздний вызов связан именно с этим вопросом.
Одевшись и надев оружие, я вышел к ожидавшему меня штабному автомобилю и поехал на хорошо знакомую квартиру Рузского, в которой не раз бывал запросто.
Шел двенадцатый час ночи, с вечера крепко подморозило, на пустынном шоссе, словно сквозь дым, тускло просвечивали редкие фонари. Когда открытая машина поравнялась с «распределительным пунктом», послышались крики, и я не сразу догадался, что они относятся ко мне.
— Стой! Кто едет? — бросившись наперерез, выкрикивали какие-то солдаты. В морозной тишине отчетливо послышался стук ружейных затворов, и я понял, что солдаты на ходу заряжают винтовки. Солдат было человек пять. Были с. ними и двое штатских, резко выделявшихся своим видом даже в ночном сумраке.
— Вылезай! — грубо скомандовал добежавший первым солдат.
— А ну, живо! — поддержал его второй. Солдаты опередили своих штатских спутников, и пока те подошли, в автомобиль с обеих сторон просунулись винтовки и штыки их уперлись в надетую на мне шинель.
Не задумываясь над тем, что делаю, я раздраженно отстранил руками направленные на меня штыки. К автомобилю подбежали неизвестные в штатском, видимо, распоряжавшиеся солдатами, один из них разглядел мои генеральские погоны и на ломаном русском языке спросил, кто я.
Я назвался и прибавил, что еду по личному вызову главнокомандующего. Сойдя на снег, я сердито сказал, что это черт знает что — задерживать едущего по делам генерала, да еще направив на него штыки. Я был настолько обозлен, что не подумал об опасности, которой подвергаюсь.
Отстав от меня, солдаты занялись шофером. Висевший у него на поясном ремне штык привлек их внимание, и они потребовали, чтобы шофер его сдал. Ободренный сердитым тоном, которым я отчитывал штатского, шофер заупрямился; началась перебранка.
Ссылка на главнокомандующего произвела впечатление, и штатский, с которым я препирался, сказал, что я могу продолжать свой путь.
— Нет уж, если хотите, сами поезжайте в автомобиле, а я пешком пойду,- заупрямился я.- Зачем мне ехать, если на любом углу меня могут снова остановить и высадить из машины.
Я повернулся на каблуках и, осуществляя свою смешную угрозу, зашагал по скрипевшему под ногами снегу.
— Я вас буду просить садиться в машина, герр генераль,- почему-то попросил штатский, выдавая свое немецкое или австрийское происхождение. — Вы есть позваны к генераль Рузский… И это не есть можно ходить пеший, — с трудом подбирая русские слова, продолжал он.
Вероятно, он был из немецких или австрийских военнопленных. Он даже что-то сказал насчет того, что был «кригсгефангенер», но теперь «есть свободный человек». Не знаю, что руководило им, но он принялся уговаривать меня и даже прикрикнул на солдат, чтобы они отстали от заупрямившегося по моему примеру шофера. Я согласился продолжать путь в автомобиле, но с тем условием, чтобы он, этот неизвестный штатский, сел рядом с шофером и охранял меня, пока мы не доедем до дома, в котором квартирует главнокомандующий.
Он сел на переднее сиденье и довез меня до нужного дома.
Мы расстались, и я так и не узнал, кто был мой провожатый. Несмотря на поздний час, главнокомандующий был не один. В кабинете его я застал начальника гарнизона, бравого и солдафонистого генерала. Вид его поразил меня. На глазах генерала были слезы, следы которых можно было заметить и на огрубелых щеках, голос, обычно резкий и громкий, дрожал и сбивался на какой-то шелестящий шепот. Кроме генерала, в кабинете оказался какой-то человек, назвавшийся представителем городского комитета безопасности. Несколько поодаль стояли адъютанты главнокомандующего — Шереметьев и Гендриков — и тихонько переговаривались, сообщая друг другу о идущих в городе самочинных обысках и арестах.
Сам главнокомандующий, когда я вошел, был занят телефоном. Не отнимая телефонной трубки от уха, он кивнул мне и глазами показал на свободное кресло. Спустя несколько минут из реплик, которые подавал Рузский в телефонную трубку, и из коротких вопросов, которые он вдруг задавал перетрусившему начальнику гарнизона, я понял, что ночной вызов мой обусловлен неожиданной расправой солдат над полковником Самсоновым, начальником того самого «распределительного пункта», около которого с полчаса назад и был задержан мой автомобиль.
Какие-то солдаты и неизвестные люди в штатском, возможно, те, которые остановили меня на шоссе, ворвавшись в кабинет к полковнику Самсонову, прикончили его несколькими выстрелами в упор. Кто были эти люди — осталось невыясненным. О причинах убийства можно было только гадать. Полковник Самсонов вел себя с поступавшими на пункт фронтовыми солдатами так, как привыкли держаться окопавшиеся в тылу офицеры из учебных команд и запасных батальонов: грубо, деспотично, изводя мелкими и зряшными придирками, ни в грош не ставя достоинство и честь не раз видевшего смерть солдата…
Я вспомнил о недавних словах Рузского и подумал, что было бы куда лучше, если бы они не оказались такими пророческими. Убийство Самсонова произвело на меня гнетущее впечатление, и я теперь сам удивлялся своему безрассудному поведению в давешней стычке с солдатами.
— Вам придется, Михаил Дмитриевич, принять псковский гарнизон,- повесив трубку, неожиданно приказал Рузский. — Вступайте сейчас же…
— Слушаюсь,- сказал я и потребовал от своего перетрусившего предшественника немедленной передачи дел.
Псковский гарнизон, во главе которого я неожиданно оказался, состоял из множества самых разнообразных воинских частей. В городе были расквартированы штаб фронта и управление Главного начальника снабжения с их многочисленными управлениями, отделами и отделениями. И в самом Пскове, и у вокзала, и в пригородах помещались мастерские, парки, госпитали, полевые хлебопекарни, обозы и другие тыловые учреждения и части.
На «распределительном пункте» находились прибывавшие из отпусков и госпиталей солдаты, предназначенные к отправке в действующие на фронте части. В иные дни на пункте скапливалось до сорока, а то и до пятидесяти тысяч человек.
Верстах в двух от Пскова, на перекрестке шоссе, в так называемых «Крестах» был организован лагерь для военнопленных австрогерманцев, число которых доходило до двадцати тысяч.
Строевых солдат, пригодных для несения караульной службы, в Пскове было около восьми тысяч. Зато свыше тридцати тысяч имелось в гарнизоне тех, кого можно было считать солдатами лишь с большой натяжкой. Это была так называемая «нестроевщина»; ядро ее состояло из лишенных отсрочек и призванных в армию фабричных и заводских рабочих. Среди них было немало петроградцев, москвичей и рижан, знакомых с политикой и по грамотности своей и сознательности намного превосходивших не только среднюю солдатскую массу, но и значительную часть офицеров.
Была в составе псковского гарнизона и школа прапорщиков, в значительной степени пополненная за счет солдат, имевших хотя бы четырехклассное образование или особо отличившихся на фронте.
Наличие в гарнизоне большого количества промышленных рабочих начало сказываться с первых же дней революции. Большое влияние оказывала и близость столицы. В Петрограде, в этой колыбели революции, решались тогда судьбы страны, ‘и не только даже незначительные события, но и циркулирующие по столице слухи тотчас же отражались на настроении солдат многотысячного псковского гарнизона.
Как и в других городах, большевики в Пскове были тогда еще в меньшинстве. Ленин еще не вернулся в Россию; знаменитые его Апрельские тезисы были никому не известны; крупных партийных работников большевистской партии в Пскове не было; Псковским Советом заправляли крикливые и шумные «социалисты» правого толка. Очень часто это были наскоро объявившие себя социалистами-революционерами или социал-демократами шустрые подпоручики или военные чиновники, умевшие выступать на митингах с демагогическими речами и лозунгами. Как и везде, шла всячески поощряемая Временным правительством шумиха о войне «до победного конца».
Рузский гарнизоном не занимался и в то, что происходило в городе, не вмешивался. Я был предоставлен собственным силам и своему житейскому опыту. Как и подавляющее большинство офицеров и генералов, я очень плохо разбирался в политике и даже не очень отличал друг от друга объявившиеся после февральского переворота многочисленные политические партии и группы.
Сказывалось любопытное свойство дореволюционного русского интеллигентного офицерства периода того общественного спада и упадка, которым сопровождалась разгромленная царизмом первая русская революция. Нельзя было считать себя культурным человеком, не зная, например, модных течений в поэзии или не посмотрев нашумевшей премьеры. Но это не мешало любому из нас, считавших себя высокообразованными людьми, иметь самое смутное представление о программных и тактических разногласиях в партии социал-демократов и даже не представлять себе толком, кем на самом деле является Владимир Ильич Ленин, возвращения которого так ждали в столице. И если я знал Ленина, то это было редким исключением в нашей среде, да и обязан я был этим не собственному развитию, а моему брату-революционеру.
Но при всем моем политическом невежестве одно я твердо усвоил: старого не вернуть, колесо истории не станет вертеться в обратную сторону, и потому нечего и думать реставрировать в армии сметенные революцией порядки. Я хорошо знал настроение солдат: никто из них не видел смысла в продолжении войны и не собирался отдавать свою жизнь за Константинополь и проливы, столь любезные сердцу нового министра иностранных дел Милюкова, кадетского лидера. Чудом уцелев от немецких пуль, снарядов и ядовитых газов, фронтовик хотел вздохнуть полной грудью, вернуться к себе на завод или в деревню, помочь обездоленной семье, воспользоваться наконец-то пришедшей свободой.
По штабным должностям, занимаемым мною все годы войны, я был знаком и с солдатскими разговорами, о которых доносила полевая жандармерия, и с солдатскими письмами, которые бесцеремонно просматривались и «подправлялись» военными цензорами.
Революция развязала языки, солдаты прямо писали о том, что воевать не могут и хотят домой.
Армия действительно не хотела воевать. Все больше и больше солдат уходило с фронта. По засекреченным данным Ставки, количество дезертиров, несмотря на принимаемые против них драконовские меры, составило к февральской революции сотни тысяч человек. Такой «молодой» фронт, как Северный, насчитывал перед февральским переворотом пятьдесят тысяч дезертиров. За первые два месяца после февральской революции из частей Северного фронта самовольно выбыло двадцать пять тысяч солдат.
Зная все это, я намеренно ограничил задачи, стоявшие передо мной, как перед начальником многотысячного гарнизона, и решил добиваться лишь того, чтобы входившие в гарнизон части поддерживали в городе и у самих себя хоть какой-нибудь порядок. Поняв, что вкусившие свободы солдаты считаются только с Советами, а не с оставшимися на своих постах «старорежимными» офицерами, я постарался наладить отношения с только что организовавшимся Псковским Советом и возникшими в частях комитетами.
Такое поведение представлялось мне единственно разумным. Но подавляющее большинство генералов и штаб-офицеров предпочитало или ругательски ругать приказ номер первый и объявленные им солдатские свободы, или при первой же заварушке в гарнизоне закрываться в своих кабинетах и, отсиживаясь, как тараканы в щели, вопить о том, что все погибло…
По мере роста влияния на солдат Псковского Совета и его Исполнительного комитета, надобность в постоянном общении моем с ротными и полковыми комитетами отпала, но все теснее делалась связь с Советом. Как-то само собой получилось, что я был кооптирован и в Псковский Совет и в его Исполком; издаваемые мною приказы по гарнизону приобрели неожиданную силу.
С чьей-то легкой руки меня уже начали называть «советским генералом», хотя в прозвище это говорившие вкладывали совсем другой смысл, чем мы теперь. Чем больше «углублялась» революция в России и чем сильнее народные массы, разочаровываясь во Временном правительстве, подпадали под влияние единственной по-настоящему революционной партии — большевистской, тем чаще меня начали называть большевиком. Между тем я до сих пор, как был, так и остался беспартийным, а в те, предшествовавшие Октябрю, месяцы был очень далек от партии и ее целей.
Контакт, установленный мною с Псковским Советом, начал вызывать все большее осуждение со стороны генералов и штаб-офицеров. Шло это главным образом от полного непонимания того, что произошло в России. Даже умный и образованный Рузский наивно полагал, что достаточно Николаю II отречься, и поднятые революцией народные массы сразу же успокоятся, а в армии воцарятся прежние порядки.
Поняв, что желаемое «успокоение» не придет. Рузский растерялся. Интерес к военной службе, которой генерал обычно не только дорожил, но и жил, — пропал. Появился несвойственный Николаю Владимировичу пессимизм, постоянное ожидание чего-то худшего, неверие в то, что все «перемелется — и мука будет».
Бесспорно талантливый человек, отличный знаток военного дела и незаурядный стратег, Рузский, насколько я знаю, не собирался после февральского переворота ловить рыбку в мутной воде и лезть в доморощенные Бонапарты. В то время как ряд генералов, не занимавших до февральского переворота сколько-нибудь видного положения, такие, как Корнилов, Деникин, Крымов, Краснов и многие другие, спали и видели себя будущими диктаторами России, Рузский не помышлял о контрреволюционном перевороте и не собирался участвовать в заговорах, в которые его охотно бы вовлекли. Однако хотя к царской фамилии он относился в общем отрицательно, ни широты кругозора, ни воли для того, чтобы сломать свою жизнь и пойти честно служить революции, у него не хватило.
Он сделал, впрочем, попытку заявить о своей готовности служить новому строю. Почему-то он выбрал для этого такой необычный способ, как телеграмму, адресованную моему брату Владимиру Дмитриевичу, связанному с Центральным Исполнительным Комитетом, но никакого отношения к Временному правительству не имевшему.
Возможно, что не раз слыша от меня о моем брате, Рузский и решил обратиться к нему. Являвшегося в это время военным министром московского промышленника и домовладельца Гучкова он не выносил и считал, что тот губит армию.
Телеграмма Рузского была напечатана в «Известиях Петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов», но на этом и закончилась попытка Николая Владимировича определить свое дальнейшее поведение.
Однако если Рузский придерживался гибельной для него, пусть малодушной, но все-таки в какой-то мере честной политики нелепого «нейтралитета», то настроение многих высших чинов в штабе фронта и в гарнизоне было иным. На отречение Николая II они смотрели только как на проявление присущего последнему царю безволия. С огромным трудом соглашаясь на некоторые уступки в уставах, они старались во всем остальном сохранить армию такой, какой она только и могла быть им любезной. Не брезгуя нацепить на себя красный бант или вовремя с фальшивым пафосом произнести громкую революционную фразу, они оставались сторонниками самого оголтелого самодержавия и мечтали только о том, чтобы с помощью казаков или текинцев разогнать «все эти Совдепы».
В их среде, как бактерии в питательном бульоне, выращивались всевозможные контрреволюционные планы и заговоры. На этой почве и выросло пресловутое корниловское движение, готовились кадры для будущих белых армий.
Мое вхождение в Совет всячески осуждалось. Шли разговоры даже о том, что следует арестовать меня и этим в корне пресечь вредное мое влияние на гарнизон.
Со многими из тех, кто тогда старался не подавать мне руки или не замечать меня при встрече, я соприкасался впоследствии. Более откровенные из моих былых врагов, вспоминая прошлое, признавали ошибочность своих прежних взглядов; другие, кто был похитрее, делали вид, что они и тогда думали так же, как и я, но вынужденно скрывали истинные свои мысли.
Я не склонен переоценивать свое политическое предвиденье. Думаю, что не было у меня и никакого «политического нюха». Никогда не был я карьеристом и политиканом, хотя обвиняли меня в этом почти все без исключения «вожди» белого движения, сбежавшие после разгрома белых армий за границу и занявшиеся на покое писанием своих пространных мемуаров.
Почувствовав, как укрепило мои позиции сотрудничество с Псковским Советом, я занялся обильным словотворчеством и выпускал, как это было свойственно штабным офицерам, приказ за приказом, один другого обширнее и многословнее.
Просматривая сейчас, спустя почти сорок лет пожелтевшие и ветхие листы не только подписанных, но и написанных мною приказов по псковскому гарнизону, я не могу не улыбнуться тогдашней моей наивности и прекраснодушию.
Впрочем, в приказах этих было немало и дельных мыслей и указаний.
Так в одном из них я, обратив внимание на слишком долгое содержание на гауптвахте задержанных для привлечения к суду солдат, резонно предлагал:
«…Подвергая солдата-гражданина такому задержанию, помнить, что срок, проведенный на гауптвахте, должен быть доведен в каждом частном случае до наименьшей продолжительности».
Этим же приказом коменданту города вменялось в обязанность следить за тем, чтобы каждый солдат, содержащийся на гауптвахте, знал причины его задержания.
Разумным был и другой приказ, в котором в целях борьбы с уголовными элементами, действовавшими под видом солдат, я приказывал ротным и полковым командирам разъяснить солдатам необходимость соблюдения формы, а начальникам частей совместно с комитетами озаботиться выдачей погон с форменной на них шифровкой и установленных в войсках кокард.
И все-таки большую часть этих приказов нельзя сегодня читать без мысли о том, как часто в то незабываемое время даже мы, опытные военные, превращались в сентиментальных болтунов.
Солдаты метко и зло прозвали объявившего себя верховным главнокомандующим Керенского «главноуговаривающим». В первые месяцы после февральского переворота в России говорили невообразимо много, и если Керенский был «главноуговаривающим», то сохранившиеся приказы мои говорят о том, что и я был повинен в этом грехе.
«Считаю своим долгом напомнить всем чинам гарнизона,- писал я,- что частям нашей свободной доблестной армии, несущей свою службу на благо отныне свободной родины, т. е. не по принуждению, а по доброй воле и от чистого сердца, надлежит, находясь на службе, строго выполнять все воинские уставы…»
Невольно уподобляясь простодушному повару из крыловской басни, я пытался уговорами и красивыми словами воздействовать на тех, кто давно уже не боялся ни бога, ни черта и не верил ни в того, ни в другого.
И все-таки вся эта болтовня приносила некоторую пользу, хотя бы потому, что приказ подписывал свой, связанный с Советом генерал, а солдат все-таки привык повиноваться и выполнять приказы, если они не порождали у него явного недоверия.
Пока я занимался всем этим, из Петрограда пришла телеграмма, сообщавшая о предстоявшем приезде в Псков военного министра Временного правительства «думца» Гучкова{30}.
Не помню, какого именно числа марта месяца в восемь часов утра представители Псковского Совета и других, очень многочисленных в то время и не всегда понятных общественных организаций собрались на площади у вокзала для торжественной встречи «революционного» министра. Генералу Рузскому нездоровилось, принимать военного министра пришлось мне.
Немало смущало меня, какими словами я должен рапортовать министру. Обычная, давно принятая в русской армии форма рапорта типа «на Шипке все спокойно» казалась издевательской, — в Пскове не проходило ночи без всякого рода чрезвычайных происшествий, а в гарнизоне шло непрерывное и глухое брожение.
Поезд военного министра прибыл точно в назначенное время, без обычного на расстроенных войной железных дорогах опоздания. Гучкова сопровождал специальный конвой из юнкеров Павловского пехотного училища. Я глянул на «павлонов» и ужаснулся. Прежняя, хорошо знакомая форма осталась, но выправка свела бы с ума любого кадрового офицера. Вновь испеченные юнкера бессмысленно тянулись, но стояли «кренделями» и больше походили на солдат прежнего провинциального полка средней руки.
Пройдя мимо юнкеров, я подошел к тамбуру вагон-салона и, дождавшись Гучкова, рапортовал ему о том, что «благодаря принятым мерам в гарнизоне города Пскова водворен порядок». Это было в какой-то мере правдой — с помощью Совета подобие воинского порядка все-таки сохранилось в частях. Это было и неправдой — в любой момент гарнизон мог послать ко всем чертям и меня, и соглашательский Совет…
Рапортом Гучков остался очень доволен; возможно, этому способствовал мой зычный, натренированный на многих смотрах и учениях голос.
В дореволюционной русской армии с непонятной живучестью сохранялись традиции и предрассудки того давно минувшего времени, когда солдаты были вооружены кремневыми ружьями и на виду у неприятеля смыкали ряды. Оглушающий бас и умение подать команду в унисон с остальными командирами были обязательным условием для продвижения по службе.
Оглушив военного министра своим рапортом, я представил ему чинов штаба и присоединился к довольно многочисленной свите — что-что, а окружать себя штабными и адъютантами новые высокопревосходительства научились с поразительной быстротой.
Гучкова я знал давно и был о нем самого скверного мнения. Честно говоря, думая о нем, я не раз вспоминал старинный злой экспромт:
Отродие купечества, —
Изломанный аршин!
Какой ты сын отечества?
Ты просто сукин сын.
Военными делами Гучков интересовался давно, рассчитывая сделать на этом политическую карьеру. Положение депутата Государственной думы открывало еще большие возможности, и Гучков настолько преуспел, что даже в военной среде на него начали смотреть как на знатока некоторых специальных вопросов, с помощью которого можно пробить каменную стену российского бюрократизма и рутины.
Наслышавшись по приезде в Петербург о многочисленных талантах и достоинствах Гучкова, я поспешил увидеться с ним. В то время я только закончил редактирование учебника тактики Драгомирова, позже изданного. Учебник этот, излагающий систему боевой подготовки русской армии, должен был сыграть немалую роль в ее перестройке.
Свидание с Гучковым произошло в его квартире. Рассказав о своей работе, я передал ему обе части учебника. Гучков рассыпался в любезностях, но о воспитании войск не обмолвился и словом.
Из разговора с будущим министром я вынес впечатление, что передо мной — самовлюбленный человек, специализировавшийся на отыскании благоглупостей в работе военного министерства, но меньше всего заинтересованный в том, чтобы наладить военное дело.
Первое впечатление подтвердила и эта, последовавшая много лет спустя, встреча. Теперь он достиг того, к чему так настойчиво стремился, — сделался, наконец, военным министром огромной воюющей страны. Но я почувствовал в нем ту же незаинтересованность и равнодушие к армии, с которыми столкнулся во время памятной встречи в Петербурге.
На привокзальной площади была сооружена трибуна, Гучков не преминул на нее взобраться. Как начальник гарнизона я обязан был держаться поближе к министру и стал возле него, но не на трибуне, а на мостовой, обильно усеянной шелухой от семечек.
Читатель, помнящий семнадцатый год, наверное, не забыл серого, шуршащего под ногами ковра из шелухи, которой были покрыты мостовые и тротуары едва ли не всех городов бывшей империи. Почувствовавший себя свободным, солдат считал своим законным правом, как и все граждане, лузгать семечки: их тогда много привозили с юга. Семечками занимались в те дни не только на митингах, но и при выполнении любых обязанностей: в строю, на заседании Совета и комитетов, стоя в карауле и даже на первых после революции парадах.
И теперь, пока министр по всем правилам думского ораторского искусства обещал собравшимся на площади солдатам и любопытствующим обывателям самый соблазнительный рай на земле, если только война будет доведена «до победного конца», будущие обитатели этого демократического рая непрерывно лузгали семечки. От неустанного занятия этого шел шум, напоминающий массовый перелет саранчи, который я как-то наблюдал в южнорусских степях.
В речи Гучкова было много искусственного пафоса, громких слов, эффектных пауз, словом, всего того, чем французские парламентарии из адвокатов так любят оснащать свои шумные и неискренние речи. Стоя на мостовой рядом с солдатами, я видел, как невнимательно и безразлично слушают военного министра те, кого он должен был «зажечь и поднять» на всенародный подвиг продолжения войны во имя новых прибылей англо-французских и американских фабрикантов оружия.
Как ни неожиданно это было для немолодого царского генерала, микроб своеобразного «пораженчества» уже проник в мою кровь. Я давно понял, что воевать мы больше не можем; что нельзя собственную стратегию и тактику подчинять только интересам влиятельных союзников и во имя этого приносить неслыханные жертвы; что война непопулярна и продолжать ее во имя поставленных еще свергнутой династией целей нельзя.
Гучков кончил свою часовую речь, так ничего и не сказав о том, что больше всего волновало собравшихся у трибуны солдат. Он готов был покинуть привокзальную площадь, когда из толпы посыпались недоуменные вопросы. Гучков растерялся и вместо ответа предложил выбрать пятнадцать представителей, с которыми он, военный министр, и переговорит обо всем. Беседу эту решено было провести в конторе начальника станции.
Я решил на правах начальника гарнизона присутствовать и попросил у Гучкова разрешения. Он попытался уклониться и лишь по настоянию солдат разрешил.
Солдатские представители засыпали военного министра таким огромным количеством вопросов, что он сразу вспотел. Спрашивали об увольнении из армии старших возрастов, о наделении крестьян землей, о воинской дисциплине, о том, наконец, когда кончится опостылевшая народу война. Вопросов, связанных с жизнью гарнизона, или жалоб по этому поводу, к моему удовлетворению, никто не задал.
С вокзала Гучков вместе со своей свитой отправился к Рузскому. Главнокомандующий принял его в своем служебном кабинете. При разговоре Гучкова с Рузским никто не присутствовал. Разговор этот был чем-то неприятен Николаю Владимировичу, и он сразу же начал поговаривать об отставке…
Примечания
{30} Гучков Александр Иванович (род. в 1862 г.), крупный промышленник, член и председатель III Государственной думы, вождь так называемой партии «октябристов». Энергичная деятельность Гучкова была направлена на сохранение реформированной монархии, где у власти стояла бы крупнейшая буржуазия и помещики. После Октября — активный враг советского строя, эмигрант.
Глава одиннадцатая
Гучков снова приезжает в Псков. — Затишье на фронте. — Фронтовой съезд. — Генералы Драгомиров и Клембовский пытаются «подтянуть» солдат. — Офицерские «союзы». — Деникин и обвинение большевиков в шпионаже. — Приезд комиссара фронта Станкевича. — Московское совещание. — Сдача Риги. — Признание Корнилова.
Вскоре после первого своего посещения Пскова Гучков снова проехал через город и направился в район 5-й армии, оборонявшей Двинский плацдарм. Из штаба фронта для сопровождения Гучкова был командирован генерал Болдырев, занимавший должность генерал-квартирмейстера. Рябоватый, с бородкой «буланже», слегка тронутыми сединой усами и седеющей щеткой волос на голове, Болдырев, до войны был преподавателем Академии генерального штаба и считался либералом. Либерализм этот не помешал ему, как и многим, впоследствии оказаться у Колчака и стать членом Директории, подвизавшейся в оккупированной интервентами Сибири.
Типичный штабной генерал, лишенный военных талантов, но обладавший изворотливым умом и уменьем обвораживать нужных людей, Болдырев, как и новый начальник штаба фронта генерал Ю. Данилов, по прозванию «черный», являлся типичным представителем той петербургской школы офицеров генерального штаба, которая и порождала этаких «моментов»{31}, обладавших удивительной способностью убивать всякое живое дело в мирное время и обращать оперативную работу на войне в предмет пустых канцелярских упражнений.
Вот с таким-то учеником этой своеобразной «школы» Гучков и отправился путешествовать по армиям Северного фронта. Результат не замедлил сказаться. Оказалось, что в армиях все плохо и что поправить дело может только один Болдырев.
Вернувшись в Псков, Болдырев вышел из поезда военного министра уже не генерал-квартирмейстером штаба, а командиром XLIII армейского корпуса, позже бесславно сдавшего Ригу.
Разъезжая по армиям, Гучков, как это он начал делать с первых дней своего вступления в должность военного министра, без церемоний смещал неугодных ему генералов и назначал на высокие посты любого из своих Случайных фаворитов. Целью этой убийственной для русской армии генеральской чехарды, напоминавшей производившуюся Распутиным смену царских министров, было «омолодить» действующую армию, вдохнуть в нее «наступательный дух и волю к войне до победного конца».
Тем, кто знал жизнь армии не понаслышке, как Гучков, а из непосредственного общения с войсками, были ясны губительные результаты, к которым не могли не привести все эти необдуманные реформы.
Поставив на руководящие военные посты своих единомышленников, Гучков тем самым заставлял рядовых офицеров агитировать в войсках за излюбленную им «войну до победного конца». Этим он взбаламутил море страстей, сдерживавшихся прежде осторожностью старого генералитета, связанного с войсками и при всех своих недостатках знавшего подлинные настроения солдат.
Губительную работу эту продолжал Керенский. Одной рукой побуждая офицерство агитировать в пользу верности союзникам и войны до победы (что не могло не раздражать солдат), он другой охотно указывал на «военщину», как на главных виновников затяжки кровопролития… Понятно, к чему это приводило.
Ни Гучков, ни Керенский не хотели понять, что вступившая в полосу углублявшейся революции Россия не в состоянии вести войну ради тех целей, которые были поставлены еще при Николае II. Если даже допустить, что Временное правительство не могло справиться с оказываемым на него союзниками давлением, то элементарная логика должна была подсказать ему необходимость выдвижения иных целей войны или, по крайней мере, других ее лозунгов.
Вернувшись из 5-й армии, Гучков снова посетил Николая Владимировича, в это время простудившегося и лежавшего в постели.
От Рузского военный министр проехал прямо в штаб фронта и с удивительной бестактностью начал обсуждать деловые качества главнокомандующего чуть ли не со всеми штабными офицерами, которые попадались ему навстречу. Я присутствовал при некоторых таких расспросах и невольно краснел от стыда за военного министра — что должны были думать наши офицеры об этом вершителе их судеб?
Побегав по штабу, Гучков уехал в Петроград. В Пскове потянулись привычные штабные будни, нарушаемые лишь солдатскими самосудами и другими бесчинствами, число которых, несмотря на все мои старания, росло со дня на день.
На фронте после неудачного наступления 12-й армии в районе Рига — Икскюль, предпринятого еще в декабре, стояло длительное затишье. Внимание армий, входивших в состав Северного фронта, было обращено преимущественно на общественное их переустройство. Повсюду создавались войсковые комитеты; вокруг этих выборов шла острая, но тогда еще малопонятная мне борьба.
В состав фронта входили 12-я, 5-я, 1-я армии, XLIII армейский и XLII отдельный корпусы, расквартированные в Финляндии. Наличие таких революционных очагов, как Рига, Гельсингфорс, Ревель, Двинск, да и близость отдельного корпуса и почти всей 12-й армии к Петрограду способствовали быстрому полевению солдатских масс, высвобождению их из-под меньшевистско-эсеровского влияния и росту в частях большевистских ячеек. Входившие в 12-ю армию национальные латышские части, состоявшие преимущественно из рабочих, батраков и малоземельных крестьян, находились под сильным влиянием революционной социал-демократии Латвии и быстро большевизировались.
В 12-й армии очень скоро начала выходить большевистская газета «Окопная правда», огромное влияние которой на солдат росло не по дням, а по часам.
Первые войсковые комитеты и Советы депутатов городов и районов, находившихся в тылу фронта, были во власти меньшевистско-эсеровского большинства. И все-таки даже они не внушали доверия Временному правительству. Послушное ему военное командование делало все для того, чтобы свести роль войсковых комитетов к решению мелких хозяйственных вопросов, и всячески препятствовало не только общению комитетов с Советами, но и объединению самих Советов.
В первой половине апреля в Пскове был созван так называемый фронтовой съезд. На самом деле на съезде этом были представители только тыловых частей фронта и местных Советов.
Под заседания фронтового съезда я отвел спешно освобожденный от госпиталя третий этаж в одном из лучших зданий города. В том же этаже было устроено общежитие для делегатов и открыта столовая. Генерал Рузский отпустил нужную сумму, и я передал эти деньги под отчет хозяйственной комиссии съезда.
Съезд закончился выборами Исполнительного комитета. Для размещения его мною был отведен первый этаж в здании давно закрывшегося реального училища.
Состав съезда был пестрый: некоторое количество прапорщиков военного времени, десятка два вольноопределяющихся, крестьяне из губерний, входивших в район Северного фронта, и подавляющее большинство вчерашних «нижних» чинов, порой даже неграмотных.
Председательствовал на съезде рядовой солдат-большевик, фамилии которого память не сохранила. Но помню, как поражали меня бог весть откуда взявшееся уменье, с которым председательствующий держал в руках огромную и недисциплинированную аудиторию; природная сметка, которую он проявлял в трудных случаях; недюжинный ум, с которым рядовой солдат этот полемизировал с образованными и поднаторевшими в подобного рода спорах кадетами, меньшевиками или эсерами из интеллигентов.
Избранный съездом комитет получил наименование «Исполнительного комитета Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Северо-Западной области» и после нескольких столкновений с Псковским Советом перестал вмешиваться в его работу и занялся армиями и областью.
Обращаться в Исполнительный комитет мне как начальнику гарнизона приходилось довольно редко, ни перед кем из комитетчиков я не заискивал и ни в ком ничего не искал и был очень обрадован, когда много позже, уже в конце августа, получив назначение на пост главнокомандующего Северного фронта, прочел следующее обращение ко мне:
«Господин генерал! Исполнительный комитет Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Северо-Западной области, зная вас по вашей деятельности в качестве начальника гарнизона города Пскова, как человека, всегда идущего совместно с демократическими организациями, приветствует вас по случаю назначения на ответственный пост главнокомандующего армий Северного фронта…»
В середине апреля Рузский подал в отставку. Главнокомандующим Северного фронта был назначен генерал-от-кавалерии Абрам Михайлович Драгомиров, родной брат начальника штаба 3-й армии. Встреча с Абрамом Михайловичем особой радости мне не доставила, хотя когда-то в Киеве я был принят в семье его отца и знал будущего главнокомандующего таким же молодым офицером, каким был тогда и сам.
Новый главнокомандующий плохо понимал, что происходит в России. Всегда отличаясь горячностью и непродуманностью своих суждений, он и здесь, в Пскове, не подумал о настроении многотысячных солдатских масс. Решив восстановить дореволюционные порядки, Абрам Михайлович с ретивостью старого конника взялся за это безнадежное дело.
Переоценив свои возможности, он совершенно позабыл о том, что пробудившееся с революцией самосознание солдат требует особого к ним подхода.
Драгомиров наивно полагал, что достаточно быть генералом и главнокомандующим, чтобы все подчинились его авторитету. Между тем этот авторитет надо завоевать у масс, и тогда все остальное удается как бы само собой.
Как приобретается такое положение начальников, сказать трудно. Но добиться его можно не уступчивостью и угодливостью перед подчиненными; ничего не дают и жестокость, придирчивость и отсутствие уважения к человеческому достоинству.
Думается, что нужный авторитет приходит в результате справедливого отношения к массам. Массы как бы изучают вас, а вы сдаете им экзамен всей своей деятельностью и всем своим поведением. Вы должны быть на чеку во всем: в обращении, в словах и жестах, в методе, с которым вырабатываете решения, во всех поступках — крупных и незначительных. Все это требует от вас большого напряжения. И вдруг вы замечаете, что установилось взаимное понимание; даже самые невыдержанные солдаты прислушиваются к вам и начинают вас поддерживать; доверие к вам становится безграничным; вам верят и повинуются не за страх, а за совесть, повинуются беспрекословно, но только до тех пор, пока в массах ничем не опорочен завоеванный вами авторитет.
На такую непривычную работу над собой Драгомиров не пошел; начались ежедневные пререкания и ссоры главнокомандующего с комитетами и Советом.
Едва появившись в Пскове, Драгомиров, «позабыв» о многолетних дружеских отношениях моих с его семьей и с ним самим, перешел на сугубо официальный тон и начал с того, что сердито сказал мне:
— Николай Владимирович говорил мне, что вы распустили гарнизон и что ему нужна подтяжка…
Эту никому не нужную «подтяжку» он тут же начал, и через какую-нибудь неделю новому главнокомандующему никто в гарнизоне уже не верил. Но Драгомиров был непреклонен; все хотел кого-то усмирить и наконец-то навести порядок.
Ежедневно в назначенный час он выезжал на своей превосходной кобыле в город и распекал встретившихся на пути солдат за то, что они не отдают чести.
Ссылка на Рузского осталась на совести этого бывшего моего приятеля, оказавшегося в годы гражданской войны членом Особого совещания при генерале Деникине и покончившего с собой в белой эмиграции.
Прошел месяц, и в Пскове создалась настолько напряженная обстановка, что Временное правительство вынуждено было снять ретивого генерала.
На освободившееся место был назначен генерал Клембовский{32}, с начала войны занимавший высокие штабные должности в действующей армии. В служебной характеристике, которую как-то дал ему командующий 4-й армией, было сказано, что Клембовский «лишен боевого счастья». Генерал жестоко обиделся, но потом, всякий раз как ему предстояло нежелательное перемещение, спокойно ссылался на «невезенье» как на основной повод против нового назначения.
Подобно своему предшественнику, Клембовский сразу же решил «подтянуть» псковский гарнизон и при первом же свидании со мной упоенно рассказал:
— А я вот обедал перед отъездом из Питера в ресторане Палкина и, представьте, Михаил Дмитриевич, едва вошел в общий зал, как все офицеры встали и сели только по моему разрешению…
— Я полагаю, Владислав Наполеонович, что по поведению офицеров у Палкина трудно судить о настроении петроградского гарнизона, — осторожно возразил я.
— Вы мне не говорите, там все подтянуты. А вот у вас в гарнизоне солдаты даже честь не отдают….
Рослый, тщательно выбритый, с остриженной бобриком головой, он, подобно Драгомирову, ежедневно выходил на прогулку по улицам Пскова и с непостижимым усердием выговаривал каждому нестроевому за его «разнузданный вид» и неотдание чести.
Я всегда был сторонником обязательного отдания чести. Старик Драгомиров, большой знаток солдатского сердца, утверждал, что по тому, с какой тщательностью, вниманием и молодцеватостью солдат отдает привычную честь, можно судить о настроении части.
Но после февральского переворота было неумно требовать от солдат этого отмененного самим Временным правительством приветствия и создавать ненужные конфликты. А именно этим, придя на смену вздорному и придирчивому Драгомирову, занялся генерал Клембовский.
Потеря офицерством недавних своих привилегий, враждебное отношение к нему солдат, широкое развертывание в стране революции и неопределенность будущего — все это скоро заставило офицеров как-то организоваться. В Пскове возник «Союз офицеров гарнизона», объединивший местных офицеров и военных чиновников.
Такие же союзы создавались в столице и в других городах России, и, наконец, в Ставке образовался главный комитет Всероссийского союза офицеров. По политической неискушенности своей я не разглядел за внешним либерализмом Союза офицеров его контрреволюционной сущности, как не усмотрел ничего плохого в том, чтобы сделаться председателем возникшего в Пскове объединения офицеров генерального штаба.
В июле месяце ко мне как председателю объединения стали поступать письма из Ставки, в которой объединившиеся к этому времени генштабисты вообразили себя органом, возглавлявшим всех офицеров генерального штаба. Сначала письма эти носили характер своеобразных анкет, с помощью которых Ставка пыталась выявить направление мыслей офицеров и проверить боеспособность солдат.
После назначения верховным главнокомандующим Лавра Корнилова в переписке Ставки со мной появилась странная недоговоренность: вопросы сделались двусмысленными, предложения для обсуждения казались не совсем понятными, а то и вовсе туманными. Смутные подозрения зародились в моей голове, и я попытался выяснить в чем дело.
Вскоре я понял, что недоговоренность существует не только в присылаемых из Ставки письмах и циркулярах. В Пскове появилось несколько генштабистов из Ставки. Никто из них ко мне не зашел, и лишь стороною я узнал, что все они встречались с несколькими членами нашего объединения и вели секретные переговоры. Какие именно — установить не удалось: псковские единомышленники Ставки своими секретами со мной не делились. В то же время я начал получать сведения, что среди особенно реакционно настроенных офицеров гарнизона идут разговоры о необходимости моего ареста.
Я чувствовал, что нити заговора ведут и в объединение генштабистов, которое возглавляю. Чтобы покончить с этим двусмысленным положением, я наотрез отказался от дальнейшего председательствования и совершенно отошел от организации.
«Июльские дни» поначалу как будто не отразились на жизни псковского гарнизона. Меньшевистско-эсеровский Совет так же, как и Исполком, были против передачи власти Советам и в ответ на столичные демонстрации организовали свою — с оборонческими лозунгами и антибольшевистскими выкриками. Но шум, поднятый белыми и эсеро-меньшевистскими газетами по поводу воображаемого большевистского шпионажа в пользу немцев, быстро дошел и до Пскова.
«Полевение» мое шло непрерывно, хотя сам я этого не замечал; меня уже несказанно раздражали непрекращающиеся в офицерской среде разговоры о шпионской деятельности большевиков, якобы запродавшихся немецкому генеральному штабу.
Кто-кто, а я был хорошо знаком с методами немецкого шпионажа, немало сделал для борьбы с ним и вовсе не намерен был принимать за чистую монету глупые и наглые измышления ретивых газетных писак. «Дело» Ленина и большевистской партии было сфабриковано настолько грубо, что я диву давался.
Вернувшийся из немецкого плена прапорщик Ермоленко якобы заявил в контрразведке Ставки, что был завербован немцами и даже получил за будущие шпионские «услуги» пятьдесят тысяч рублей. Контрразведка штаба верховного главнокомандующего находилась в это время в ведении генерала Деникина, человека морально нечистоплотного. Не было сомнений, что все остальные «показания» вернувшегося из плена прапорщика были написаны им, если и не под диктовку самого Деникина, то с его благословения.
В показаниях этих Ермоленко утверждал, что, направляя его обратно в Россию, немецкая разведка доверительно сообщила ему о большевистских лидерах, как о давних германских шпионах.
Ни один мало-мальски опытный контрразведчик не поверил бы подобному заявлению — немецкая разведка никогда не стала бы делиться своими секретами с только что завербованным прапорщиком. От брата я давно знал о поражающей идейной направленности и поразительной душевной чистоте не только самого Ленина, но и рядовых большевиков, с которыми в подполье приходилось работать Владимиру. Идущие от Деникина обвинения показались мне столь же бессмысленными, сколь и бесчестными. Было ясно, что все это сделано только для того, чтобы скомпрометировать руководство враждебной Временному правительству политической партии.
Подобная, заведомо клеветническая попытка сыграть на немецком шпионаже была проделана и штабными заправилами близкого мне Северного фронта. Один из руководителей большевистской организации 12-й армии и столь ненавистной реакционному командованию «Окопной правды» прапорщик Сиверс был арестован по обвинению в тайных связях с немцами. Но инсценированный над ним суд с треском провалился: никаких следов шпионажа в деятельности Сиверса нельзя было отыскать.
С негодованием отбросив версию о немецком шпионаже большевиков, я вместе с тем начал с большей заинтересованностью следить за их действиями и незаметно для себя проникался все большим к ним уважением.
Ко всякого рода новшествам, вводившимся в армию и сверху и снизу, я относился терпимо, считая, что армию надо строить, если не заново, то, во всяком случае, по-новому.
Меня нисколько не смутило утвержденное Керенским положение о фронтовых комиссарах, а к приезду в Псков назначенного комиссаром Северного фронта поручика Станкевича я отнесся с неподдельным, хотя и наивным энтузиазмом.
В голове моей царила порядочная путаница; я все еще принимал за настоящих революционеров даже тех, у кого, кроме привычной фразеологии, ничего от былых революционных увлечений не осталось.
Юрист по образованию, кандидат в приват-доценты уголовного права одного из университетов Станкевич был офицером военного времени. Политический клеврет Керенского, он был неимоверно самонадеян и глубоко равнодушен к армии. Гораздо больше, нежели неотложные нужды разваливающегося на глазах фронта, его занимали петербургские кулуарные разговоры и борьба за призрачную власть во Временном правительстве. При первой же заварушке он исчезал из Пскова и позже, оказавшись комиссаром Ставки, то же самое проделывал и в Могилеве.
Ничего этого я не знал и, услышав о приезде Станкевича, поспешил к нему, надеясь выложить все накопившиеся в душе сомнения и наконец-то услышать столь нужные мне слова о том, как же жить и работать дальше.
Я чувствовал, что Керенский что-то такое замышляет; в самом Пскове меня смущала неясная позиция Клембовского — главнокомандующий хитрил, и было непонятно, как поведет он себя в случае попытки вооруженного переворота, предпринятого Ставкой. Давно обозначавшийся разрыв между солдатскими массами и офицерством увеличивался с каждым днем, ставя под удар всякое руководство войсками. Был у меня еще ряд вопросов; мне казалось, что подготовительные действия к предстоявшему наступлению ведутся неправильно; наконец я считал необходимым переговорить с приехавшим из Петрограда комиссаром о тревоживших меня бытовых неполадках в войсках.
Я получил нужную мне «аудиенцию», но оба мы не понравились друг другу. Много позже, уже в эмиграции, Станкевич писал об этой нашей встрече:
«В один из первых дней после моего приезда в Псков я как-то утром застал у себя генерала, который терпеливо ожидал меня.
Оказалось, это был Бонч-Бруевич, несший теперь обязанности начальника гарнизона. Он очень не понравился мне своей показной деловитостью, торопливостью, своими словечками против командующего фронтом, каким-то, извиванием. Но он пользовался большими симпатиями среди Псковского Совета, где высиживал многие часы. Как ни неприятна его личность, все же, несомненно, он умел найти способ действий, который давал возможность поддерживать порядок в Пскове и направлять в эту сторону и Псковский Совет; это был один из тех генералов, которые решили плыть по течению»{33}.
Должно быть, я так не понравился Станкевичу и потому, что ему откуда-то стало известно о моей переписке с братом Владимиром. Переписки этой я ни от кого не скрывал, но в послеиюльский период она не могла не вооружить против меня называвшего себя народным социалистом поручика.
Мне комиссар фронта показался пустышкой и самонадеянным фразером. Я понял, что ему нет никакого дела ни до меня, ни до армии, и мне ничего другого не осталось, как замкнуться и ограничиться официальным визитом начальника гарнизона.
Сотрудники, которыми себя окружил в Пскове Станкевич, были настолько бесцветны, что почти никого из них я не запомнил. Исключением явились лишь помощник Станкевича Войтинский и вскоре заменивший его Савицкий.
Маленький, сгорбленный, с рыжей бороденкой, весь какой-то неряшливый и запущенный, Войтинский выгодно отличался от своего «шефа» и умом и политической эрудицией. Меньшевик-оборонец, он закончил свою жизнь в белой эмиграции.
Вольноопределяющийся Савицкий, несмотря на свою явную незрелость, обладал некоторыми достоинствами: был энергичен, неплохо председательствовал, хотел что-то сделать для армии, хотя и не понимал толком, как это делают…
Со всеми тремя «комиссарами» мне впоследствии, уже в «корниловские дни» пришлось иметь немало дела.
«Корниловским дням» предшествовало московское государственное совещание, вылившееся в смотр контрреволюционных сил.
Я, как и многие другие военные, возлагал на совещание это особые надежды; мне почему-то казалось, что оно как рукой снимет многочисленные болезни, которыми болела действующая армия.
Кроме Керенского и Корнилова, в московском совещании должны были принять участие генералы Рузский и Алексеев, до тонкости знакомые со всеми нуждами войск. Хотелось думать, что вопль о помощи армии, наконец, раздастся и будет услышан страной.
По политическому недомыслию своему я не понимал, что Корнилов выехал в Москву, где ему была устроена поистине царская встреча, вовсе не для того, чтобы добиться чего-нибудь для армии. Добивался он совершенно другого, и не для армии, а для себя. Он полагал, что вслед за павшей ниц на дебаркадере вокзала купчихой Морозовой перед ним склонится и вся Россия. Он мечтал о военной диктатуре и во имя ее не постеснялся пригрозить сдачей Риги и открытием немцам пути на Петроград.
Я пропустил тогда мимо ушей это недвусмысленное заявление:
«Положение на фронтах таково, что мы, вследствие развала нашей армии, потеряли всю Галицию, потеряли всю Буковину и плоды наших побед прошлого и настоящего года, — сказал в своем выступлении Корнилов.- Враг в некоторых местах уже перешел границы и грозит самым плодородным губерниям нашего юга, враг пытается добить румынскую армию и вывести Румынию из числа наших союзников, враг уже стучится в ворота Риги, и если только неустойчивость нашей армии не даст возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога к Петрограду будет открыта…»
Не знал я ничего и о тайном сговоре с Корниловым позже предавшего его Керенского. Но никогда еще не было так тяжко, как в дни этого душного и тревожного предгрозья.
Слова Корнилова о Риге не оказались пустой угрозой. Через несколько дней после московского совещания 12-я армия очистила рижский плацдарм и сдала Ригу. С падением ее господство в Рижском заливе перешло к немцам, создав прямую угрозу Петрограду.
Комиссар фронта Станкевич при первых же известиях о событиях под Ригой выехал туда на штабном автомобиле. Выяснилось, что при наступлении немцев генерал Болдырев, командовавший XLIII корпусом, совершенно растерялся и потерял управление войсками. По словам Станкевича, части корпуса позорно бежали, а 12-я армия, «самовольно» отступившая на Венденские позиции, утратила даже соприкосновение с противником.
Для оправдания своей преступной авантюры Корнилов прислал свирепый приказ о том, чтобы бегущих солдат расстреливали на месте, и Станкевич, при всем своем пристрастном отношении к падению Риги, вынужден был осудить мятежного генерала за попытку свалить вину на солдатские массы.
Сам я, насколько помню, не смог тогда достаточно трезво оценить происходящие события. Мне тоже казалось, что Рига сдана неумышленно, что виновато разложение армии, лишившее ее былой боеспособности.
Лишь много позже, когда незначительными силами только что возникшей Красной Армии удалось задержать немцев и отбросить их от Пскова и Нарвы, я понял, кто был настоящим виновником сдачи Риги. Уже после Октябрьской революции в делах саботирующего министерства иностранных дел была обнаружена копия телеграммы, посланной румынским послом Диаманди главе своего правительства.
«Генерал добавил,- сообщая о своем разговоре с Корниловым, телеграфировал посол, — что войска оста вили Ригу по его приказанию и отступили потому, что он предпочитал потерю территории потере армии. Генерал Корнилов рассчитывал также на впечатление, которое взятие Риги произведет в общественном мнении в целях немедленного восстановления дисциплины в русской армии».
Узнал я и о том, что большевистская организация 12-й армии все время выступала против сдачи Риги и рижских позиций; во время же отступления и паники, которую сеяли Болдырев и другие корниловские генералы и офицеры, рядовые солдаты-большевики проявили то мужество и стойкость, которые сделались потом неотъемлемым свойством Советской Армии.
Примечания
{31} Ироническая кличка генштабистов, намекающая на уменье «ловить момент».
{32} Клембовский Владислав Наполеонович, рожд. 1860 г. В 1915-1916 гг. начальник штаба Юго-Западного фронта у Брусилова. Принимал участие в разработке летнего наступления 1916 г. В 20-х годах выпустил работу по истории мировой войны.
{33} Станкевич. Воспоминания. Берлин, 1920, 148
Глава двенадцатая
Появление в Пскове генерала Крымова. — Переброска казаков из района Пскова. — Назначение Савицкого комиссаром фронта. — Корниловский мятеж. — Посулы Савицкого. — Поведение генерала Клембовского. — Я назначен главнокомандующим Северного фронта. — Приезд генерала Краснова. — Самоубийство Крымова.
В конце июля, не помню точно какого числа, я зашел по какому-то служебному делу к генерал-квартирмейстеру фронта и застал в его кабинете генерала Крымова. Крымова я знал по Ораниенбаумской офицерской стрелковой школе, где оба мы читали лекции. Академию генерального штаба Крымов окончил позже меня, особой близости с ним у меня не было, но друг к другу мы относились с взаимным доброжелательством и при иных обстоятельствах могли бы стать приятелями.
С начала войны мы не виделись. Крымов почти не переменился за эти годы, был все такой же огромный и массивный, но заметно облысел и поседел. Артиллерийский офицер, он, как и многие артиллеристы, выгодно отличался, от пехотинцев своей образованностью и интеллигентностью, был приятным и учтивым собеседником, и короткая встреча с ним в штабе фронта ничего, кроме удовольствия, мне не доставила. Я обратил лишь внимание на то, что Крымов был сдержаннее обычного и очень скупо рассказал о причинах своего приезда в Псков.
Сразу же после февральского переворота пошли разговоры о том, что Крымов близок с Гучковым и, вовлеченный в один из многочисленных заговоров, должен был участвовать в дворцовом перевороте. Поэтому молчаливость Крымова я объяснил непосредственным участием его в той сложной политической деятельности, которой обычно мы, офицеры и генералы, избегали. Но мне и в голову не пришло, что приезд Крымова в Псков являлся началом сговора его со штабом Северного фронта и был вызван совсем невоенными соображениями. Не зная о заговоре Корнилова, я не мог предполагать и участия в нем командира III конного корпуса, которым уже порядочно времени командовал Крымов.
Вскоре я получил от главнокомандующего фронта распоряжение разместить в Пскове штаб III корпуса. Одновременно Клембовский сообщил мне дислокацию частей корпуса, расквартировавшихся в селах и деревнях, находящихся в окрестностях Пскова.
Спустя некоторое время в Псков прибыл и штаб корпуса. Начальником штаба оказался знакомый мне казачий полковник. Я спросил его о причинах переброски корпуса, но прямого ответа не получил и решил, что переброска эта вызвана неустойчивым положением на рижском участке фронта.
Никаких перемен с прибытием корпуса в район Пскова не произошло. Сам Крымов в городе больше не появлялся, вероятно, ездил куда-то по службе.
Между тем была сдана Рига, пошли слухи о нависшей над Петроградом угрозе, а корпус продолжал бездействовать, и это наводило на подозрения. В Псковском Совете начали поговаривать о разладе между Корниловым и Керенским. Оживилась возникшая после московского совещания «чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией», ничего общего с созданной после Октября ЧК, конечно, не имевшая и больше занимавшаяся разговорами. Никто ничего толком не знал, но чувствовалось, что назревают какие-то события… Новых подробностей относительно разногласий Корнилова с Керенским, кроме того, о чем писали газеты, никто не сообщал. В штабе фронта скрытничали, комиссариат фронта, как именовал свою канцелярию Станкевич, ничем себя не проявлял. Но отношение к офицерам резко и к худшему изменилось, в солдатской среде пошли разговоры об измене, замышленной генералом Корниловым и другими «золотопогонниками».
Порой я заходил к главнокомандующему. Клембовский заметно нервничал, невнимательно слушал меня и частенько говорил невпопад. Штабные офицеры шушукались между собой, многозначительно переглядывались и не раз торопливо прекращали разговор при моем появлении.
Помощник генерал-квартирмейстера фронта генерал Лукирский, с которым у меня сохранились дружеские отношения с тех пор, когда он был начальником отделения в моем управлении в штабе Северо-Западного фронта, оставаясь со мной наедине, жаловался на бестолковое управление войсками. Его особенно возмущало, что Ставка перебрасывает войска, руководствуясь совсем не стратегическими и тактическими соображениями. Говорил он мне, что и передвижение конного корпуса связано с политикой, но сколько-нибудь определенных выводов из этого не делал.
23 августа часов в девять вечера я работал у себя на квартире и был отвлечен топотом проходившей мимо конницы. Я выглянул в окно и увидел, как в багровом свете специально припасенных факелов, гулко цокоя подкованными копытами, проходят одетые по-походному, с притороченными к седлам вьюками казачьи сотни. Озадаченный неожиданной переброской частей конного корпуса, я позвонил по полевому телефону в штаб фронта.
— Говорит начальник гарнизона генерал Бонч-Бруевич. Попросите дежурного по штабу.
— Дежурный вас слушает, ваше превосходительство,- назвав свой чин и фамилию, сказал дежурный. Нарушая приказ № 1, он назвал меня «вашим превосходительством». Но в последние дни в штабе все тянулись, козыряли и становились во фронт так, словно никакой революции не произошло, и обращение дежурного меня не удивило.
— Что за казаки и куда они идут? — нетерпеливо спросил я.
— Казаки идут на станцию Псков 2-й для посадки в поезда и отправки по особому назначению,- доложил дежурный.
— По какому назначению?
— Не могу знать, ваше превосходительство.
Несмотря на свои настояния, я так и не узнал, куда отправляют казаков. Штаб, пользуясь тем, что я отошел от оперативных дел, скрыл это от меня. Играла роль и моя репутация — большевистского, как считали корниловцы, генерала.
Через час, другой я узнал вторую, еще больше встревожившую меня новость: штаб III корпуса срочно свернулся и выбыл в неизвестном направлении. Куда — в штабе фронта тоже не говорили.
На следующий день, не заезжая к себе в управление гарнизона, я поспешил в Псковский Совет. В городе было тихо, но в Совете сказали, что конный корпус двинулся по направлению к Петрограду. В Совете было тревожно, ходили неясные слухи о заговоре Корнилова и о попытке его объявить военную диктатуру. В комитетах частей установили дежурства; не прерывая работы и на полчаса, заседала «чрезвычайная комиссия».
Поздно вечером ко мне домой пришел вольноопределяющийся Савицкий и заявил, что, ввиду отсутствия Станкевича и Войтинского, на него возложены обязанности комиссара фронта.
С Савицким у меня были довольно добрые отношения, и он не раз откровенничал со мной. Он не стал скрывать владевшей им тревоги и попросил меня подумать о мерах, необходимых для поддержания в гарнизоне должного порядка.
— На всякий случай,- не без многозначительности прибавил он.
— Я давно уже делаю все, что в моих силах, для того, чтобы поддерживать в городе хоть какой-нибудь порядок, — сказал я.- Но положение в гарнизоне нельзя считать устойчивым. Слухи о заговоре Корнилова будоражат солдат. Можно ждать всяких эксцессов и даже самосуда над кое-кем из наиболее нелюбимых офицеров.
Савицкий настоял на том, чтобы я специальным приказом по гарнизону потребовал от воинских частей усиления караульной службы, запретил самовольные отлучки из казарм и провел еще несколько такого же типа мероприятий, позволяющих держать гарнизон в состоянии некой «боевой готовности». Я не стал спорить и, к удовольствию Савицкого, тут же написал просимый приказ. В приказе этом я ссылался на сдачу Риги и требовал в связи с этим повышения бдительности и резкого улучшения несения гарнизонной службы.
На следующий день часов в шесть вечера я пришел в Совет. Шло экстренное заседание Исполнительного комитета. Заседание было довольно бурным и в той же мере бестолковым. В то время модными были митинговые разговоры о борьбе с контрреволюцией «справа и слева». И тут один за другим выступали члены Исполкома и наперебой говорили о своей готовности к борьбе с такой контрреволюцией. Но никто из всех этих многоречивых ораторов не называл ни Корнилова, ни тех, кто якобы должен покуситься на революцию «слева», — словом, в Исполкоме шла болтовня, свойственная этой все еще меньшевистско-эсеровской бесхребетной организации.
Из Исполкома я пошел в «чрезвычайную комиссию», но и там не услышал ничего определенного.
Последующие дни, когда, собственно, и развернулся «корниловский мятеж», в Пскове проходили сравнительно спокойно.
Начиная с 25 августа я ежедневно объезжал части гарнизона. В комитете «распределительного пункта» я побывал дважды. Везде, куда бы я ни приезжал, меня засыпали вопросами, и я старался успокоить солдат и убедить их в необходимости сохранять спокойствие. В газетах уже появились первые сообщения о корниловском заговоре, настроение гарнизона стало резко меняться. В «чрезвычайную комиссию» и в комитеты частей начало приходить все больше солдат с заявлениями о подозрительном поведении тех или иных офицеров. Порой эти подозрения были ни на чем не основаны, и от меня потребовались немалые усилия, чтобы удержать солдат от расправы с офицерами, заподозренными в сочувствии мятежникам.
Я поставил себе целью знать все, что происходит в гарнизоне, добиваться полного порядка и спокойствия не допускать самочинных арестов и обысков. В успех корниловского мятежа я не верил и знал, что он кончится позорным провалом. Мне было отлично известно, что Корнилов мог рассчитывать лишь на незначительную часть офицерства; на солдат мятежный генерал, конечно, не надеялся; предполагать же, что с двумя-тремя дивизиями конников, разложившихся от бездействия и сытной тыловой жизни, можно завоевать революционную Россию, мог только такой легкомысленный и вздорный человек, как Лавр Корнилов.
Самого его я знал много лет.
Корнилов окончил Академию генерального штаба одновременно со мной. Был он сыном чиновника, а не казака-крестьянина, за которого во время мятежа выдавал себя в своих воззваниях к народу и армии. В Академии он производил впечатление замкнутого, редко общавшегося с товарищами и завистливого человека. При всей своей скрытности Корнилов не раз проявлял радость, когда кто-нибудь из слушателей получал плохую отметку и благодаря этому сам он выходил на первое место.
После окончания Академии большинство слушателей отправилось на службу в войска. Корнилов уехал на Дальний Восток и там сделался членом комиссии по уточнению границы с Китаем. Он был очень честолюбив; служба на границе показалась ему более коротким путем к карьере. Смуглый, с косо поставленными глазами, он лицом своим и подвижной фигурой напоминал кочевника-калмыка, и сходство это с годами увеличивалось. Несмотря на все его старания, продвижение Корнилова по иерархической лестнице шло туго; в годы, предшествовавшие войне с немцами, я даже потерял его из виду.
В начале войны он объявился в качестве командира 48-й дивизии на австрийском фронте. В августовских боях под Львовом он потерял много солдат, попавших в плен, и много орудий и едва не был смещен с должности. Весной 1915 года, при отходе русской армии из Галиции, Корнилов попал в окружение и, бросив им же заведенную в ловушку дивизию, позорно сбежал. Через четыре дня Корнилов сдался в плен, из которого спустя некоторое время бежал, подкупив фельдшера лазарета чеха Франца Мрняка.
Изобразив свой побег из плена как героический подвиг, не останавливаясь даже перед такой заведомой ложью, как рассказ о гибели оказавшегося невредимым фельдшера, Корнилов с помощью черносотенного «Нового времени» создал себе пышную славу. Вместо того, чтобы отдать Корнилова под суд за бегство из окруженной дивизии, ему, в угоду двору, дали XXV корпус, которым он и командовал до февральского переворота.
После падения самодержавия Временное правительство назначило Корнилова главнокомандующим Петроградского военного округа, и с этого момента он решил, что путь в российские бонапарты для него расчищен. Вскоре он был назначен командующим 8-й армией, и когда эта армия во время июньского наступления бежала, охваченная паникой, вина пала не на Корнилова, а на… революцию, якобы подорвавшую боеспособность войск.
Примерно в это время Корнилов сблизился с бывшим террористом Борисом Савинковым и с его помощью сделался главнокомандующим Юго-Западного фронта. Попытавшись восстановить в войсках прежнюю палочную дисциплину, он предъявил Временному правительству ультиматум о введении смертной казни. Керенский уступил, н русская контрреволюция признала Корнилова своим вождем.
Получив репутацию «советского» генерала, я оказался вне той политической игры, которую вел Корнилов. Заговорщики не доверяли мне. Самый Псков, гарнизон которого я возглавлял, начал казаться Корнилову опасным, и не случайно, напутствуя генерала Краснова накануне подготовленного мятежа, верховный главнокомандующий сказал ему:
— Поезжайте сейчас же в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове: нужно, чтобы побольше генералов было в Пскове… Я не знаю, как Клембовский? Во всяком случае, явитесь к нему. От него получите указания.
Имея союзника в лице главнокомандующего Северного фронта, Корнилов был так обеспокоен положением в Пскове только потому, что не мог рассчитывать на местный многотысячный гарнизон.
В Пскове, как и в подавляющем большинстве городов и армий, солдатские массы были настроены куда левее Советов, все еще заполненных эсерами и меньшевиками и до сих пор не переизбранных. Но ротные, батальонные, полковые, а порой и дивизионные комитеты преимущественно состояли уже из большевиков, и это заставляло даже соглашательские Советы проводить совсем не ту политику, которой хотело бы Временное правительство.
Должен сознаться, что в стремлении моем сохранить в гарнизоне порядок и спокойствие играли роль и некоторые соображения кастового характера. Я был генералом русской армии, военная среда казалась мне родной и мне совсем не безразлична была судьба нашего офицерства. Я бы солгал, если бы начал уверять, что наладившаяся связь с Советом, комитетами и солдатскими массами уже тогда излечила меня от свойственного замкнутой офицерской семье особого отношения к офицеру или генералу, как человеку своей касты. Начавшийся мятеж усилил враждебное отношение к офицерам, и последним нужен был большой такт и ум, чтобы не раздражать и без того возбужденных солдат.
Большинство офицеров псковского гарнизона в дни «корниловщины» держалось так, что особого беспокойства за их судьбу испытывать не приходилось. Но были и «взъерошенные» офицеры, порой даже в высоком чине; эти не унимались и делали глупости и подлости, за которые иной раз платились жизнью. Какой-то казачий офицер, фамилию которого я запамятовал, был убит солдатами за то, что во всеуслышанье на одной из псковских улиц назвал местный Совдеп советом «собачьих и рачьих» депутатов. Иные хорохорящиеся поручики и капитаны едва уносили ноги после попытки «подтянуть» солдат. Начавшийся мятеж вселял в контрреволюционно настроенных офицеров несбыточные надежды, и они начинали сводить счеты. Никогда в Пскове так много не говорилось о том, чтобы арестовать меня, как в эти дни. Между тем, если бы не я, многие ретивые сторонники моего ареста стали бы жертвами солдатских самосудов.
Мое отрицательное отношение к Корнилову расположило ко мне Савицкого, исполнявшего теперь обязанности комиссара фронта. Он зачастил ко мне на квартиру и, приходя, советовался со мной не только по делам псковского гарнизона. Новый комиссар фронта охотно рассказывал о том, что происходит в армиях, и читал мне донесения армейских комиссаров армий и проекты своих распоряжений по фронту.
В беседах с Савицким я чувствовал себя не очень ловко. По существу он должен был обращаться не ко мне, а к генералу Клембовскому, как главнокомандующему фронта. Поэтому я был очень осторожен в советах, которые давал Савицкому, и старался не дать повода Клембовскому обвинить меня в подсиживании и попытке его подменить.
Как бы между делом Савицкий несколько раз говорил мне, что 28 августа через Псков проедет Керенский. Он, Савицкий, обязательно побывает в вагоне премьера и расскажет ему о моей полезной деятельности в гарнизоне. Исполнявший обязанности комиссара фронта явно стремился завоевать мои симпатии. И только после Октября, прочитав мемуары Станкевича, я понял, почему меня так обхаживали.
«После разговора с Керенским, — рассказывает Станкевич{34}, — я отправился на телеграф сноситься с Северным фронтом. Сперва я долго не мог добиться соединения с кабинетом главнокомандующего, так как мне отвечали, что занято Ставкой. Наконец, соединение дали. В очень сдержанных и туманных словах я дал понять, что между Ставкой и правительством создались некоторые затруднения, которые дают правительству повод опасаться неосторожных шагов со стороны Ставки. Клембовский ответил, что его положение очень трудное, так как от Ставки он получает как раз противоположные указания.
На другой день, — продолжает Станкевич,- я еще раз соединился с ним и просил, чтобы он подтвердил, что признает авторитет правительственной власти. Клембовский не дал такого заверения… В минуты гражданской войны он оказался не с правительством, значит — против правительства. Признаюсь, я был в тревоге за Северный фронт. Тревога моя объясняется тем, что такой поворот дела застал нас совсем неподготовленными. Я знал, что в Пскове центром всех демократических сил является мой комиссариат. Псковский Совет был весьма слабенький; единственно энергичный, но очень юный его председатель трудовик Савицкий вошел в мой комиссариат начальником одного из отделов; с его уходом в Совете доминирующее положение занял не кто иной, как генерал Бонч-Бруевич, очаровавший весь Совет своей усидчивостью и умевший пользоваться Советом как угодно».
Естественно, что, не надеясь на стакнувшегося с Корниловым генерала Клембовского, Савицкий пытался заручиться моим доверием и дружбой. Сам Савицкий вопреки утверждениям Станкевича, не пользовался в Псковском Совете особым влиянием. «Слабенький» Псковский Совет был совсем не таким, каким его рисует Станкевич. Находясь под влиянием войсковых комитетов, он проводил порой не соглашательскую, а довольно твердую и скорее даже большевистскую политику и поэтому пользовался в городе значительным влиянием. Что же касается до меня, то я только горжусь тем, что вместо обычных конфликтов и недоразумений работал с Советом рука об руку, особенно в такие тревожные дни.
29 августа конфликт Корнилова с Керенским и роль в нем бывшего обер-прокурора синода Львова были уже известны в Пскове и широко обсуждались на собраниях. В штабе фронта начался переполох. Около часа дня я отправился к генералу Клембовскому. Главнокомандующего фронта я застал в знакомом кабинете одетым в солдатскую шинель. Воротник шинели был поднят, руки всунуты в карманы; Клембовский ежился, словно его трясла лихорадка. Казалось, он собирался бежать; оставалось только срезать генеральские погоны, и в своей солдатской одежде главнокомандующий легко затерялся бы в уличной толпе…
Поздоровавшись, я спросил Клембовского, кто же теперь является верховным главнокомандующим.
— Сам ровным счетом ничего не понимаю, — пожаловался Клембовский. — Но, по-моему, и понять трудно. Из Петрограда приказывают одно, из Ставки — другое. Корнилов как будто смещен, а подчинится ли — кто знает? Нет уж, Михаил Дмитриевич, положение мое хуже губернаторского. Даже голова кругом идет. А тут еще захворал некстати — то в жар, то в холод бросает…
Он долго еще жаловался на недомогание, и я ушел, так и не выяснив того, что намерен делать штаб.
Побывав в Совете и в своем управлении, я часам к шести возвращался домой. Неожиданно меня нагнал вестовой и передал мне телеграмму из Петрограда.
«Временное правительство предлагает вам вступить в командование армиями фронта»,- телеграфировал мне Керенский.
Неожиданное назначение это озадачило меня — меньше всего я мог рассчитывать на «милости» Временного правительства. Два военных министра этого правительства — сначала Гучков, а затем Керенский — оттеснили меня от всяких военных дел. Зачем же я им понадобился теперь? Видимо Временное правительство, как разборчивая невеста без женихов, осталось без генералов, которые смогли бы справляться с войсками…
Миновав дом, в котором находилась моя квартира, я прошел в штаб фронта и снова зашел к Клембовскому. Он все еще был в своей неуклюжей шинели и, видимо, ни на что так и не решился.
Я молча подал полученную мною телеграмму. Прочитав ее, Клембовский попытался сделать приятное лицо и сдавленным голосом сказал:
— Поздравляю вас и желаю справиться с врагом…
Я так и не понял, о каком враге говорит смещенный главнокомандующий. Но он уже занялся передачей дел, и мы оба тут же написали и отправили Временному правительству телеграммы: Клембовский — о сдаче командования армиями «Северного фронта, я — о вступлении в командование ими.
Отправив телеграмму, Клембовский перекрестился мелким крестом и сказал мне, что завтра же уедет из Пскова.
Таким образом, около семи часов вечера 29 августа 1917 года я нежданно-негаданно оказался на высоком посту главнокомандующего Северного фронта. От Клембовского я отправился к исполняющему обязанности генерал-квартирмейстера фронта Лукирскому, передал ему телеграмму Керенского и подписал приказ о вступлении в должность, предложив штабу оповестить об этом все части и учреждения фронта по телеграфу.
Водворившись в кабинете Клембовского, я вызвал к себе начальника штаба фронта генерала Вахрушева и спросил его, желает ли он остаться на своем посту. Получив утвердительный ответ, я предложил ему подготовить к одиннадцати часам вечера подробный доклад о положении дел на фронте. Вахрушев был исполнительный генерал, но доклад его пришлось отложить.
Часов в десять вечера из Выборга пришла телеграмма от временно командующего XLII отдельным корпусом. В телеграмме этой скупо рассказывалось о том, что солдаты арестовали командира корпуса генерала Орановского и несколько старших начальников, бросили их в Морской канал и расстреляли с берега из винтовок.
Я отправил в Выборг телеграмму с категорическим требованием прекращения самочинных арестов и вызвал к прямому проводу временно принявшего корпус штаб-офицера. Едва я успел переговорить с ним, как меня попросил к телефону комендант пассажирской станции Псков
— Ваше превосходительство,- сказал комендант, — простите, что беспокою вас так поздно. Но по платформе ходит какой-то приезжий генерал и делает резкие замечания солдатам, не отдавшим ему чести. Боюсь, как бы чего не случилось с этим генералом, — признался он, видимо, зная уже о событиях в Выборге.
Я глянул на часы — было около двух часов ночи. Кто мог быть этот генерал, мне и в голову не приходило. Но возможность самосуда на станции меня встревожила, и я сказал коменданту:
— Попросите этого генерала к вашему комендантскому телефону.
Через несколько минут комендант сказал, что передает трубку. Я спросил:
— Кто у телефона?
— Генерал Краснов, — услышал я.
Мне было уже известно, что Краснов назначен командиром III конного корпуса в помощь генералу Крымову, получившему от «верховного» задание сформировать особую армию. Конный корпус я уже приказал вернуть с пути и сосредоточить в Пскове — начальник штаба был занят разработкой соответствующих распоряжений по фронту. Краснов, таким образом, появился как нельзя кстати; важно было лишь сразу поставить его на место, и я нарочито грубым тоном сказал:
— У телефона главнокомандующий Северного фронта генерал Бонч-Бруевич. Предлагаю вам немедленно прибыть в штаб фронта и явиться ко мне. Мой адъютант приедет за вами на автомобиле.
— Слушаюсь! — не без почтительности в голосе ответил Краснов, и я понял, что взял с ним верный тон.
Краснова, как и Корнилова, я знал еще по Академии генерального штаба. Краснов был на курс старите меня, но, окончив Академию по второму разряду, в генеральный штаб не попал. Состоя на службе в лейб-гвардии казачьем полку, он больше занимался литературой и частенько печатал статьи и рассказы в «Русском инвалиде» и в журнале «Разведчик».
Мне всегда не нравился карьеризм Краснова и бесцеремонность, с которой он добивался расположения сильных мира сего, не брезгуя ни грубой лестью, ни писаньем о них панегириков. Знал я, что генерал Краснов при внешней вышколенности внутренне совершенно недисциплинированный и неуравновешенный человек. Мне было известно, наконец, что между Керенским и Корниловым произошел полный разрыв, и хотя первый и сместил верховного главнокомандующего с его поста, тот решил не подчиниться и идти войной на Петроград.
Пока я разговаривал с Красновым по телефону, начальник штаба отредактировал и перепечатал телеграмму о том, чтобы эшелоны III корпуса были остановлены повсюду, где бы их ни застало мое распоряжение, и немедленно отправлены обратно в район Пскова. Телеграмму эту я успел подписать еще до появления Краснова в штабе. Сумел я вызвать и начальника военных сообщений фронта и приказать ему принять все меры к обратной перевозке частей корпуса.
— С какими задачами прибыли вы, генерал, в Псков? — спросил я Краснова после того, как он представился.
Я ждал четкого ответа — еду, мол, вступать в командование туземным корпусом. Генерал, однако, начал неопределенно рассказывать, что едет в распоряжение Крымова, а зачем — и сам не знает.
Желая вызвать Краснова на. большую откровенность, я сказал:
— Генерал Крымов направился в Лугу, а затем в Петроград. Пожалуй, вам теперь незачем ехать к нему, так как карты и Крымова и Корнилова биты.
— Я получил приказание, ваше превосходительство, и должен его выполнить. Мне надлежит принять от генерала Крымова корпус и распутать ту путаницу, которая в нем происходит, — упрямо сказал Краснов.
— А в чем вы видите путаницу? — спросил я. Краснов не очень ясно заговорил о том, что эшелоны застряли на путях; люди и лошади голодают; могут начаться грабежи…
— Я с вами согласен, — поспешно перебил я. — Но все нужные меры приняты, и вам незачем уезжать из Пскова…
По красивому, но неприятному лицу казачьего генерала пошли пятна, темная эспаньолка подозрительно дернулась, в глазах появилась откровенная ненависть.
— Я просил бы вас, ваше превосходительство, дать мне автомобиль. На нем я бы в два счета доехал до Луги и сам бы посмотрел, что с корпусом. Я ведь еще не видел его,- овладев собой, соврал Краснов.
«Пожалуй, надо прямо объявить ему, что он арестован»,- решил я. Мне было уже ясно, что Краснов прибыл в качестве заговорщика с особым заданием «верховного». Пусти я его к конникам, он, почем знать, может, быть, и сумеет приостановить возвращение корпуса в Псков. А этого я не мог допустить.
«Генерал, вы арестованы», — чуть было не сказал я, но малодушно спохватился. Мне показалось, что арест Краснова создаст в Пскове повод для репрессий по отношению к другим офицерам. Кастовое чувство снова заговорило во мне, но читатель должен меня понять — не так легко всю жизнь провести в офицерской среде и так вот вдруг начать рассматривать своих товарищей по училищу и академии как заведомых врагов.
«Задержу его покамест в Пскове. Находясь не у дел, он не сможет навредить. А там видно будет, тем более, что за это время части III корпуса подтянутся к Пскову»,- решил я и, стараясь не выдавать истинных своих намерений, предложил Краснову проехать в управление начальника гарнизона и переночевать в специально предназначенной для этого комнате.
— Отдохнете, а утром подробно поговорим с вами о положении корпуса, — сказал я на прощанье.
Краснов понял, что спорить бесполезно, и, откозыряв, вышел. Я позвонил в управление начальника гарнизона и приказал дежурному обеспечить генерала удобным ночлегом и вместе с тем поглядеть за тем, чтобы он не удрал из Пскова.
— Будет исполнено, господин генерал,- весело сказал дежурный. Это был надежный и преданный мне офицер, и я не сомневался, что приказание мое будет выполнено точно.
При разговоре моем с Красновым присутствовал Савицкий, которого я умышленно вызвал в штаб фронта.
Отдав приказание дежурному о негласном аресте Краснова, я тут же договорился с Савицким о том, что если генерал попробует, уклониться от утренней встречи со мной, то за ним будет послано, и он — хочешь не хочешь — вынужден будет явиться в штаб. Пока же Савицкий, как комиссар фронта, берет генерала под свое наблюдение, обезопасив его от возможных эксцессов. После назначенной на завтра новой встречи с Красновым для него в бывшем кадетском корпусе, куда недавно переехал комиссариат фронта, будет приготовлена комната. В ней генерал проживет до прибытия в Псков штаба корпуса, находясь все время на глазах у комиссара и его сотрудников.
Настаивавший сначала на аресте казачьего генерала Савицкий согласился со мной, и мы на этом расстались.
На следующее утро Краснов явился в штаб фронта. Я тотчас же принял его, но попросил немного подождать тут же в моем кабинете, пока не кончу редактировать телеграмму.
— Я хотел просить вас, ваше превосходительство, утвердить некоторые мои предложения относительно дислокации частей корпуса, — просительно начал Краснов, когда я освободился. Ссылаясь на то, что эшелоны с конниками загромоздили все пути и, остановив движение по железной дороге, мешают подвозу продовольствия, генерал предложил сосредоточить Уссурийскую дивизию в районе Везенберга. Согласись я на это предложение, весь корпус оказался бы в кулаке и на путях к Петрограду.
Вместо ответа я показал Краснову готовую для подписи телеграмму, адресованную Керенскому, как верховному главнокомандующему. В ней я просил о передаче Петроградского военного округа Северному фронту. Подписав телеграмму, я сказал опешившему генералу:
— Теперь вам должно быть ясно: продолжать то, что вам было приказано Корниловым и что вы от меня скрываете, нельзя.
Краснов промолчал.
— Пока же оставайтесь в Пскове,- приказал я и поручил дежурному, адъютанту отвести Краснова на приготовленную в комиссариате квартиру.
Еще в первую ночь Краснов, выйдя из отведенного ему помещения, попытался укрыться на окраине города, но был приведен в управление начальника гарнизона дозором Псковской школы прапорщиков.
Теперь он со свойственным ему нахальством стал жаловаться на недопустимое обращение с генералом, которого, мол, под конвоем погнали по городу. Отлично зная подробности ночного происшествия, я терпеливо выслушал Краснова и, сделав вид, что только узнал о неудачной попытке его к бегству, сказал:
— Ничего не поделаешь. Настоящая власть находится сейчас не в наших руках, а у Совета. И порядок в городе я поддерживаю только потому, что действую с ним в контакте. И вам, генерал, придется с этим считаться. Тем более, что Ставка утвердила вас командиром корпуса и вам не один день придется провести в Пскове
Не желая, чтобы он истолковал свое назначение как победу корниловщины, я тут же огорошил Краснова сообщением о том, что корпус расквартировывается в районе Пскова, а штаб возвращается в самый город.
— Кстати, — с нарочитой небрежностью продолжал я. — Крымов-то застрелился… Так-то… — выжидающе поглядел я на побледневшего генерала. — А теперь ступайте к генерал-квартирмейстеру, он укажет вам пункты для расквартирования частей корпуса, — сказал я все еще не пришедшему в себя генералу и отпустил его.
Примечания
{34} Станкевич. Воспоминания. Берлин, 1920.
Глава тринадцатая
Вопрос о выделении Петроградского военного округа. — Парад войскам псковского гарнизона. — В Ставке. — Я снова встречаюсь с Духониным. — Влияние на него генералов Алексеева и Дитерихса. — Появление Керенского. — Встреча с Массариком. — Проводы Алексеева.
Назначив меня главнокомандующим Северного фронта, Керенский сделал это в минуты растерянности и потому, что знал то влияние, которым я пользовался в Псковском гарнизоне. Но оставлять меня на этом посту он не собирался, и мне было ясно, что я только «калиф на час».
Помимо моей «большевистской» репутации, Керенского не устраивала та позиция, которой я давно и твердо придерживался в вопросе о вхождении в состав фронта войск Петроградского военного округа.
На опыте Северного фронта я убедился, что руководить армиями фронта, не имея в подчинении Петрограда с его войсками, складами и военными заводами, совершенно невозможно.
Перед самым февральским переворотом генерал Рузский, не выдержал характера и согласился на выделение Петроградского военного округа. Каждый раз он оказывался на редкость беспринципным и безвольным человеком там, где сталкивался с хитроумной придворной интригой. Для психолога эти внезапные извивы характера представили бы бесспорный интерес: двор действовал на Рузского, как острозаразная и страшная болезнь. Наблюдая Рузского в эти мрачные периоды его жизни, я невольно рисовал перед собой картины опустошающей города чумы. Вот только что еще ходил, разговаривал, шутил здоровый и жизнерадостный человек. И вдруг на койке корчится слабое и уродливое его подобие, пораженное безжалостной эпидемией.
Петроградский военный округ был изъят из состава Северного фронта по представлению Протопопова. Однако истинным автором этого нелепого проекта был не полусумасшедший министр внутренних дел, а тот самый «русский Рокамболь», о котором я уже писал. Манасевич-Мануйлов ухитрился внушить эту мысль Распутину, последний же, «обработав» истеричную Александру Федоровну, использовал Протопопова как подставное лицо для осуществления замысла, окончательно подорвавшего боеспособность важнейшего из фронтов.
В придворных Кругах царило паническое настроение; ожидали каких-то выступлений, направленных против правительства и самого императорского дома. Выделение Петроградского округа из состава Северного фронта по мысли Манасевича-Мануйлова, должно было превратить столицу и её трехсоттысячный гарнизон в «Бастилию» русского самодержавия.
Комендантом этой «Бастилии» назначили генерала Хабалова{35}, военного губернатора Уральской области, человека вялого, сырого и бездарного во всех отношениях. В пару к нему был подобран и начальник штаба — генерал Тяжельников, о котором я уже упоминал.
Поддержать стремительно рухнувшее самодержавие Хабалов не смог и сам впал в панику в первые же дни революции.
В свое время, узнав в комиссии Батюшина о готовящемся выделении округа я доложил об этом генералу Рузскому. Он не поверил мне — настолько нелепой показалась ему даже самая эта мысль. Осведомленный доверявшими мне контрразведчиками, я оказался прав, но когда пришло подтвердившее мои слова распоряжение верховного главнокомандующего, Рузский не нашел в себе мужества его опротестовать.
При Временном правительстве Петроград оставался независимым от Северного фронта и по-прежнему тяжелым гнетом давил на фронт. Подбор кандидатов в командующие округом, как и до переворота, производился не по деловым признакам, а по тем же путаным и темным «дворцовым» соображениям, в силу которых в свое время был назначен Хабалов. Корнилова на посту командующего войск этого самого ответственного в России военного округа сменил полковник Половцев, бывший начальник штаба туземной дивизии, неизвестно зачем и за что произведенный Гучковым в генералы. Лихой и невежественный кавалерист, он не разбирался в самых простых вопросах, был заведомым монархистом и за несколько дней до отречения Николая II добился в Ставке приглашения к императорскому столу.
Жизнь свою Половцев закончил в белой эмиграции, приобретя на своевременно переведенные, за границу деньги кофейные плантации в Африке. Протеже неудавшегося регента, великого князя Михаила Александровича, он понадобился Временному правительству не в силу своих военных талантов, а как слепое орудие в борьбе с большевиками.
Округ оставался выделенным из Северного фронта по тем же, ничего общего со стратегией и тактикой не имеющим соображениям. Как ни парадоксально, «революционный» министр-председатель стоял в этом вопросе на точке зрения Гришки Распутина.
Сам Керенский, не стесняясь подтвердил это в своих воспоминаниях{36}.
«Я выставил себе только одну цель — сохранить самостоятельность правительства, цель, которую мотивировал во Временном правительстве тем, что ввиду острого политического положения вещей невозможно правительству отдавать себя совершенно в распоряжение — в смысле командования вооруженными силами — Ставке. Я предлагал Петроград и его близкие окрестности, во всяком случае выделить и оставить в подчинении правительству. За принятие этого плана я около недели вел борьбу, и в конце концов удалось привести к единомыслию всех членов Временного правительства и получить формальное согласие Корнилова».
Июльские дни и большевизация петроградского гарнизона заставили Керенского попытаться вывести из столицы наиболее ненадежные части{37} и заменить их отсталыми, но «надежными» конными частями.
Корпус Крымова был двинут на Петроград с согласия Керенского, и только последующий разлад его с Корниловым заставил нового «главковерха», испугавшегося им же вызванных духов, согласиться на возвращение крымовских конников в район Пскова.
Пользуясь растерянностью, царившей во Временном правительстве, я повернул корпус обратно и, пойдя «ва-банк», попытался вернуть в состав фронта весь Петроградский военный округ. Нанеся удар по корниловщине, я вместе с тем ударил и по Керенскому, и этого он простить мне не мог. Не простили мне «белые» и того, что сделал я с III конным корпусом.
Неудачливый «главнокомандующий» вооруженных сил Юга России (ВСЮР) генерал Деникин так охарактеризовал эти мои действия{38}:
«27 августа на обращение Ставки из пяти главнокомандующих отозвались четыре: один мятежным обращением к правительству, трое — лояльным, хотя и определенно сочувствующим в отношении Корнилова. Но уже в решительные дни 28-го, 29-го, когда Керенский предавался отчаянью и мучительно колебался, обстановка резко изменилась: один главнокомандующий сидел в тюрьме, другой ушел и его заменил большевистский генерал Бонч-Бруевич, принявший немедленно ряд мер к приостановлению движения крымовских эшелонов».
Мятежный генерал, о котором упоминает Деникин, бил он сам. Не отозвался на обращение Ставки главнокомандующий Кавказским фронтом генерал Пржевальский. Наконец, я заменил, как понятно читателю, находившегося в сговоре с Корниловым генерала Клембовского.
Деникин назвал меня большевистским генералом. Правда, он сделал это несколько лет спустя после гражданской войны. Но, вероятно, и тогда, в дни корниловского мятежа, он наивно считал меня большевиком.
За большевика принимал меня и Керенский, и, вступив в командование войсками фронта, я отлично понимал, что дни мои в этой должности сочтены.
И верно, не прошло и двух недель, как я был отозван в Ставку. На мое место Керенский назначил того самого генерала Черемисова, которого только «либерализм» верховного главнокомандующего избавил в свое время от отдачи под суд по делу полковника Пассека. Предвидя свое отозвание, я за два дня до него провел смотр войск псковского гарнизона и частей, расположенных вблизи города.
В назначенное время многочисленные войска были построены на Соборной площади Пскова и немало обрадовали меня выправкой и бравым видом солдат.
Принимая парад, я не мог не привлечь к этому вернувшегося в Псков комиссара Станкевича. Я предполагал, как было положено, подъехать к войскам верхом на огромной «Раве», моей великолепно выезженной полукровке. Но комиссар не ездил верхом, и мне пришлось пересесть в штабной автомобиль.
— Смирно! Слушай — на караул! — Зычно приказал командовавший парадом генерал. Заиграли оркестры, по рядам построенных войск как бы пробёжал легкий трепет.
В декоративной стороне армий, в нарядной форме офицеров и солдат, в строевой выправке, в изумительной согласованности движений тысяч людей есть что-то, как сладкая отрава, проникающее в душу всякого человека, для которого пребывание в армии было не только эпизодом. Не скрою, образцовое состояние построившихся на Соборной площади войск глубоко тронуло меня.
Приняв строевой рапорт командующего парадом, я скомандовал войскам «стоять вольно» и начал обходить выстроенные войска. Здороваясь, я пытливо вглядывался в лица солдат и офицеров. Характерных для последних дней сумрачных взглядов и недоверчивых усмешек не было; все были старательно выбриты, одеты чисто, в начищенных сапогах; а конница — Сумский гусарский полк — и артиллерия выглядели даже щеголевато.
Закончив обход, я вышел на середину площади и поблагодарил войска. Стоял яркий солнечный день из тех, которыми природа так щедро балует нас в преддверии русской осени. Лишь кое-где на деревьях проступало золото уже тронутой сентябрем листвы. Сверкали штыки, среди которых, против ожидания, почти не было ржавых; горели начищенные до дореволюционного блеска трубы полковых оркестров; на крышах окружающих площадь домов пощелкивали громоздкие аппараты кинематографистов; казалось, весь Псков, принарядившись, высыпал на улицы и поспешил к собору, чтобы полюбоваться давно невиданным зрелищем.
На соборной колокольне по случаю праздника весело звонили колокола, войска двинулись церемониальным маршем, чеканя шаг, и под впечатлением этого, дорогого моему солдатскому сердцу торжественного зрелища я и покинул Псков.
В Могилеве, где по-прежнему находилась Ставка, я не был с февраля прошлого года. С революцией город мало изменился, разве стал еще грязнее и скученнее. Приехав в Могилев, я не сразу покинул положенный мне по чину вагон и предпочел выслать «на разведку» своего адъютанта, лихого и услужливого поручика. Вскоре адъютант вернулся и доложил, что на путях стоят салон-вагоны прежнего начальника штаба Ставки генерала Алексеева и нового — генерала Духонина, но сами они находятся в городе.
Вызванный адъютантом автомобиль подъехал к вокзалу довольно скоро, и я отправился в штаб верховного главнокомандующего. Он, как и прежде, помещался в губернаторском доме. Внешний вид Ставки нисколько не изменился за время моего отсутствия. Но внутри знакомого дома все показалось мне каким-то слинявшим и выцветшим. У находившегося в подъезде полевого жандарма, не было и намёка на былую выправку. Увидев меня, он и не подумал спросить пропуск, и, никем не остановленный, я быстро прошел в кабинет начальники штаба Ставки. Духонин был у себя, и мы радостно поздоровались.
Я наивно считал Духонина отличным офицером генерального штаба и за его исполнительностью и точностью не видел ограниченности и какой-то органической реакционности.
В первые дни войны Николай Николаевич командовал полком и, отличившись, был награжден офицерским «Георгием». Между тем, был он на редкость безвольным и пожалуй, даже трусливым человеком. Я, как сейчас, вижу его перед собой: невыразительное лицо, франтовато закрученные, с нафиксатуаренными кончиками усы, пенсне без оправы на самодовольном носу, аксельбанты на кителе, свидетельствующие о причислении к генеральному штабу, и белый георгиевский крестик на груди.
Встретившись с ним где-нибудь в приёмной, очень трудно было предположить, что через некоторое время имя этого щеголеватого и подтянутого генштабиста станет нарицательным, что широко распространенное в годы гражданской войны выражение «отправить в штаб Духонина» будет обозначать то же, что и ходячая фраза: «поставить к стенке»…
К Духонину я относился пристрастно, старался, не видеть его недостатков и — постоянно переоценивал его скромные достоинства. Я считал себя, как об этом знает уже читатель, обязанным Духонину, и это сказывалось на моем отношении к нему.
В 1906 году мне пришлось пережить одну из самых неприятных передряг в личной жизни. Мои отношения с женой, на которой я женился еще в полку, сложились так, что даже дети не могли заставить меня отказаться от развода, чрезвычайно трудного и кляузного по тем временам.
В связи с разводом, на который жена моя не давала согласия, совместная жизнь превратилась в пытку. Кончилось тем, что, ликвидировав свою квартиру в Киеве и отправив большую часть имущества родителям жены, сам я переехал к Духонину и несколько месяцев прожил у него, пользуясь его участливым гостеприимством.
В начале войны мы оказались в штабе одной и той же 3-й армии, но поработать совместно пришлось недолго.
С тех пор прошло долгих три года, но, войдя в кабинет Духонина, я увидел его таким же моложавым и подтянутым, как когда-то в Галиции.
Пользуясь старой нашей близостью, я без обиняков спросил Духонина:
— Что вам за охота была, Николай Николаевич, принимать должность начальника штаба Ставки при таком верховном, как Керенский?
— Ничего не поделаешь, на этом настаивал Михаил Васильевич, — признался Духонин.
— При чем тут Алексеев? — не выдержал я. — Вопрос слишком серьезен для того, чтобы решать его только в зависимости от желания кого бы то ни было…
— Что вы, что вы! — запротестовал Духонин и тоненьким своим голоском начал доказывать, что воля Алексеева в данном случае должна являться законом; время ответственное — это верно; но именно потому, что мы переживаем исторические дни, нельзя руководствоваться личными отношениями. Сам Михаил Васильевич готов принести себя в жертву интересам армии и потому согласился на назначение начальником штаба Ставки; не дай он согласия, Ставку после провала Корнилова разнесли бы, — известно ведь, какой из Керенского «верховный». Наконец, назначение Алексеева начальником штаба к Керенскому спасло Лавра Георгиевича и остальных участников корниловского заговора, — теперь они, слава богу в Быхове и вне опасности…
— Но Михаил Васильевич не мог остаться в Могилеве, — продолжал Духонин; — Как никак он был ближайшим помощником отрекшегося государя, и этого ему простить не могут. Поэтому-то он и решил подать в отставку и уехать к себе в Смоленск. А уж заместить его некому, кроме меня… — с неумной самонадеянностью закончил Духонин и через пенсне испытующе поглядел на меня.
Мне хотелось сказать Духонину, что Алексеев, выдвигая его на свое место, меньше всего думал о служебных достоинствах и военных талантах своего преемника. Рекомендовать на место начальника штаба Ставки решительного и одаренного генерала, который все повернул бы по-своему, он не хотел. Другое дело было поставить на этот пост послушного Духонина. Оставляя его вместо себя, Алексеев правильно рассчитал, что будет по-прежнему направлять деятельность Ставки, имея в лице нового начальника штаба выполнителя своей воли.
Ничего этого я Духонину не сказал, зная, что, не переубедив, только обижу его.
Все последующее время вплоть до его трагической гибели я часто слышал от Духонина ссылки на Алексеева, которого он, бог весть почему, так чтил.
«Михаил Васильевич пожелал», «Михаил Васильевич настоял»», «Михаил Васильевич попросил» — все эти быстро надоевшие фразы так и не сходили с уст начальника штаба Ставки.
Переехав в Смоленск, где он жил до войны, командуя XIII армейским корпусом, Алексеев, пользуясь своим безграничным влиянием на Духонина, по-прежнему воздействовал на Ставку; и направлял ее сомнительную «политику».
Злым гением Духонина оказался и генерал-квартирмейстер Ставки Дитерихс, также выдвинутый на этот пост Алексеевым. При малейшей попытке Духонина проявить самостоятельность и по-своему решить вопрос, Дитерихс коршуном налетал на него и начинал заклинать все теми же магическими ссылками на бывшего начальника штаба.
— Михаил Васильевич поступил бы иначе, Михаил Васильевич посоветовал, Михаил Васильевич говорил — настойчиво повторялось в просторном кабинете Духонина до тех пор, пока тот не сдавался и не поступал так, как хотелось Дитерихсу{39}.
Первое свидание мое с Духониным продолжалось недолго — он предупредил меня, что ждет прибывшего в Могилев и остановившегося в бывших царских комнатах Керенского.
Решив представиться новому «верховному», в распоряжение которого был назначен, я попросил у Духонина разрешения остаться в его кабинете и, чтобы не мешать ему работать, отошел в сторонку. Не прошло и получаса, как ведущие во внутренние комнаты двери стремительно распахнулись и в комнату вбежал и сразу бухнулся в кресло показавшийся мне незнакомым человек в коричневом френче и желтых ботинках с такими же крагами.
У него было бритое одутловатое лицо, над высоким лбом неприятно торчали остриженные ежиком волосы, щека чуть дергалась от нервного тика.
Появление этого человека было столь неожиданно и вся фигура его показалась настолько раздражающей, что мне и в голову не пришло узнать в нем верховного главнокомандующего.
Я неоднократно видел Керенского в Государственной Думе, которую частенько посещал, пока был начальником штаба 6-й армии и жил в Петрограде. Слышал я и его истеричные речи. Но тогда Керенский был скромный, тощий человек, явно из адвокатов, ничем не блещущий и ни на что не претендующий. Теперь же в кабинете, развалившись в кресле и заложив ногу за ногу, сидел напыщенный, важничавший человек, скорее всего рыжий или рыжеватый и, не обращая внимания ни на Духонина, ни на меня, старательно чистил ногти.
По тому, как вытянулся при его появлении и так и остался стоять начальник штаба, я догадался, наконец, что передо мной Керенский, и, представившись, доложил, что прибыл в его распоряжение.
Небрежно кивнув мне, Керенский повернулся к Духонину, и тот, поняв это движение как приказание, начал робким своим дискантом читать телеграммы, полученные от русского военного агента в Англии.
Во время, чтения Керенский смотрел в потолок, время от времени издавая неопределенные восклицания и делая это с таким многозначительным видом, словно содержание телеграмм было ему известно наперед, и все, о чем писал военный агент, он, новый «главковерх», предвидел и предугадал…
— А вы всю войну прослужили с генералом Рузским? — спросил меня Керенский, не дослушав последней телеграммы.
— Так точно, — по-военному подтвердил я. – Волей судьбы я значительную часть войны работал под руководством генерала Рузского, которого считаю чуть ли не единственным из больших генералов, понявшим сущность современной войны.
— Ну и хорош же ваш Рузский! — сделал недовольную гримасу Керенский. — Чего он только не наговорил на московском совещании!
— Простите, господин министр-председатель, — всячески сдерживая накипавшую злость, возразил я, умышленно не называя Керенского верховным главнокомандующим. — Генерал Рузский сказал про состояние действующей армии лишь то, что был обязан…
Керенский промолчал и, сорвавшись с кресла, исчез в тех же дверях, из которых появился.
Дружески выговорив мне за мою недостаточную обходительность с «верховным», Духонин сказал, что поговорит с ним о моем дальнейшем назначении.
— Постараюсь, Михаил Дмитриевич, уговорить его дать вам какую-нибудь армию. Как только освободится должность командующего, — предложил Духонин.
— Ради бога, Николай Николаевич, избавьте меня от всяких назначений, — взмолился я. — При нынешней бестолочи и, падении дисциплины в армии не вижу, чем я смогу быть полезным на этом посту. Один в поле не воин. И как бы я ни старался удержать вверенную мне армию от полного ее развала, она все равно развалится, так как вокруг все рушится, и шатается, а Керенский этому усердно помогает. Единственное, о чем я хочу вас просить, — это выяснить у Керенского: оставаться ли мне на военной службе или подать в отставку?
На этом мы расстались. Выйдя в боковой коридорчик, я лицом к лицу столкнулся с Натальей Владимировной, давно знакомой мне женою Духонина. Обрадовавшись, как и я, неожиданной встрече, Наталья Владимировна начала жаловаться на судьбу.
— Вы не представляете себе, Михаил Дмитриевич, как я огорчена последним назначением мужа. Лучше бы он остался на прежней должности, хотя на Юго-Западном тоже не сладко…
До назначения в Ставку Духонин был генерал-квартирмейстером штаба Юго-Западного фронта, откуда его Алексеев и, перетащил в Могилев.
— Ведь Николаю Николаевичу прядется здесь очень туго, — продолжала Наталья Владимировна. — Вы отлично знаете, что политик он никакой. Так куда же ему братся за такое хитрое дело, как штаб верховного?
Я согласился с опасениями Натальи Владимировны я, обещав завтра же навестить ее, поспешил отыскать генерала Алексеева, собравшегося в Смоленск. По словам Духонина, он переехал уже из Ставки на квартиру своей замужней дочери, живущей на одной из тихих улочек города, и, видимо, прямо оттуда направится на вокзал.
У Алексеева я застал старого, лет под семьдесят, чеха, оказавшегося известным чешским националистом Массариком. Насколько я знал, Массарик при поддержке Временного правительства формировал чехословацкий легион из военнопленных, оказавшихся в России. Легион этот или корпус, как его тогда называли, спустя восемь месяцев после моего случайного знакомства с Массариком поднял развязавший гражданскую войну контрреволюционный мятеж.
Будущий вдохновитель этого мятежа, причинившего мне немало огорчений, приветливо поздоровался со мной, И ни мне, ни ему не подумалось, что очень скоро мы окажемся смертельными врагами. Не мог представить себе я и того, что этот старенький, ничем не примечательный с виду чех окажется год спустя первым президентом буржуазной Чехословацкой республики.
Конфиденциальное, «на дому», свидание Массарика с Алексеевым красноречиво говорило о том, что бывший начальник штаба не собирается покинуть политическую арену, хотя и подал для вида в отставку. Но недооценивая сложной игры, которую вел Массарик, я этого не понял.
Когда я пришел, ведущиеся больше намеками и полный недомолвок разговор подходил к концу. Насколько я мог сообразить, речь шла о восстановлении боеспособности русской армии.
– Я вас уверяю, что месяца через четыре русская армия будет восстановлена, — с непонятно серьезным лицом уверял гостя Алексеев. — И если учесть, что к этому времени превосходство Антанты над блоком центральных держав станет совершившимся фактом, то понятно, какую роль сыграем и мы…
Я удивленно воззрился на обычно скрытного и неразговорчивого генерала. Да что он, шутит, что ли? Или решил поиздеваться над чехом?
Только много времени спустя я понял, что, говоря о восстановлении боеспособности русской армии, Алексеев имел в виду ту реставрацию монархии, которая и являлась основной целью организованного им «белого движения» на юге России.
Массарик ушел, и мы остались наедине. В личных отношениях со мной, да и со многими другими людьми, ничего хорошего от него не видевшими, Алексеев бывал неизменно любезен и предупредителен. Все такой же грубоватый внешне, похожий больше своими маленькими глазками, носом картошкой и седыми, но все еще лихо закрученными усами на выслужившегося фельдфебеля, он участливо выслушал мои жалобы на военную беспомощность Керенского и сам начал сетовать на трудности, которые новый «главковерх» создал и для него самого.
Я знал цену внешнему участию Алексеева. Но влияние, которое имел Алексеев на своего безвольного преемника, показалось соблазнительным, и я решил попробовать хоть через него убедить Духонина. Я считал, что, несмотря на тяжелые условия и продолжавшийся в войсках развал, армии Северного фронта все-таки могут закрепиться на Западной Двине и, создав прочную оборону, держаться до тех пор, пока на англо-французском фронте не произойдет долгожданный разгром немцев. Зная, насколько истощена Германия, я не сомневался в неминуемой победе союзников. Был уверен я и в скором вступлении в войну Соединенных Штатов Америки с их мощными и еще не тронутыми промышленными ресурсами.
Согласившись со мной, Алексеев сказал:
— Да это черт знает что, обрекать такого деятельного генерала, как вы, на полное бездействие. Но это система Керенского, он не терпит около себя генералов, пользующихся доверием войск. Всех, кого можно было, он уже удалил с постов; а уж набирает… — он сделал выразительную паузу и, дав волю охватившему его негодованию, продолжал: — Взять хотя бы этого негодяя Черемисова. Его давно следовало выгнать из армии, а Керенский назначил его главнокомандующим Северного фронта. Каково, а? Но этого мало! Проклятый адвокатишка хотел во что бы то ни стало продвинуть Черемисова и дальше. На мое место. Сюда, в штаб верховного. Поверите ли, Михаил Дмитриевич, мне стоило большого труда заставить его отказаться от этого дикого назначения и согласиться на Духонина.
— Мне думается, Михаил Васильевич, что Ставка настолько потеряла свое значение, — возразил я, — что назначение сюда Черемисова принесло бы меньше вреда, нежели неминуемый по его вине развал Северного фронта.
— Ничего не наделаешь. Армии у нас нет, а Керенский этого не понимает, как ничего не смыслит и в самом военном деле, — сказал Алексеев и, подумав, прибавил: — Сегодня вечером я увижу Керенского и предложу вашу кандидатуру на пост командира XLII отдельного корпуса в Финляндии… Вместо убитого солдатами генерала Орановского… Думаю, что выторгую для вас у главковерха права командующего армией и соответствующее содержание, — соблазняя меня высоким окладом, предложил он.
Я поблагодарил, но наотрез отказался, хотя ничто так не тяготило меня, как длительное бездействие. Предполагаемая высадка немцев в Финляндии и возможность нанести им первый удар делали для меня назначение в корпус заманчивым. Но генерал-губернатором Финляндии был тогда Некрасов — это не могло меня не пугать. Думец и кадет, занимавший прежде во Временном правительстве посты то министра путей сообщения, то финансов, он успел уже вооружить против себя и местное финское население и солдат. Я знал, что не уживусь с ним, и откровенно сказал Алексееву, что в случае моего назначения в корпус начну с ареста Некрасова. Не радовало меня и то, что в случае перевода в Финляндию я окажусь в подчинении у Черемисова, которого считал недостойным его высокого, поста.
— Пожалуй, я устрою вам права командующего отдельной армией, — сказал мне в ответ Алексеев.
Я не мог понять, почему Алексееву так хочется устроить мое назначение в Финляндии, и, только сообразил, что он по каким-то особым своим соображениям стремится удалить меня из Ставки, выдвинул еще один довод против моего назначения. Балтийский флот, без которого нельзя было бороться против ожидавшейся десантной операции германской армии, находился в подчинении Северного фронта, и передать его в мое распоряжение Временное правительство, конечно, не согласится.
Доводы мои подействовали, и Алексеев обещал мне не возбуждать перед Керенским вопроса о столь нежелательном для меня назначении.
На следующий день часов в девять вечера я оказался в толпе, собравшейся около вагон-салона Алексеева. Провожавших набралось порядочно, преимущественно из чинов Ставки. Знакомые с Алексеевым «домами» вошли в вагон. Вошел и я.
— С Керенским я так и не говорил относительно вас, — сказал мне на прощанье Алексеев. Это было правдой, и на некоторое время меня оставили в покое.
Примечания
{35} Хабалов Сергей Семенович (1858-1924). Генерал-лейтенант из уральских казаков. Окончил Михайловское артиллерийское училище и Академию генштаба. Был наказным атаманом Уральского казачьего войска. В 1916-1917 гг. — начальник Петроградского военного округа и командующий его войсками.
{36} А. Керенский. Дело Корнилова.
{37} Некоторые из них, как, например, Первый пулеметный полк, были расформированы после июльских дней.
{38} Деникин. Очерки русской смуты, т. II.
{39} Характеристика генерала Духонина субъективна. Автор видит в нем человека, слепо шедшего за генералом Алексеевым. На самом деле Духонин являлся одним Из видных участников контрреволюционного заговора генералов-белогвардейцев, группировавшихся вокруг Ставки (Ред.).
Глава четырнадцатая
Нравы «послефевральской» Ставки. — Религиозный психоз Дитерихса. — Могилевский Исполком. — Меня прочат в генерал-губернаторы. — Могилевский гарнизон. — Прибытие арестованного Деникина. — С депутацией у Керенского.
Управления штаба, совсем не по-походному устроившиеся в давно обжитых помещениях, и внешним видом наводнявших их офицеров, военных чиновников и солдат и медлительным и спокойным характером ежедневных занятий почти ничем не отличались от довоенных учреждений подобного рода.
Февральский переворот не изменил привычного распорядка; упростился лишь этикет, заведенный при последнем царе придворными и свитой.
Служебный день начинался в десять часов утра и продолжался до обеда, который подавался с часу. После обеда чины штаба собирались на вечерние занятия. Этим-то, собственно, и отличался распорядок военного времени от мирного. Вечерние занятия продолжались недолго, и только в особо важных случаях в Ставке засиживались допоздна.
Как и прежде, офицерское собрание находилось в помещении кафе-шантана, в свое время открытого при лучшей в городе гостинице «Бристоль». В «Бристоле», как и до свержения самодержавия, жили чины военных миссий, союзников.
Бывший кафе-шантан являл собой просторный зал с небольшой сценой. Около сцены перед постоянно опущенным занавесом поперек зала стоял стол, предназначенный для высших чинов Ставки и приезжавших в Могилев генералов. Кроме него, в зале было еще несколько столов, за которые садились по чинам. Порядок этот был заведен еще при царе и строго соблюдался — каждый мог сесть только на раз навсегда отведенное ему место.
Мое место оказалось за главным столом. Справа от меня сидел генерал Гутор, бывший главнокомандующий Юго-Западного фронта, слева — генерал Егорьев, интендант при верховном главнокомандующем.
Приходившие в собрание чины Ставки и прибывшие по делам генералы и офицеры приносили с собой всевозможные слухи; все как бы жили от обеда до обеда, неизменно обеспечивавшего нас свежими и часто достоверными новостями.
Сидя, например, рядом с генералом Егорьевым и изо дня в день разговаривая с ним, я вскоре начал представлять себе то катастрофическое продовольственное положение, в котором оказалась армия. Продовольственные запасы, предназначенные для войск, таяли с непостижимой быстротой, новых никто не делал. Из ежедневных разговоров в собрании я мог убедиться и в том, с какой стремительностью падает в войсках дисциплина. Рушились надежды не только на возможность каких-либо наступательных операций, но и на то, чтобы удержаться в занятом расположении. Одолевавшее армию дезертирство приняло невероятные размеры. Многие части переставали существовать, не испытав ни малейшего натиска противника. Иные разложились и превратились в толпы вооруженных людей, более опасные для своих начальников, нежели для неприятеля. Все время передавались слухи о насилиях над офицерами, и хотя истории эти особенно охотно смаковались чинами штаба, положение командного состава, действительно стало несладким.
Все чаще и чаще приходилось слышать в собрании разговоры о том, что войну продолжать нельзя и пора подумать о заключении мира любой ценой.
Немало разговоров в собрании было посвящено и возможным выступлениям могилевского гарнизона против «царской контрреволюционной Ставки». Обедающие изощрялись в самых фантастических догадках. Особенно беспокоил чинов Ставки расквартированный в городе «георгиевский» батальон, сформированный из солдат, награжденных георгиевскими крестами и медалями. Батальон этот почему-то считался большевистским. Однако когда заходила речь о якобы подготавливаемом в городе еврейском погроме, то и тут в качестве вдохновителей его называли солдат-георгиевцев.
Такого же рода провокационные слухи распускались и в предоктябрьском Петрограде. Провокация эта была не в новинку; воспользовавшись произведенным ударниками и юнкерами разгромом дворца Кшесинской, где до июльских дней находилась военная организация большевиков, желтые и эсеро-меньшевистские газеты подняли вой по поводу якобы обнаруженных там черносотенных и погромных листовок.
Сильное беспокойство вызывала в Ставке и быстрая большевизация Могилевского Совета и Исполкома, еще недавно «соглашательских». Зато общеармейский исполнительный комитет не вызывал опасений даже у впадающего в мистику монархиста Дитерихса.
Возглавлявшийся штаб-капитаном Перекрестовым, состоявший из двадцати пяти членов, выбранных еще в начале лета, комитет этот имел меньшевистски-эсеровское большинство и не только не противопоставлял себя Ставке, но охотно штемпелевал любые ее распоряжения. Перекрестов был ярым противником большевиков и легко находил общий язык с Духониным и Дитерихсом.
После обеда чины Ставки, разделившись на небольшие группы, гуляли по городу, покупали яблоки и груши, щедро уродившиеся в пригородных садах, любовались Днепром, на редкость красивым в эти погожие дни, и, наконец, не спеша отправлялись посидеть часок — другой в уютно обставленном служебном кабинете.
Те, кто, как я, был обречен на ничегонеделанье, коротали остаток дня каждый по-своему. Я обычно навещал кого-нибудь из прежних сослуживцев, а затем возвращался к себе и заканчивал день за чтением военной литературы, накопившейся у меня за годы войны и хранившейся в неотлучно следовавшем за мной сундуке.
Порой по вечерам я заходил к Духонину узнать о положении дел на фронтах. Иногда он сам посылал за мной, чтобы посоветоваться по какому-либо служебному делу, особенно если речь шла о Северном фронте, на котором генерал Черемисов успел уже создать полную неразбериху.
В разговорах с Духониным мы не касались политики, на этот счет между нами существовало молчаливое соглашение. К надвигавшейся на страну социалистической революции, приближение которой чувствовалось во всем, мы относились по-разному: я с нетерпением ждал замены Временного правительства опирающейся на народные массы и близкой им властью; Николай Николаевич мечтал о том, чтобы болтливого Керенского заменил Алексеев или сидевший в быховской «тюрьме» Корнилов.
Переубедить меня было трудно; разубеждать консервативного Духонина мне не хотелось, да и не удалось бы.
Порой при встречах моих с Духониным присутствовал Дитерихс. В этих случаях я еще решительнее уклонялся от политических разговоров, не желая выслушивать Дитерихса.
У него был свой «пунктик» — великий князь Михаил Александрович. Маленький, какого-то серовато-стального цвета, с бегающими глазами и крохотными усиками на нервном худом лице, Дитерихс как-то вычитал в Апокалипсисе, что Михаил «спасет» Россию, и с тех пор носился с этой маниакальной идеей.
В 1916 году он командовал в Салониках посланным туда русским корпусом. Не помню уже, как он попал обратно в Россию и неожиданно для всех сделался генерал-квартирмейстером Ставки. После Октября он бежал во Францию и оттуда пробрался в Сибирь, к Колчаку. В эта время, как мне рассказывали, в мозгу его возникла новая «идея» — Дитерихс решил, что он — чех, надел чешскую форму и довольно долго якшался с офицерами мятежного чехословацкого корпуса.
После захвата белыми Екатеринбурга Дитерихс вместе со следователем Соколовым был послан Колчаком для расследования обстоятельств расстрела последнего русского царя. Несколько позже, окончательно впав в религиозное помешательство, он прославился своим бредовым выступлением на организованном японскими оккупантами «народном собрании» Приморья. Заявив, что он послан в Приморье непосредственно самим господом-богом, Дитерихс предложил переименовать приморскую белую армию в земскую рать, а генералов, в том числе и себя, — в воевод. Для того, чтобы собрать нужные для создания земской рати деньги, он открыл в Приморье игорные дома, доходы от которых и должны были пойти на освобождение России от «ига» большевиков.
Сумасшедшая идея Дитерихса с треском провалилась, и он бежал от Красной Армии сначала в Японию, а затем в Китай. В Шанхае французские покровители сумасшедшего генерала устроили его кассиром во Франко-Китайский банк; вскоре он умер.
Больная психика Дитерихса явственно проступала в его поведении уже и тогда, накануне Октября. Но порой мне не очень нормальными казались и Духонин и другие высшие чины Ставки — до такой степени они не понимали того, что происходит в стране.
Штабное окружение порядком меня раздражало, и я переехал из комнаты, которую занял поначалу в самом штабе, в гостиницу «Франция».
Несколько времени спустя ко мне в номер постучался незнакомый вольноопределяющийся. Отрекомендовавшись членом общеармейского комитета при Ставке, он показал мне телеграмму Псковского Совета, в которой на все лады расхваливался мой демократизм и уменье работать в Совете.
— А не поработать ли вам, ваше превосходительство, у нас в комитете? — предложил комитетчик.
К этому времени у меня уже установился довольно правильный взгляд на общеармейский комитет; никакого желания входить с ним в общение у меня не было, и я вежливо отклонил предложение вольноопределяющегося, сославшись на занятость и недомогание.
Но неожиданное посещение это натолкнуло меня на мысль, бог весть отчего не приходившую мне в голову раньше: «А почему бы мне не связаться с Могилевским Советом и Исполкомом и не попытаться хоть там найти применение моим силам и военному опыту?»
В Ставке делалось все тревожнее, Могилевский Совет «левел», и между ним и штабом «верховного» образовалась неизменно расширявшаяся пропасть. В собрании поговаривали о намечающемся в Совете аресте многих штабных чинов; не так давно еще верный Ставке «георгиевский» батальон начал колебаться; заселенная рабочими и беднотой заднепровская часть города — Луполово уже влияла и на Совет, и на Исполком.
За спокойствие в Могилеве и благополучие Ставки я не отвечал. Не беспокоила меня в моя личная безопасность — я давно научился не думать о ней. Но мне не хотелось, чтобы в Совете всех нас, принадлежавших к ненавистной Ставке, мерили одним аршином, и в конце сентября, повинуясь больше какому-то инстинкту, я перешел Театральную площадь, на которой находилась моя гостиница, и оказался в Исполкоме Могилевского Совета.
О моей работе в Пскове здесь уже знали, вероятно, из той же телеграммы, которую показывал мне солдат от общеармейского комитета. Во всяком случае, меня, несмотря на мои генеральские погоны, встретили на редкость дружелюбно и приветливо.
Я высказал желание поработать и тут же получил встречное предложение: кооптироваться в состав Исполкома. Товарищи, с которыми я говорил, обещали мне на следующий же день решить этот вопрос.
27 сентября решение Исполкома о моей кооптации было вынесено на обсуждение Могилевского Совета рабочих и солдатских депутатов. Вопрос решен был открытым голосованием. Ни одна из рук нескольких сот солдат-фронтовиков и рабочих не поднялась против, и я, старорежимный генерал, был растроган до слез.
Я не заигрывал с солдатами, как это делали после февральского переворота иные генералы и офицеры, испугавшиеся расправ с ненавистными командирами. Не лебезил я и перед рабочими, но не ощущал и какого-то своего превосходства над всеми этими людьми, часто на редкость умными от природы и многому научившимися на долгом своем житейском опыте. Я не давал им его чувствовать и обращался с ними, как равный. Вероятно, это и создало мне в Псковском Совете такое прочное положение.
Соскучившись по работе, я с азартом набросился на новые свои обязанности; как это имело место и в Пскове, работа моя в Совете вызвала всякие толки и пересуды в той генеральской и офицерской среде, в которой я все еще вращался.
Большинство чинов штаба осуждало меня. Те из них, кто заискивал перед Советами, завидовали легкости, с которой я вдруг сделался членом Исполкома. Другие готовы были усмотреть в моем вхождении в Исполком измену общему делу, понимая под ним попытку насадить в России военную диктатуру.
При рассмотрении наиболее важных вопросов Исполком совещался по фракциям; наиболее многолюдней была фракция эсеров; на втором месте стояли меньшевики; на третьем — бундовцы. Самой малочисленной фракцией была большевистская; беспартийных в Исполкоме было вместе со мной человека три.
Побывав на заседаниях Исполкома, я убедился, что предметом наибольших его забот и опасений является Ставка. На каждого из чинов Ставки в Исполкоме имелась политическая характеристика, за поведением и связями их тщательно наблюдали, о контрреволюционных замыслах многих из них не без основания догадывались.
Постоянную тревогу Исполкома вызывали и быховские «узники». В здании бывшей женской гимназии близкого к Могилеву захолустного городка Старого Быхова собралась и впрямь подозрительная компания: генералы Корнилов, Романовский, Лукомский и другие участники провалившегося мятежа. О том, что делается в Быхове, Исполком узнавал от взвода «георгиевского» батальона, несущего внешний караул здания и усадьбы, где содержались «арестованные» корниловцы.
Считая, что «быховцы» находятся в распоряжении Временного правительства, Исполком в царившие в Старом Быхове порядки не вмешивался, но с каждым днем все больше настораживался.
Очень скоро я втянулся в работу Исполкома, дежурил, исполнял отдельные задания, был делегирован в городской продовольственный комитет, участвовал в совещаниях у губернского комиссара и как-то оторвался от Ставки. Я знал, однако, что там творится неладное. Из органа оперативного управления войсками штаб верховного главнокомандующего все явственнее превращался в некий политический центр, подготавливавший контрреволюционный переворот, и я был рад, что, перекочевав в Исполком, не несу ответственности за всю эту темную деятельность.
В середине октября я зашел к Духонину и с огорчением узнал, что Керенский решил назначить меня генерал-губернатором Юго-Западного края с постоянным пребыванием в Киеве. Я откровенно изложил Духонину свои предположения относительно неизбежного краха, ожидавшего в самое ближайшее время и Керенского и Временное правительство.
— У меня нет, Николай Николаевич, ни малейшего желания сражаться за Керенского, — прибавил я. — И я вас очень прошу сделать так, чтобы в Ставке не занимались больше вопросом о моем назначении…
— Насчет Керенского вы правы, — согласился Духонин, — он долго не продержится. Но тогда вам надо включиться в то дело, ради которого Лавр Георгиевич до сих пор торчит в Быхове…
Ограниченный Духонин все еще не понимал происшедшего во мне перелома и так и не представлял себе, почему я, немолодой уже русский генерал, нахожу общий язык с Советом.
Он обещал мне устроить так, чтобы Керенский не думал больше о моем использовании, но не прошло и недели, как сам же сообщил мне, что сделавшийся военным министром Верховский предполагает назначить меня Степным генерал-губернатором в Омск.
— О вас уже и приказ заготовлен, — предупредил меня Духонин, — придется вам на этот раз согласиться…
Еще меньше, чем прошлый раз, мне хотелось превратиться в генерал-губернатора правительства, которое я не ставил ни в грош. Можно было выйти в отставку, но для кадрового военного такой шаг всегда мучительно труден…
На мое счастье, как раз в эти дни на устраиваемое в Ставке какое-то особо важное совещание специальным поездом прибыло сразу три министра Временного правительства; Керенский, Верховский и сын киевского сахарозаводчика Терещенко, невесть почему сделавшийся министром иностранных дел.
Полковника Верховского я давно и хорошо знал;
В Академии генерального штаба он, тогда еще поручик, был моим учеником. Поэтому я решил перехватить его в штабе «верховного» и уговорить отменить заготовленный приказ.
Просидев часа два у дверей кабинета Духонина, в котором совещались министры, я дождался, наконец, Верховского и, поздоровавшись, сказал:
— Вы, Александр Иванович, предполагаете назначить меня в Омск генерал-губернатором края. Я достаточно поработал во время войны, втянулся в военное дело и не имею ни малейшего желания и склонности заниматься чисто гражданскими делами, а тем более в Омске. Очень прошу никуда меня не назначать.
Я остановился, чтобы перевести дух, и закончил угрозой подать в отставку.
Верховский молча выслушал меня и, не проронив ни слова, пожал мне руку и заторопился к выходу.
В Ставке возрастала тревога. Штабным чинам мерещились всякие ужасы; порой доходило и до курьезов.
Как-то рано утром ко мне в гостиницу прибежал от Духонина дежурный ординарец и попросил поскорее прийти в кабинет, начальника штаба.
Поспешно одевшись, я вышел из гостиницы и очутился в огромной толпе, захлестнувшей Театральную площадь и улицу, ведущую к Ставке. Понять, в чем дело, было трудно — толпа шумела, волновалась, бурлила. Присмотревшись, я увидел, что на улицу высыпала преимущественно еврейская беднота.
Спустя несколько минут я узнал, что дня два назад в Могилеве умер пользовавшийся огромной известностью в крае старый раввин. На торжественные похороны его съехались многие евреи даже из отдаленных городишек и местечек. Обросшая огромным количеством провожающих траурная процессия с гробом покойного раввина и двигалась теперь к еврейскому кладбищу.
Кое-как растолкав толпу, я опередил процессию и, добравшись до губернаторского дома, прошел в кабинет Духонина. Николай Николаевич стоял у окна и растерянно смотрел на толпу, заполнившую до отказа не только мостовую, но и тротуары.
— Глядите, — дрогнувшим голосом сказал Духонин, показывая на траурную процессию, — они идут громить Ставку.
— Что вы, Николай Николаевич, — поспешил я его успокоить, — это местные евреи хоронят своего раввина.
Вооружившись биноклем и разглядев над толпой гроб, Духонин успокоился.
— Если бы вы знали, как мучительно все время жить в ожидании чего-то страшного, — признался он.
Похороны популярного раввина неожиданно сказались на моей судьбе. Основательно перетрусив, Духонин уговорил Керенского назначить меня начальником могилевского гарнизона. Назначение это ставило меня в довольно щекотливое положение: делаясь начальником гарнизона города Могилева, я одновременно принимал и гарнизон Старого Быкова.
Корнилова и его сподвижников охраняли конные сотни Текинского полка, преданного мятежному генералу, и только на наружных постах стояли солдаты «георгиевского» батальона. Сила была на стороне текинцев, побегу Корнилова, захоти он его предпринять, никто бы не помешал. Порядок окарауливания «быховцев» был установлен следственной комиссией, приезжавшей из Петрограда. Принимать на себя ответственность за Корнилова, не имея права сломать порочную систему охраны, я не мог. Не хотелось мне и встречаться с прежними моими сослуживцами и товарищами по Академии генерального штаба в столь разном положении: они — арестованные, я — начальник гарнизона.
Я попросил Духонина подчинить гарнизон Быхова не мне, а особому коменданту. Духонин согласился, Керенский подписал приказ, составленный в этом духе. Комендантом Старого Быхова с подчинением непосредственно Духонину был назначен полковник пограничной стражи Инцкервели, называвший себя правым эсером; я же принял могилевский гарнизон.
В состав могилевского гарнизона входили Ставка со всеми ее многочисленными учреждениями и командами, «георгиевский» батальон, 1-й Сибирский казачий полк и несколько ополченческих дружин, сформированных для несения караульной службы.
Вступив в исполнение своих новых обязанностей, я прежде всего объехал все части и команды гарнизона, В отличие от Пскова они оказались в превосходных для военного времени условиях — Ставка не скупилась и делала многое для гарнизона, рассчитывая подкупить его этими подачками.
Несмотря на генеральские заботы, особой подтянутостью гарнизон похвалиться не мог. Хуже всего обстояло с караульной службой, вконец разлаженной.
Являясь одновременно и начальником гарнизона и членом Исполкома, я взял гарнизон в руки; казаки, хотя и не без ворчания, подтянулись и начали ревностно нести караульную службу; количество всякого рода происшествий, резко сократилось; пьяный солдат стал редкостью…
С обязанностями начальника гарнизона я справлялся неплохо, но зато оказался никудышным политиком и спустя некоторое время совершил грубую ошибку, о которой до сих пор жалею.
После провала корниловского мятежа в Бердичеве были арестованы главнокомандующий Юго-Западного фронта генерал Деникин, начальник его штаба генерал Марков и несколько других военных. После продолжительного содержания на гарнизонной гауптвахте арестованных, забрасываемых грязью, под свист и улюлюканье солдат провели по городу и, погрузив в товарный вагон, привезли в Старый Быхов.
Один из сопровождавших Деникина конвоиров, солдат какого-то саперного полка, в тот же день вернулся из Быхова в Могилев и явился в Исполком. По требованию этого солдата в здании бывшей городской думы был созван Могилевский Совет.
Никогда еще его заседание не было таким многолюдным и бурным. Председательствующий предоставил первое слово сапёру, и тот очень быстро воспламенил своей горячей речью солдат и рабочих, набившихся в обширный думский зал.
— Для чего, скажем, дорогие товарищи, мы сюда Деникина и Маркова привезли? — спрашивал он и сам же отвечал: — Ясное дело для чего: чтобы они, голубчики, после гауптвахту и товарного вагона отдохнули. Корнилов, Лукомский и все прочие генералы у вас на мягких постелях спят, едят что твоей душеньке угодно и каждый день вполпьяна ходят, а мы своих генералов совсем забижаем, на голых нарах спать заставляли, на солдатский харч посадили. Вот уж спасибо вам, дорогие товарищи, что научили нас, как с генералами следует обращаться. То есть по всей тонкости деликатного обращения, — издевался он над могилевскими порядками.
В одном деле, дорогие товарищи, вы малость сплоховали — продолжал сапер. — Охраны у генералов маловато, один Текинский полк приставлен. А вдруг генералов кто обидит? — издевательски вопрошал он. — А вдруг кто-нибудь самого Корнилова ненароком заденет? Тогда что? За такие дела вас и главноуговаривающий господин Керенский по головке не погладит. Опять же, говорят, у Корнилова ни кофея хорошего нет, ни марципанов жареных ему не подают. Вот страсти-то, — под зычный хохот зала острил оратор.
Он едва сел на место, как на трибуну один за другим начали подыматься солдаты и наперебой требовали снятия с охраны арестованных Текинского полка, замены его «георгиевским» батальоном и установления в Быхове тюремного режима.
Некоторые ораторы требовали ликвидации «быховского сиденья» и предлагали текинцев послать на фронт, арестованных же генералов перевести в могилевскую, тюрьму.
Много позже я понял, как правы были все эти не очень грамотные, нескладно говорившие солдаты. Не прошло и месяца, как Корнилов, предварительно отправив на Дон переодетых генералов, поблагодарил одураченных «георгиевцев» за исправное несение караульной службы и вместе с преданным ему Текинским полком бежал из Быхова.
Пребывание в Быхове было использовано Корниловым для того, чтобы сколотить штаб будущей белой армии. Находясь «под арестом», он непрерывно переписывался с Алексеевым и Калединым, принимал связных монархических и офицерских тайных организаций и на глазах у соглашательского Могилевского исполкома подготовлял кровопролитную гражданскую войну на юге России.
Победи предложение сапера, Корнилов и все его сподвижники оказались бы в могилевской тюрьме, и уже одно это обезглавило бы подготовленную ими южнорусскую контрреволюцию.
Попросив слова, я сумел, к сожалению, переубедить собрание.
— Все арестованные генералы, содержащиеся в Быхове, находятся в распоряжении Временного правительства, — повторил я давно избитый довод. — Дело его, этого правительства, установить степень вины «быховцев» и воздать каждому по заслугам.
Ссылки мои на авторитет правительства, которые я в грош не ставил; призыв сохранить порядок, который мог быть только контрреволюционным; разговоры о необходимости тщательного следствия, хотя и без него была очевидна вина «быховцев», — вся эта лживая аргументация имела успех. Я был в ударе, в Совете уже доверяли мне, и, как ни печально, речь моя прошла под одобрительные возгласы и аплодисменты.
— Конечно, товарищи, силы наши и Корнилова неравны, – закончил я. – У него четыре конных сотни, у нас в Быхове всего один взвод верного Совету батальона. Но текинцы не укомплектованы и по численному составу их сотня не превышает взвода «георгиевцев». Если мы подошлем в Быхов еще три взвода «георгиевского» батальона, то силы уравновесятся, и мы сможем спокойно спать — ни Корнилову, ни остальным генералам не удастся уйти от суда…
Мое половинчатое предложение было на беду принято. Керенский в этот день находился в Ставке; решено было, чтобы три тут же выбранных делегата, в том числе и я, немедленно прошли в штаб верховного главнокомандующего и вручили ему принятую Советом резолюцию. Ответ Керенского делегаты должны были доложить собранию, решившему не расходиться.
Добравшись до Ставки, мы прошли в ту самую комнату, в которой я жил по приезде в Могилев. Теперь ее занимал «генерал для поручений» при Керенском, артиллерийский полковник Левицкий, один из моих учеников по Академии генерального штаба.
Рассказав Левицкому о решении Совета и показав принятую резолюцию, я попросил доложить Керенскому о нашем приходе.
— Господин верховный главнокомандующий отдыхает, и будить его я не осмеливаюсь, — зашипел на меня Левицкий, и странно было видеть, как офицер генерального штаба в погоне за мифической карьерой пресмыкается перед выскочкой-адвокатом.
Я продолжал настаивать и мы долго бы еще препирались, если бы Левицкий, пробежав куда-то в глубь здания и тотчас же вернувшись, не сказал тоном опытного царедворца:
— Господин верховный главнокомандующий заболел и принять вас не сможет…
Я вручил Левицкому для передачи «главковерху» резолюцию Совета и предупредил, что за ответом мы придем завтра к десяти утра.
Солдаты вышли, я замешкался в комнате, и Левицкий, чтобы сгладить неприятное впечатление, доверительно шепнул мне:
— Это все, ваше превосходительство, после вчерашнего ужина. И выпивона. У меня самого, знаете, голова раскалывается…
Догнав своих товарищей по делегации, я вернулся в думу и доложил все еще заседавшему Совету о результатах посещения Ставки. Порядком уставшее собрание решило поручить Исполкому добиться ответа от Керенского и разошлось.
Никакого ответа Керенский, конечно, не дал и предпочел, как это делал всегда, исчезнуть из Могилева.
Позже в своих мемуарах он переоценил эту скромную мою попытку упорядочить охрану Быховской «тюрьмы».
«Не могу не вспомнить,- писал он{40}, — что в Быховской тюрьме все время, пока я был главковерхом, генерала Корнилова охраняли не только солдаты, но и его личный конвой из текинцев, тех самых, вместе с которыми и с пулеметами он приезжал ко мне в Зимний дворец. Такая двойная охрана была создана председателем следственной комиссии для того, чтобы сторожить Корнилова не только от побега, но и от солдатского самосуда. Помню, как настойчиво травила меня за это левая пресса и как будущий попуститель дикой расправы с Духониным генерал Бонч-Бруевич являлся ко мне во главе депутации от местного «совдепа» с требованием «убрать текинцев из Быхова» и усилить охрану Корнилова. Я был возмущен такой ролью генерала русской службы. Я хотел убрать его из Ставки, но чистый и честный Духонин заступился за него. Такова судьба!» — глубокомысленно заключил бывший «главковерх», переврав все, что было, и не поняв того, что в этом случае я действовал, увы, не в интересах приближавшегося Октября.
Приписал мне заслуги, которых у меня не было, и генерал Деникин.
«Переведенный в Ставку большевистский генерал Бонч-Бруевич,- рассказывал он{41}, — назначенный начальником могилевского гарнизона, на первом же заседании местного Совета солдатских и рабочих депутатов сказал зажигательную речь, потребовав удаления текинцев и перевода быховцев в могилевскую тюрьму и с этим требованием во главе депутации явился к Керенскому…»
Деникина я знал еще поручиком, когда в 1895 году был в одном с ним классе в Академии генерального штаба. Он и тогда был беспринципным и бестактным человеком, с большим сумбуром в голове и редким служебным честолюбием, и мне понятно, что поведение мое в предоктябрьские дни он изобразил с наибольшей для себя выгодой — вот, мол, от какой опасности ушел.
Переврал все и Керенский — ему мучительно хотелось представить себя спасителем обманутого им Корнилова.
Но правда остается правдой, сколько бы ее ни искажали и ни заглушали. И я счастлив, что сейчас на склоне лет могу рассказать ее моему взыскательному читателю.
Примечания
{40} А. Керенский. Дело Корнилова.
{41} Деникин. Очерки русской смуты, т. 1
Часть вторая.
Героические годы
Глава первая
Ставка в дни Октябрьского штурма. Бегство Керенского и вступление Духонина в должность верховного главнокомандующего. Объявление Духонина «вне закона». Низкопоклонство перед Антантой. Переговоры по прямому проводу с братом и отказ от поста верховного главнокомандующего. Появление Станкевича. Тайные переговоры в номерах «Франция». Предложение «верховного комиссара». Политические «старатели», их бегство из Могилева.
О падении и аресте Временного правительства в Могилеве узнали из газет. С внешней стороны в городе как будто ничего не изменилось. Шли обычные занятия в Ставке, Могилев оставался в прежнем своем полусне.
Но таково было лишь внешнее впечатление. На самом деле Ставка принимала самое активное участие в борьбе с начавшейся революцией. На следующий же день после вооруженного восстания в Петрограде Духонин разослал всем главнокомандующим фронтов телеграмму, в которой писал:
«Ставка, комиссарверх и общеармейский комитет разделяют точку зрения правительства и решили всемерно удерживать армию от влияния восставших элементов, оказывая в то же время полную поддержку правительству».
Всю неделю Духонин не расставался с Дитерихсом и вместе с ним сидел на прямом проводе, пытаясь подтянуть «надежные» части к восставшему Питеру и к Москве, в которой все еще шла ожесточенная борьба за власть. Для борьбы с большевиками Ставка мобилизовала и ударные батальоны и донское казачество, и лишь капитуляция Краснова и бегство из Гатчины переодетого сестрой милосердия Керенского заставили Духонина отказаться от задуманного им совместно с полусумасшедшим Дитерихсом «крестового похода» против большевиков.
В свою лихорадочную деятельность Духонин меня не посвящал, и о ходе революции я мог судить лишь по газетам и по тем откликам, которые столичные события вызывали в Исполкоме.
Стало известно о каких-то переговорах с Викжелем{42}, которые вел поддерживавший Духонина общеармейский комитет; поговаривали о намерении Духонина перенести Ставку в Киев; начались неясные толки о том, что Ставка с согласия союзных держав намерена заключить сепаратный мир с Германией.
В связи с бегством Керенского Духонин, в соответствии со все еще действовавшим «Положением о полевом управлении войск», принял на себя обязанность верховного главнокомандующего.
Несмотря на все попытки превратить Ставку в центр вооруженной борьбы с Октябрьской революцией, Ставка оказалась не у дел. Началось бегство из Могилева всех, кто был поумнее. Верхи исчезли. Второстепенные чины притихли и только по инерции занимались текущими, уже никому не нужными делами.
Привычка к дисциплине удерживала от дезертирства. Но с каждым днем становилось все больше «внезапно заболевших» или подавших в отставку офицеров. Духонин никого не задерживал и, кажется, начал уже понимать, в какую трясину он проваливается.
– Образовавшийся в Петрограде Совет народных комиссаров в первые дни революции с Духониным не сносился и, минуя Ставку, обратился к воюющим державам с предложением мира. Не получив ответа на это обращение в течение двенадцати дней, Народный комиссариат по иностранным делам передал послам союзных стран ноту, в которой предлагал немедленно заключить перемирие на всех фронтах и приступить к мирным переговорам. Духонину же было приказано обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением приостановить военные действия.
Об обращении нового правительства к Духонину я узнал от него самого. Как-то часов в шесть вечера Духонин позвонил мне по телефону и попросил немедленно прийти в штаб. Едва я вошел к новому «главковерху», как в кабинете его появился и генерал Гутор, вызванный одновременно со мной.
— Вот что я получил от нового правительства, — сказал Духонин и протянул телеграмму. В телеграмме этой ему предписывалось заключить перемирие на всех фронтах.
— А вот что я ответил, — сказал Духонин, прочитав собственноручно написанную им телеграмму,
В ответе «главковерха» содержался категорический отказ от заключения перемирия. В нем же Духонин писал, что не может выполнить предписания правительства, которого не признает.
— Что вы на это скажете? — спросил нас Духонин, кончив читать. В кабинете, кроме нас троих, не было никого.
— По-моему, Николай Николаевич, — начал я, заговорив первым, — если даже вы и не признаете нового правительства, то все равно дали неправильный ответ. Совершенно ясно, что продолжать войну мы не можем. В России нет воли к войне, нет боеспособной армии, нет снаряжения и продовольствия. Перемирие явилось бы выходом из создавшегося положения. И, наконец, прежде чем давать такой ответ, надо было бы запросить фронты и действующие армии. Я уверен, что все ответили бы согласием на перемирие.
— Но что же делать? Телеграмма уже передана, — растерянно сказал Духонин. На него было жалко смотреть. Обычно тщательно выбритый и безупречно одетый, он был теперь какой-то запущенный и сонный, — должно быть, давно уже не высыпался.
— А ваше мнение? — обращаясь к Гутору, со слабой надеждой спросил Духонин.
Гутор разочаровал его, целиком согласившись с высказанными мною доводами.
— Да, заварилась каша. Что-то теперь будет? — вздохнул Духонин, расставаясь с нами.
Мы с Г утором вернулись в гостиницу и допоздна не спали, обсуждая опрометчивый ответ Духонина, гибельный для него же самого.
Вскоре после отказа Духонина подчиниться Совету народных комиссаров, в Могилеве стало известно, что из Петрограда непосредственно армиям, минуя сопротивляющуюся Ставку, предложено заключить перемирие с противником. Переговоры с неприятелем могли вести даже мелкие части. Одновременно столичные газеты сообщили, что Духонин объявлен «вне закона».
Вслед за распоряжением Совета народных комиссаров о заключении перемирия в Ставку посыпались донесения с фронтов: части покидали позиции, вступали в переговоры с противником. Немцы продвигались вперед, занимая районы, оставленные самовольно отходящими полками и дивизиями…
Организованное перемирие представлялось мне единственным выходом, но я считал совершенно обязательным удержать при этом занимаемый русской армией фронт. Только это давало возможность разговаривать с немцами с достаточной твердостью. Я знал состояние армии и полагал, что удержаться на заранее намеченных позициях все же возможно. Но на фронте об этом и думать не хотели. Армия стремительно разлагалась. Не только солдаты, но и офицеры жили только одним желанием: скорее бы конец войне! Началось самочинное отступление, и нельзя было не прийти в ужас от одной мысли о том, какое огромное и бесценное имущество остается неприятелю.
Все в Ставке понимали, что армия не может воевать. Но когда даже в доверительном разговоре я спрашивал у любого штабного собеседника, что же делать, то получал нелепый ответ: да, воевать нельзя, но нельзя и выходить из войны.
— Да почему же нельзя? — настойчиво допытывался я.
— А что скажут союзники? — следовал обычный ответ. Получалась заведомая чепуха. С начала войны Россия не раз самоотверженно выручала союзников, умышленно отвлекая на себя основные силы противника. Союзники отлично понимали, что России нечем воевать, нечем стрелять, нечем даже кормить солдат. По вине союзников Россия не получила обещанного ей вооружения и снаряжения. Так какого же черта нужно бояться мнения тех, для кого мы всю войну были только дешевым пушечным мясом?
Со мной соглашались, охотно поругивали союзников и ровно через минуту начинали повторять давно набившие оскомину ссылки на то, как отнесутся к нашему перемирию с противником господа англичане или французы.
Все поведение Духонина было проявлением такого же трусливого низкопоклонства. Будь в нем хоть немного настоящего патриотизма, он не отверг бы предложения Совета народных комиссаров о перемирии, а, наоборот, немедленно заключил бы его с австро-германцами и постарался любой ценой удержать на месте лавину стихийно откатывавшихся русских войск.
Не прошло и двух дней после памятного разговора с Духониным, как меня вызвали к прямому проводу. Было далеко за полночь; говорил из Петрограда мой брат, Владимир Дмитриевич, назначенный, как я знал из газет, управляющим делами Совета народных комиссаров.
На телеграфе было холодно и темновато, усталый телеграфист вяло перебирал клавиши буквопечатающего аппарата и, запинаясь, читал ленту. Брат сообщил мне, что Духонин смещен, и от имени нового правительства предложил принять пост верховного главнокомандующего.
— Правительство желает видеть тебя во главе русской армии, — добавил Владимир.
Я попросил его дать мне два часа на размышление и вернулся к себе во «Францию». Неприветливый номер в гостинице средней руки был мной изучен до мелочей — не одну бессонную ночь провел я, тоскливо разглядывая давно небеленный потолок и отставшие в углу обои. Я присел за шаткий ломберный столик, неизвестно зачем поставленный в номере, и постарался сосредоточиться.
Переданное братом предложение Совета народных комиссаров глубоко взволновало меня. Но служба на высоких военных должностях и связанная с ней ответственность за судьбу сотен тысяч находящихся в твоем распоряжении людей приучили меня ничего не решать сразу, а сначала продумать все «за» и «против», попытаться заглянуть в будущее, взвесить, наконец, собственные силы и честно понять, на что ты способен и за что можешь взять на себя ответственность.
Обстановка на фронтах, насколько я знал, была ужасающая: Румынский фронт с генералом Щербачевым во главе совершенно отложился от русской армии и даже перестал поддерживать связь со Ставкой; Юго-западный, Западный и Северный фронты потеряли боеспособность. Войска не исполняли приказов. Общая линия боевого фронта, обозначенная окопами и проволочными заграждениями, как будто оставалась прежней, но только потому, что противник, выжидая исхода Октябрьской революции, не спешил продвинуться в глубь России, занятый к тому же переброской войск во Францию. Самочинный уход с фронта превращался уже в стихийную демобилизацию армии.
Продумав все это, я пришел к выводу, что ни на какие военные действия с такой армией рассчитывать невозможно. Нельзя надеяться и на удержание фронта, если противник хотя бы и незначительными силами перейдет в наступление. При таком положении во главе армии должен стать не боевой генерал, которому некуда приложить свои знания и опыт, а политический деятель, представитель пользующейся доверием народа партии. И, конечно, если бы я вдруг взялся за управление русской армией, то это было бы только самообманом и обманом доверившегося мне правительства.
В назначенное время я был на телеграфе. Вызвав к проводу управляющего делами Совета народных комиссаров, я изложил все эти доводы и отказался от принятия верховного командования.
— Пойми, что все равно фронты, привыкшие действовать самочинно, не признают этого назначения, — адресуясь к брату, продиктовал я телеграфисту.
— Передали? — спросил я, когда телеграфный аппарат прекратил выбивать свою частую дробь.
— Так точно, передал, господин генерал, — ответил телеграфист, и в глазах его я прочел сожаление о том, что я отказался от такого предложения. Я представил себе на минуту обросшее черной бородой лицо брата. Вероятно, на нем в эту минуту появилась сердитая гримаса: при редких наших встречах Владимир неизменно порицал меня за отсутствие научно-обоснованного миросозерцания и идеалистический уклон.
Утром я рассказал Духонину о сделанном мне предложении и моем отказе.
— Зря вы это сделали, Михаил Дмитриевич, — огорченно сказал Духонин. — Вы не представляете, как бы вы облегчили мое положение, если б вместо меня вступили в обязанности «верховного»…
Я понял, что Духонин готов на все, лишь бы избежать заслуженной расплаты, и, хотя по-человечески мне и было жалко его, жестко сказал:
— Не мной ваше дело осложнено и запутано, не мне его и распутывать!
В тот же день в Могилеве стало известно о назначении Советом народных комиссаров нового верховного главнокомандующего. Назначен был известный уже мне по газетам видный большевик Крыленко, прапорщик 7-го Финляндского полка. То, что на такой высокий военный пост выдвинут прапорщик, никого уже не удивило — Керенский был «верховным», хотя не имел никакого отношения к военной службе.
В ожидании приезда нового «главковерха» в Ставке по-прежнему сидел Духонин. Ставка таяла; ушел в отставку даже Дитерихс, в последнее время окончательно сбивший с толку «верховного» своими мистическими советами. Но и с заботливо выправленными документами о «чистой» отставке, заручившись и следующим чином и пенсией, он продолжал торчать то в кабинете Духонина, то в его личных комнатах, ревниво оберегая «верховного» от посторонних влияний и все еще навязывая свои губительные идеи.
Новым в Могилеве было резко усилившееся влияние большевиков в Совете и в Исполкоме. Общеармейский комитет сохранял свой прежний меньшевистско-эсеровский облик, но с ним перестали считаться, и он начал постепенно рассасываться, как поддавшаяся лечению зловредная опухоль. Стало на редкость тихо и в Ставке. Некоторое оживление вносили лишь обеды в «Бристоле» с непрестанным гаданием о будущем.
Но наряду с исчезновением из поля зрения примелькавшихся физиономий штабных генералов, офицеров и вольноопределяющихся из общеармейского комитета в собрании и в той же «Франции» появились приезжие из «деятелей» бесславно провалившегося Временного правительства.
Еще в начале октября неожиданно для себя я встретил в Ставке старого знакомого — комиссара Северного фронта Станкевича. Он поспешил сообщить мне о своем новом высоком назначении — верховным комиссаром в Ставку.
По своему обыкновению, Станкевич исчез из Ставки в решающие дни, предшествовавшие Октябрьской революции. Исчезновение его мне нетрудно было обнаружить — верховный комиссар жил во «Франции». Наши комнаты были в одном коридоре.
После падения и бегства Керенского Станкевич вновь объявился в Ставке. Вскоре в двух номерах, занимаемых бывшим верховным комиссаром во «Франции», появились эсеровские лидеры Чернов, Авксентьев и Гоц, известный меньшевик, бывший министр труда Скобелев и еще несколько волосатых и бородатых человек такого же эсеро-меньшевистского толка и вида. Приезжие все время заседали, что-то решали, о чем-то до хрипоты спорили, На одном таком заседании пришлось побывать и мне. Зайдя к Станкевичу, я задержался и сделался, если не участником, то свидетелем нескончаемых прений. Насколько помнится, речь шла о том, какими силами защищаться Ставке в случае похода на нее со стороны большевиков.
На других заседаниях я не был, но до меня доходили разговоры о том, что предположено организовать правительство во главе с Черновым и противопоставить его Совету народных комиссаров.
В одну из последующих моих встреч со Станкевичем я был поражен оказанным мне вниманием. Проявив непонятную предупредительность и всячески обхаживая меня, Станкевич в конце концов раскрыл свои карты и напрямки спросил меня, не соглашусь ли я принять пост начальника штаба Ставки с тем, чтобы Духонин остался верховным главнокомандующим.
Разговор этот происходил в номере Станкевича и имел место спустя несколько дней после того, как я отказался от переданного мне братом предложения Совета народных комиссаров. Разгадать ход, который делал Станкевич, было нетрудно, — дав согласие, я тем самым усилил бы лагерь врагов нового правительства в Ставке, ибо за мной был гарнизон. Понятно, не могло быть и речи о том, чтобы я согласился. Но мне очень хотелось выведать у Станкевича истинные мотивы сделанного мне предложения, и я с таким видом, словно принял его всерьез, придал разговору нужное направление.
«Верховный комиссар» оказался стреляным воробьем и многого недоговаривал. И все-таки мне стали понятны планы и его и всей подозрительной публики, постоянно толпившейся в накуренных комнатах Станкевича. Предполагалось, опираясь на антибольшевистские партии и офицеров Ставки и гарнизона, дать решительный бой большевикам при первой же их попытке захватить Могилев.
— Видите ли, господин комиссар,- сказал я, глядя в упор на Станкевича, чтобы приметить, как изменится выражение его хитрого лица, — если я займу пост начальника штаба Ставки, то во всяком случае, оставлю за собой полную свободу действий и не соглашусь войти в подчинение группе собравшихся в Могилеве политических деятелей.
Станкевич метнул в меня злой взгляд и недовольно замолчал. Должно быть, он передал мой ответ Духонину, и тот снова вернулся к разговору о том, не соглашусь ли я его заменить.
— Вскоре в Ставку прибудут «ударные» батальоны. А уж это по нынешним временам не только реальная, но и большая сила, — как бы вскользь сказал мне Духонин.
Мне, что называется, «повезло». Неожиданно для меня, мне стали делать всевозможные заманчивые предложения даже те, на кого я меньше всего рассчитывал. Вскоре после разговора со Станкевичем я как-то встретил около бывшего губернаторского дома бог весть зачем приехавшего в Могилев бывшего «генерала для поручений» при Керенском полковника Левицкого.
— Отчего вы не возьмете все дело в свои руки? — с подчеркнутой радостью поздоровавшись со мной, спросил он.
— Да хотя бы оттого, что и дела-то собственно нет, — грубовато ответил я. — Остались одни развалины, да и те скоро развеет в прах…
Становиться на защиту Временного правительства я не собирался. В провале керенщины я видел избавление моей родины от окончательного развала и анархии. Только твердый порядок мог спасти государство. Возврата к прошлому не было; единственной силой, которая, как мне казалось, могла вывести страну из тупика, были захватившие власть большевики. Я не представлял еще себе, что очень скоро не за страх, а за совесть буду работать с ними; но никакой другой политической партии, которой бы верили народные массы, я не видел, и только смешными казались притязания на власть всех этих политических «старателей» типа Чернова и Станкевича, как воронье слетевшихся в доживавшую свои последние часы Ставку. Впрочем, всем им хватило ума в ночь на 20 ноября поспешно сбежать из Могилева — к нему на всех парах шли восемь вооруженных эшелонов, посланных Советом народных комиссаров.
Примечания
{42} Викжель (Всероссийский исполнительный комитет Железно» дорожного профессионального союза) — контрреволюционный эсеро-меньшевистский орган, выступавший в октябре 1917 года против Советской власти.
Глава вторая
Могилевский совет берет власть. Студент Гольдберг. Генеральские развлечения. Попытка Ставки перебраться в Киев. Пьяные ударники. Приезд Одинцова. Последняя ночь старой Ставки. Освобождение «быховцев». Я вызван к главковерху Крыленко. Смерть Духонина. Рассказ матроса Приходько. Я вступаю в должность начальника штаба верховного главнокомандующего.
В один из ноябрьских дней представители фракции большевиков заявили на заседании Могилевского Совета, что берут власть в свои руки. Кадеты, эсеры и меньшевики в знак протеста вышли из состава Совета и Исполкома. Но депутатов, числившихся в соглашательских партиях, было гораздо больше, нежели действительных их сторонников, и Совет и Исполком особенно не поредели. Многие к тому же остались в Совете не из сочувствия; к большевикам, а лишь для того, чтобы в решающие дни не оказаться между двух стульев.
Особыми талантами могилевские большевики, не имевшие в городе до недавнего времени даже самостоятельной организации, похвастаться не могли, пока в Могилев не приехал такой выдающийся деятель большевистской партии, как покойный Мясников.
В первые дни после происшедшего в Могилевском Совете «переворота» в нем начал верховодить являвшийся членом Исполкома студент Гольдберг. По молодости и политической незрелости он был немыслимо шумен, криклив и задирист. Власть пьянила его, и даже мне при всем моем долготерпении нелегко было с ним поладить.
— А вы генерал, согласны остаться начальником гарнизона? — с обидной небрежностью в тоне спросил он меня, едва приступив к новым для него обязанностям председателя Исполкома.
— Да, Гольдберг, я останусь, — умышленно называя его только по фамилии, ответил я.
— Ну что ж, оставайтесь, — опешив, сказал Гольдберг. Он надеялся, что старорежимный генерал окажется покладистым и даже подобострастным, как иные «бывшие» люди.
Но, независимо от вызывающего поведения Гольдберга, я все равно не отказался бы в эти дни от должности начальника гарнизона. Важно было найти верный тон с солдатами, а я, как мне казалось, делал это неплохо. Гарнизон так или иначе выполнял мои распоряжения, и это давало возможность предотвращать ежечасно назревающие столкновения и готовую вот-вот начаться на улицах резню.
Большинство офицеров Ставки притаилось и старалось не давать повода к провокации. Но среди молодых офицеров находилось немало таких, которых только чудо спасало от солдатского самосуда. Одетые с отвратительным фатовством, со стэками в руках, эти последние представители «золотой петербургской молодежи» одним своим видом вызывали негодование солдат. Даже на меня, привыкшего к подобным типам, они производили самое отвратительное впечатление. Особенно отличались в этом отношении братья Павловы, гвардейские офицеры. Их арестовывали, пытались даже обвинить в сношениях с поляками, и все только потому, что уж очень дико было видеть на улицах военизированного сурового города, да еще после революции, столичных пшютов, вооруженных моноклями и по-французски изъясняющихся в любви к свергнутому монарху. Но и среди старших чинов Ставки находились такие монстры, которые делали вид, что не замечают революции, и это в то время, когда большевистские эшелоны уже подходили к Могилеву.
Почти накануне прибытия в Могилев первых эшелонов вновь назначенного главковерха Крыленко, поздно ночью, часов около четырех, я возвращался домой с заседания Исполкома. Уши и щеки покалывал морозец; фонари почти не горели; стояла глухая тишина. Только в одном из переулков наискось от здания, в котором помещался Исполком, пыхтели автомобили и переминались с ноги на ногу, похлопывая по себе руками, озябшие шоферы. Из окон дома, около которого дежурили машины, лился яркий свет, доносились гулкие звуки рояля.
Я вспомнил, что в доме этом проживает почтенный генерал инженерных войск Величко, и огорчился — трудно было придумать более неподходящее время для подобных журфиксов.
Досада моя была тем ощутимее, что я все еще находился под впечатлением ночного заседания. Заседание шло бурно, решался вопрос о том, как встретить надвигавшиеся на Ставку эшелоны. Мне стоило многих усилий добиться решения, исключавшего всякую возможность кровавых столкновений, и я не мог не увидеть в несвоевременной генеральской вечеринке проявления той бестактности, которая могла дорого обойтись не одному Величко…
Только я улегся в постель, чтобы использовать оставшиеся до утра три — четыре часа, как в номер мой постучали. За дверью оказался вестовой генерала Величко, торопливо передавший мне просьбу «самого» — зайти к нему на квартиру.
Обеспокоившись, не ворвались ли в необычно освещенную квартиру генерала возвращавшиеся с расширенного заседания Исполкома солдаты, я поспешно оделся и через несколько минут находился уже у Величко.
Большая генеральская квартира была полна напомаженными и надушенными офицерами, огромный, обильно сервированный стол ломился от вин и водок, одетые по-бальному дамы сверкали брильянтами, звенели шпоры, слышался смех и возбужденные голоса.
— Извините, что я вас потревожил, — не очень твердо подошел ко мне генерал, — мы вот… я и… ну, эти… как его… мои гости… словом, все… просим объяснить, что значит… сей дурной… сон? Какие-то эшелоны… неведомые войска… наступают на Могилев, а мы тут… — он начал ловить руками воздух и тяжело сел на подставленный стул.
Первой мыслью моей было повернуться и уйти. С какой стати я должен был разъяснять этой крепко подвыпившей офицерской компании, как недостойно и глупо ее поведение. Но благоразумие взяло верх, и, коротко рассказав о том, что восемь эшелонов матросов, солдат и красногвардейцев двинуты из Питера для разгрома мятежной Ставки, я еще скупее сказал, что нужные меры приняты.
— Однако, господа, можно ждать всякого, и тем безобразнее этот пир во время чумы, — закончил я и двинулся к выходу. Слова мои подействовали; я не дошел еще до угла, как из генеральской квартиры посыпались сразу протрезвевшие гости.
Меры, о которых я упомянул, успокаивая генеральских гостей, сводились к решению Исполкома послать навстречу большевистским эшелонам депутацию и заверить нового главковерха, что ни о каком вооруженном сопротивлении ни Ставка, ни могилевский гарнизон не помышляют.
Одновременно Исполком запретил и 1-му Сибирскому полку и «георгиевскому» батальону заниматься какими-либо боевыми приготовлениями. Боясь, что казаки все-таки что-нибудь натворят, Исполком еще через день выдворил их с моей помощью из города и заставил походным порядком двинуться в Жлобин.
Все шло относительно благополучно, но приходилось быть начеку. На следующее утро после заседания Исполкома я отправился по какому-то делу к коменданту Ставки и был несказанно удивлен представившимся мне зрелищем. У здания Ставки прямо на улице штабные писаря укладывали в ящики пишущие машинки и бесчисленные папки с делами. Вокруг стояла густая толпа, состоявшая преимущественно из солдат «георгиевского батальона». Часть из них была вооружена.
— В Киев драпают,- послышалось в толпе.
— Слабо им против матросов выстоять,- прибавил второй.
— А я бы их благородия давно на цугундер взял. Нет такого приказу, чтобы увозить Ставку, — сказал третий.
Потоптавшись в толпе и наслушавшись угроз по адресу Ставки, я торопливо прошел к Духонину и выяснил, что штаб собрался переезжать в Киев. Настоял на этом Станкевич. Духонин же по свойственному ему слабоволию не захотел перечить.
Не стал он спорить и со мной, особенно после того как, подозвав его к окну, я показал на непрерывно растущую и уже принявшую грозный вид толпу.
Отменив свое распоряжение о переезде Ставки, Духонин сказал, что особенно беспокоиться нет надобности, так как в Могилев прибыли «ударные роты», в том числе и рота капитана Неженцева, известного нам обоим по Академии генерального штаба.
— Вы напрасно вводите в гарнизон новые часта и делаете это без моего ведома, — сердито возразил я Духонину.
— Да я не нарочно, — начал оправдываться Духонин. — Все это делалось так спешно…
Он объяснил мне, что рота Неженцева уже прибыла и расположилась в пустующих казармах. Я решил не терять времени и вместе с комендантским адъютантом поехал в знакомые казармы.
Я вошел в роту и, тщетно подождав положенного рапорта, послал адъютанта за фельдфебелем. Мимо меня время от времени проходили отдельные «ударники». Вид у них был разухабистый, держались они нагло и вызывающе. Исполнявший обязанности фельдфебеля унтер, наконец, явился и неохотно и только после моего напоминания отдал рапорт. Прикрикнув на него, я прошел в помещение роты и увидел солдат, валявшихся на грязном полу, часто даже без соломы. Многие из них были пьяны.
Едва я распек угрюмого унтера и приказал достать койки, походную кухню и продукты, как появились дежурный и дневальный. Дежурный даже попытался рапортовать…
Провозившись часа полтора в казарме, я отправился к себе в гостиницу и по пути встретил таких же пьяных и разнузданных солдат. Оказалось, что, кроме роты Неженцева, прибыла и вторая. Послав туда для наведения порядка комендантского адъютанта, я занялся другими гарнизонными делами.
Вечером ко мне в номер постучался какой-то полковник. Отрекомендовавшись командиром бригады «ударников», он доложил, что приступает с утра к укреплению окраин города.
— Никаких сражений ни на подступах к Могилеву, ни в самом городе не предполагается,- сердито сказал я, выслушав непрошеного «спасителя». — «Ударные части» будут удалены из Могилева, вам нечего здесь делать.
Полковник опешил и поспешил ретироваться. Больше я в городе его не встречал. Но надо было избавиться и от пьяных «ударников». Еще до прихода полковника, по моему настоянию, в Исполком были вызваны комитеты прибывших рот.
Явившись с большим опозданием и не очень твердо держась на ногах, они кое-как объяснили, что роты присланы для защиты Ставки. После небольшой перепалки с «ударниками» Исполком единогласно решил удалить их из города и, выбрав специальную «тройку», с ее помощью уже ночью погрузил обе роты в вагоны.
Едва я расстался с полковником из «ударной» бригады, как появился коридорный и сказал, что меня спрашивает какой-то приезжий генерал. Приезжий оказался старым моим сослуживцем по Киевскому округу генералом Одинцовым, и мы встретились, как старые знакомые.
– Я прибыл на специальном паровозе. По приказанию главковерха Крыленко, — сказал мне Одинцов, когда я спросил его о цели неожиданного визита. Он рассказал мне, что первые эшелоны прибудут завтра днем. Вслед за ними на станции Могилев сосредоточатся еще пять эшелонов: матросы, запасный гвардейский Литовский полк и красногвардейцы.
Я только что был у Духонина и попытался узнать от него, каковы местные настроения, — продолжал Одинцов. — Но Николай Николаевич посоветовал мне поговорить с вами.
Боясь, что в гостинице нас могут подслушать, я предложил Одинцову пройти в неподалеку расположенную Ставку и там переговорить обо всем. Он согласился. Мы дошли до бывшего губернаторского дома, поднялись на второй этаж и закрылись в обширном голубом зале, входившим в анфиладу комнат, которые занимал в Ставке Николай II, а потом и падкий на императорские апартаменты Керенский.
Я сказал Одинцову, что Ставка и гарнизон больше всего хотят мирного разрешения конфликта.
— Для меня это — большая новость, — удивленно ответил генерал. — В эшелонах считают, что Ставка приготовилась к обороне, и ждут неизбежных боев.
Я рассказал, что 1-й Сибирский полк выведен из Могилeвa, что “ударные роты” вот-вот будут удалены, и заверил Одинцова что ни один выстрел не раздастся в городе без провокаций со стороны кого-либо из прибывающих с эшелонами.
Одобрив наше решение, генерал сказал, что и сам считает ненужным применять оружие. Я полагал, что разговор наш на этом закончится, но Одинцов задержал меня и неожиданно предложил принять от Духонина должность начальника штаба Ставки.
— Товарищ Крыленко вас очень просит об этом, — сослался он на нового верховного.
— Николай Николаевич исполняет обязанности не начальника штаба, а самого “верховного”. Следовательно, принять от него дела должен сам Крыленко, — возразил я, как всегда верный своей старой штабной привычке: не допускать ни малейшего отклонения от уставов и действующих положений.
— Зря, Михаил Дмитриевич, вы становитесь на такую формальную точку зрения, — укорил меня Одинцов и обещал переговорить с Крыленко.
Я попросил генерала передать новому главковерху мой совет и просьбу — не вводить прибывающие части в город, а двинуть их в Жлобин против поляков. В Могилеве я предлагал оставить лишь самое ограниченное количество солдат, матросов и красногвардейцев.
Закончив разговор, мы спустились в первый этаж губернаторского особняка и вдвоем прошли в кабинет Духонина.
— Договорились? — спросил Духонин.
— Относительно, — неопределенно сказал Одинцов. — Впрочем, по самому главному вопросу имеется полная ясность: эшелоны, по-видимому, войдут в Могилев без боя.
— Ну и слава богу, — облегченно вздохнул Духонин.
— Остается только решить вопрос о вашей встрече с Крыленко, — продолжал Одинцов. — Завтра он сам приедет в Ставку, и вам, Николай Николаевич, придется подождать его здесь же, в кабинете…
— Слушаюсь, — сказал Духонин и, повернувшись ко мне, попросил: — Я позвоню вам по телефону и скажу, когда здесь будет новый главнокомандующий. И вы очень меня обяжете, Михаил Дмитриевич, если будете присутствовать при нашем первом разговоре.
Одинцов попрощался и вернулся на вокзал, чтобы на том же паровозе выехать навстречу эшелонам. Я остался с Духониным. Мы сели на стоявший у стены диван и некоторое время сидели молча.
— Что они со мной сделают? — нарушив тягостное молчание, спросил Духонин.- Убьют?
В глазах его был написан ужас, и мне не легко было ответить на заданный им вопрос. Ничего завидного в положении смещенного главковерха не было, фальшивить и лгать я не умел.
— Я думаю, Николай Николаевич, — помедлив, сказал я, — что если завтра все пройдет так, как предположено, то вам придется поехать в Петроград и явиться в распоряжение Совета народных комиссаров. Вероятно, вас присоединят к арестованным членам Временного правительства. Это все же лучше, чем, находясь на свободе, считаться объявленным вне закона.
Я просидел с Духониным около часу и, чтобы помочь ему рассеяться и отогнать от себя мрачные мысли, занялся милыми сердцу воспоминаниями о совместной службе в Киевском округе. Увлекшись разговорами о прошлом, Николай Николаевич заметно повеселел. Наконец, часам к десяти вечера я собрался.
— До завтра! — сказал мне на прощанье Духонин, и мне и в голову не пришло, что я увижу его только в гробу.
Проходя через вестибюль штаба, я приметил, что на обычных постах вместо солдат «георгиевского» батальона стоят вольноопределяющиеся из общеармейского комитета.
— В чем дело? Почему заменены караулы? — спросил я у дежурного по штабу.
— Видите ли, ваше превосходительство, на георгиевских кавалеров особой надежды нет, — не сразу ответил мне дежурный, — а за этих, по крайней мере, сам Перекрестов ручается. И верховному с ними, конечно, куда спокойнее…
О том, как прошла последняя ночь Духонина, я могу судить лишь по чужим рассказам. Станкевич так описывает то, что произошло в Ставке после моего ухода{43}.
«Вопрос о сопротивлении как-то сам собою был снят. Вечером у Духонина собрались высшие чины Ставки, которые пришли к нему с решением, что ему необходимо покинуть Ставку, так как против него большевиками велась слишком усиленная личная кампания. Такое же решение вынес и общеармейский комитет. Я придерживался того же мнения, хотя по несколько иным соображениям. Независимо от целости технического аппарата Ставки мне казалось чрезвычайно важным сохранить в неприкосновенности от большевиков идею высшего командования армией, олицетворением которой был Духонин. Поэтому мне казалось необходимым, чтобы он ехал на один из южных фронтов, еще не окончательно разложившихся. Духонин, однако, колебался. Считая, что вопрос может быть разрешен еще на другой день я, около двух часов ночи отправился к себе.
Около пяти часов утра меня разбудил телефонный звонок: Духонин просил меня прийти к нему немедленно, так как им были получены весьма важные известия. Я был так утомлен, что пробовал было просить у Духонина разрешения прийти часов в 8 утра. Но Духонин настаивал, чтобы я пришел немедленно и захватил с собой председателя общеармейского комитета Перекрестова. Я тотчас оделся, нашел Перекрестова, и мы оба пришли к Духонину.
Было еще совсем темно. Духонин был измучен и бледен. На столе лежала, куча телеграмм. Из XXXV корпуса{44} сообщалась, что в нем разруха и о каком-либо сопротивлении большевикам не может быть и речи. Далее было известие, что большевистский эшелон стоит в Орше и утром предполагает двинуться дальше на Могилев. Далее была телеграмма от начальника 1-й Финляндской дивизии о том, что дивизия «решила» быть нейтральной и не препятствовать большевикам на пути. Кроме того. Духонин сообщил, что ночью у него была депутация ударников, которые поставили условием их дальнейшего пребывания в Могилеве разоружение георгиевцев, роспуск или даже арест всех комитетов и еще что-то явно ненужное и неисполнимое…”
Рассказав, что Текинский полк отказался защищать Ставку, Станкевич продолжает:
«Оставался выбор: или сдаться матросам, которые через несколько часов явятся в Могилев, или уехать. Я, конечно, настаивал на втором. Но Духонин возразил, что уехать невозможно уже просто потому, что в его распоряжении нет никаких средств передвижения. Гараж со вчерашнего дня был под влиянием большевиков из тайного военно-революционного комитета в Могилеве, который отдал приказ, чтобы ни один автомобиль не выезжал за пределы города. О поезде приходилось думать еще меньше, так как если бы даже удалось выехать из Могилева, то поезд был бы несомненно задержан в Жлобине, где стояла перешедшая на сторону большевиков дивизия.
Но я еще накануне в предвиденье такого положения дел принял некоторые меры. Я обеспечил приют Духонину в самом Могилеве и, кроме того, выяснил, что в городе, помимо штабного, имеется еще гараж эвакуированного Варшавского округа путей сообщения. Поэтому я предложил пройти вперед и уладить эти вопросы. Духонин же должен был выйти вслед за мной через четверть часа и в моем управлении встретить провожатого, который довел бы его или до автомобиля или до надежного помещения. Духонин продолжал колебаться. Но времени нельзя было тратить, так как днем самый выход из Ставки мог быть затруднителен. Духонин говорил, что его, собственный денщик следит за ним… Я оставил Раттэля, Дитерихса и Перекрестова убеждать Духонина, а сам отправился в гостиницу, где ночевал мой приятель и сотрудник Гедройц{45}. Я разбудил его и направил навстречу Духонину. Сам же я прошел к начальнику Варшавского округа путей сообщения доставать автомобиль. С трудом добудился. Но получил обещание, что к 9 часам автомобиль будет подан — раньше было невозможно, так как более ранние сборы могли возбудить подозрение. Совершенно случайно в моем распоряжении была печать Петроградского военно-революционного комитета. Поэтому я на всякий случай заготовил пропуск для автомобиля от имени этого комитета.
Около 8 часов я вернулся в гостиницу к Гедройцу и, к моему великому удовлетворению, застал там Духонина, Дитерихса и Раттэля. Перекрестов уже простился и отправился домой. Поездка была решена. И если бы автомобиль был готов, Духонин сел бы в него, и мы уехали бы. Но приходилось ждать. Духонина все время беспокоило, что на мосту{46} большевики поставят стражу и будут караулить. Но я был совершенно спокоен и уверял, что мы имеем перед собой для выезда из Могилева не менее двенадцати часов, а может быть, и целые сутки. Но неожиданно изменил свое мнение Дитерихс. До сих пор он так же убежденно доказывал необходимость отъезда Духонина, как и я. Тут же, в этой полуконспиративной обстановке, он почувствовал что-то противоречащее военной этике. И он уперся и настойчиво стал разубеждать Духонина. Мои возражения, что речь идет о дальнейшей борьбе, о сохранении идеи верховного командования и пр., он парировал указаниями, что Духонин не политический деятель и вне своей Ставки вести борьбы не может. Несмотря на серьезные колебания Духонина, Дитерихс убедил его немедленно вернуться в Ставку.
Я поставил им вопрос, как они считают: следует ли мне оставаться? Оба решительно возразили. Было решено, что Духонин немедленно после возвращения в Ставку протелеграфирует генералу Щербачеву{47}, что передает ему верховное командование. Поэтому мне следовало ехать на Румынский фронт.
Мы сердечно простились. Духонин натянул непромокаемую накидку, прикрывавшую его генеральские погоны, и вернулся в Ставку.
Через несколько часов, с большим, запозданием был подан автомобиль. В ту минуту, когда к Могилеву подходил большевистский эшелон, я переезжал днепровский мост, на котором, как я и ожидал, не было не только большевистской, но и вообще никакой стражи…”
Такова была последняя ночь Ставки. С утра и в ней и в городе было необыкновенно тихо — все ждали прибытия большевиков.
Поднявшись, как всегда рано, я поспешил в Исполком — там было пустынно. Из Исполкома я прошел в управление коменданта города и к часу дня вернулся к себе во “Францию”.
Около двух часов мне позвонил по телефону Духонин,
— Знаете, Михаил Дмитриевич, что я сделал? — сказал он. — Я распорядился выпустить быховских заключенных…
— Зачем вы это сделали? — потрясенный спросил я. — Вы и так уже окружены ненавистью солдат. «Быховцы» ушли бы и без вас — ведь их никто не охраняет, и хозяином в Быхове является сам Лавр Георгиевич. Но выпускать их — это значит самому лезть под топор. Ладно, — взяв себя в руки, уже спокойнее продолжал я, — того, что вы сделали, не исправишь. Но вам не нужна была эта лишняя ответственность.
— Ну, ничего не поделаешь! — характерным для последних дней обреченным тоном сказал Духонин и, пообещав позвонить мне снова, повесил трубку.
Часов в пять дня в мой номер, в котором в это время я, моя жена Елена Петровна, приехавшая из Петрограда, и генерал Гутор мирно пили принесенный коридорным чай, проникли с площади гулкие звуки военного оркестра. Я выглянул в окно и увидел тяжело шагавших матросов. Все они были, как на подбор: рослые, широкоплечие, в дубленых полушубках, но с привычными бескозырками на голове, с винтовками за плечами и в походных смазных сапогах вместо щеголеватых матросских ботинок. Вслед за матросами, держа равнение и даже печатая шаг, шла рота запасного лейб-гвардии Литовского полка, в который я попал еще безусым субалтерн-офицером.
Матросы и литовцы шли с вокзала и явно направлялись в Ставку.
«Господи, что-то будет?» — вздрогнул я и по привычке перекрестился.
Жена поняла; что происходит в моей душе, и тоже перекрестилась. Расстроился и генерал Гутор. О чае забыли и довольно долго не находили подходящей темы, чтобы хоть как-нибудь рассеять гнетущее состояние.
Часов в шесть вечера кто-то настойчиво постучал в дверь.
— Войдите! — крикнул я, и на пороге появился здоровенный матрос. Сбросив винтовку с ремня и небрежно стукнув прикладом об пол, он неприветливо спросил:
— Который тут генерал Бонч-Бруевич?
— Я — Бонч-Бруевич,- сказал я, осторожно освобождаясь от рук прильнувшей ко мне жены. — В чем дело?
— Товарищ Крыленко приказал вам явиться в Ставку. А я, стало быть, должен вас проводить,- пояснил матрос и добродушной улыбкой дал понять, что приставлен ко мне совсем не в качестве конвоира.
Должно быть, он заметил нервное движение Елены Петровны и, желая ее успокоить, изменил свой поначалу недоброжелательный тон.
Стараясь не сделать ни одного торопливого движения, я прицепил шашку и, облачившись в свою походную шинель, зашагал к Ставке.
Новый главковерх со своей небольшой, человек в пять, «свитой» остановился не в губернаторском доме, а рядом, в помещении управления генерал-квартирмейстера. Караулы в Ставке были уже заменены: на часах стояли солдаты Литовского полка. Меня беспрепятственно пропустили, вероятно, из-за моего провожатого.
Еще по пути в Ставку я размышлял над тем, почему вместо Одинцова, как было условлено, меня, да еще через посыльного матроса, вызвал Крыленко, и так не додумался до сколько-нибудь правдоподобного объяснения.
«Мало ли что бывает! Приду в штаб, узнаю»,- устав от бесплодных раздумий, решил я и спросил, где Крыленко.
— Да вон там, наверху товарищ Крыленко, — услужливо подсказал кто-то. Я начал подниматься на второй этаж.
Одетый в такой же, как я у матросов, короткий нагольный полушубок и потертую папаху, Крыленко ждал меня на лестничной площадке.
— Духонин убит! — не давая мне даже возможности представиться, сразу сообщил он. — Правительство народных комиссаров предлагает вам вступить в должность начальника штаба Ставки. Согласны? — спросил Крыленко и, не ожидая ответа, продолжал: — Ваш брат, Владимир Дмитриевич, многое о вас рассказывал, и никто из нас не сомневается в том, что мы сработаемся. Пойдемте!
Он распахнул дверь в пустующий кабинет генерал-квартирмейстера и, пропустив меня вперед, вошел, на ходу расстегивая полушубок.
Тело Духонина я видел в тот же вечер, но о подробностях учиненного над ним самосуда узнал много позже. Рассказал мне их матрос гвардейского экипажа Приходько, прибывший в Могилев в качестве коменданта поезда нового главковерха.
По его словам, Крыленко по приезде в Могилев ненадолго поехал в город. Приходько остался в поезде и занялся проверкой караула. Спустя некоторое время в вагон-салон вошел человек в штатском черном пальто с барашковым воротником и такой же тапке. Это был Духонин.
Комендант предложил ему подождать на что Духонин охотно согласился. Вскоре в вагон вернулся Крыленко, Генерал перешел к нему в салон, и они закрылись. О чем они говорили, Приходько не знал, так как оставался в коридоре.
Не прошло и получаса, как у вагона начали собираться матросы, солдаты и красногвардейцы из прибывших вслед за поездом Крыленко эшелонов. Образовалась толпа человек в сто. Из толпы посыпались угрожающие возгласы и требования чтобы Духонин вышел из вагона. Успокоив Духонина, Крыленко приказал коменданту сказать собравшимся у вагона, что бывший верховный находится у него, и ему совершенно незачем выходить.
Приходько на всякий случай ввел часового в коридор и приказал никого не впускать; сам же он снова вышел на площадку и начал уговаривать толпу.
Несколько матросов попытались проникнуть в вагон, но часовой прогнал их. Толпа все же не расходилась, и Приходько доложил об этом главковерху. Выслушав коменданта, Крыленко вместе с ним вышел из вагона и, обещав, что не отпустит от себя Духонина и поступит с ним согласно приказу Совета народных комиссаров, заставил толпу разойтись.
Еще через полчаса у вагона снова собралась толпа. Она была значительно больше первой и вела себя куда воинственнее и грубей. У многих были винтовки и ручные гранаты.
Один из наиболее настойчивых матросов забрался на площадку и все время порывался оттолкнуть часового и проникнуть в вагон. Приходько и часовой схватились с ним, поднялся шум, и на него вышел. Крыленко. Обращенные к толпе уговоры на этот раз почти не действовали. К Крыленко присоединился доктор поезда, но и его не стали слушать.
Тем временем часть матросов обошла вагон и забралась в тамбур, дверь в который была прикрыта, но не закрыта. Крыленко уже не слушали; его оттеснили и начали грозить ему расправой.
Когда шум и крики толпы превратились в сплошной гул, из коридора на площадку вагона неожиданно вышел Духонин и, встав на первую от верха ступеньку, сдавленным голосом начал:
— Дорогие товарищи…
Но тут кто-то всадил ему штык в спину, и он лицом вниз упал на железнодорожное полотно.
Установить, кто был убийца, не удалось. Тот же Приходько, хорошо знавший матросов, уверял, что это сделала уголовная шпана, примазавшаяся к ним…
В поднявшейся суматохе с Духонина стащили сапоги и сняли верхнюю одежду. Пропали и его часы и бумажник.
Находившаяся в толпе и подстрекавшая ее к самосуду подозрительная бражка, расправившись с Духониным, бросилась в город на поиски его несчастной жены. Она оказалась в церкви у всенощной, и эта случайность спасла ее от самосуда.
На следующий день простой сосновый гроб с телом Духонина был поставлен в товарный вагон и прицеплен к киевскому поезду…
Сделавшись первым советским начальником штаба Ставки, я с головой ушел в напряженную работу. Служба моя советскому народу началась, и лозунг «Вся власть Советам!», с которым восставший народ штурмовал Зимний дворец, сделался целью моей долгой жизни.
Примечания
{43} Станкевич. Воспоминания. Берлин, 1920 г.
{44} 35-й корпус стоял в районе г. Витебска и считался в Ставке наиболее надежным.
{45} Польский офицер.
{46} Мост через Днепр.
{47} Главнокомандующий Румынского фронта.
Глава третья
Разложение царской армии. Пороки принятой при царизме боевой подготовки. Генерал М. Драгомиров и боевая подготовка армии. Излишние призывы запасных. Большевистская агитация, в войсках. Комиссия по перемирию. Самоубийство полковника Скалона. Декрет о выборном начале и об организации власти в армии. Упразднение воинских чинов и званий. Мои разговоры, с Крыленко. Удручающие донесения с фронтов. Идея завесы. Приказ о ликвидации Ставки.
В обязанности начальника штаба верховного главнокомандующего я вступил 20 ноября 1917 года. Согласившись на предложение, сделанное мне Крыленко от имени Совета народных комиссаров я пребывал уже в убеждении, что для дальнейшего участия России в войне необходим полный пересмотр основ этого участия и, в частности, отношения к союзникам. Без такого пересмотра военный крах, по моему убеждению, был неизбежен. Между тем, союзники настаивали на том, чтобы Россия не выходила из войны.
Чтобы не впасть в ошибку, я решил тщательно проверить степень боеспособности армии. Это было не простым делом — Ставка все больше и больше теряла связь с фронтами и армиями, и составлявшиеся в Могилеве в бывшем, губернаторском доме сводки перестали отражать действительное положение вещей в войсках. И все-таки картина разложения и близкого конца царской армии была ясна.
Она начала утрачивать свою боеспособность еще в конце пятнадцатого года, когда подогретый широко распространенными газетами и изменой правых социалистических партий «патриотизм» первых месяцев войны сменился печальным раздумьем о целесообразности дальнейшего участия России в войне. Уже тогда, на втором году войны, не один офицер и солдат задумывался над тем, почему русская армия должна отказаться от собственного плана ведения военных действий и пускаться по требованию союзников в самые рискованные и заведомо ненужные предприятия.
Опытный младший и средний командный состав армии был в значительной части своей выбит в кровопролитных боях первого года войны. На смену ему пришли те самые прапорщики, о которых в народе язвительно говорили, что «курица не птица, а прапорщик не офицер», и так называемые офицеры военного времени, то есть штаб- и обер-офицеры, выслужившиеся во время войны, но не получившие нужной военной подготовки. Обе эти категории, несмотря на храбрость и другие достоинства, не умели воспитывать солдат и поддерживать в них тот порыв, без которого победа невозможна при любой технике и стратегии.
Старых, опытных в боях и в походах солдат в армии оставалось немного. В армию пришла молодежь, плохо подготовленная в запасных частях, очень нервная, излишне чувствительная к боевым потрясениям и зачастую резко настроенная против существующего режима.
Постоянная нехватка артиллерии, огнестрельных припасов и технических средств наглядно убеждала, многих в невозможности достигнуть боевого превосходства над противником. Наконец роковые неудачи так называемого карпатского похода 1915 года, закончившегося разгромом лучших наших корпусов, окончательно подорвали боевую мощь армии.
Значительная часть высшего командного состава русской армии не соответствовала требованиям, которые предъявляла к ним первая империалистическая война со всем тем новым, что в ней появилось: безмерно усилившейся артиллерией, впервые примененным химическим оружием, разведывательной и бомбардировочной авиацией, небывалой по своим масштабам позиционной борьбой и включением в ее орбиту нескольких десятков миллионов людей, чего ни одна предыдущая кампания не знала. К концу 1915 года многие высшие командиры, не научившись успешно действовать в современном бою, невольно выдохлись и уже не располагали ни знаниями, ни энергией. Принятая в армии очередность назначений не позволяла выдвигаться молодым — такое выдвижение, необходимое войскам, расценивалось как обход старших начальников.
К этому времени все отчетливее начали проявляться недочеты и пороки принятой в русской армии системы подготовки ее в мирное время. К великому несчастью страны, она сводилась преимущественно к индивидуальной подготовке солдата; кое-как готовили к войне средний командный состав и вовсе не обращали внимания на боевую подготовку воинских частей и соединений и, тем более, высшего командного состава. Верхи армии считали, что достигшему генеральского чина нечему и ни к чему учиться — он сам себе и закон, и устав, и военное искусство… Отлично знавший все беды русской армии М. Драгомиров тщетно настаивал на усиленной боевой подготовке целых войсковых частей — все его напоминания об этом оставались, лишь гласом вопиющего в пустыне…
Видную роль в падении боеспособности русской армии сыграл и непродуманный призыв в запасные части целого ряда возрастов, без мобилизации которых можно было обойтись. Военное министерство, не считаясь ни с емкостью запасных частей, ни с наличием вооружения и снаряжения, с непонятной ретивостью призывало в ряды армии возраст за возрастом и оголяло промышленность и сельское хозяйство страны. В совершенно невозможных часто условиях скучивались тысячи людей, оторванных от дома и привычного труда. Долгие месяцы все эти призванные в войска немолодые уже люди торчали в переполненных казармах, жили впроголодь, одевались черт знает во что и бездельничали — учить их военному делу было некому. Царское правительство как бы поставило своей целью внушить людям, которые еще не разуверились в войне, что продолжение ее — бессмыслица; что власти и сами не знают, что творят, когда гонят на призывные пункты рабочих и крестьян; что самую войну надо скорее кончать.
Упадочнические, а то и пораженческие настроения настолько усилились, что с каждым пополнением, приходившим на фронт, приносились и разговоры о необходимости скорейшего прекращения войны.
Мне трудно судить, какова была сила и влияние в войсках подпольных большевистских организаций. Занимаясь контрразведкой, я сторонился и избегал всякого соприкосновения с политическим розыском, ведшимся тогда в армии, и о деятельности революционных организаций знал лишь понаслышке. Но принятый большевистской партией ленинский курс на превращение войны империалистической в войну гражданскую бесспорно немало сделал для революционизации армии и до свержения царизма. После же февральского переворота большевистские организации в армии начали расти, как грибы после дождя, и большевистская агитация в короткий срок большевизировала подавляющее большинство солдат.
В те такие далекие уже времена я не имел ни малейшего представления о гениальном решении В. И. Ленина — не повторять ошибок Парижской коммуны и, руководствуясь великолепнейшим анализом этих ошибок, сделанных Карлом Марксом, безжалостно сломать после прихода к власти старую государственную машину, заменив ее сверху донизу пусть на первое время несовершенной, но преданной социалистической революции организацией. Это относилось не только к государственной власти, но и к таким основным ее атрибутам, как армия и флот. Это и выполнялось, хотя порою и пугало меня и казалось почти невыполнимым.
Бесславное падение Временного правительства положило конец преступной игре в «войну до полной победы», военные действия прекратились, солдаты сами приступили к «замиренью».
Наконец Советом народных комиссаров была образована комиссия по перемирию. В качестве военного эксперта в состав ее был включен находившийся при Ставке полковник генерального штаба Самойло. С Самойло мы вместе воспитывались. Сын врача Лефортовского военного госпиталя, он учился одновременно со мной в Константиновском межевом институте. В юнкерском мы стояли друг другу в затылок; я, как портупей-юнкер, командовал взводом, он — отделением. Дружеские отношения наши выдержали испытание добрых семидесяти лет, и судьбы ваши оказались схожи; подобно мне, Самойло заканчивает свои дни в высоком звании генерал-лейтенанта Советской Армии.
Наличие в комиссии по перемирию такого надежного друга, как полковник Самойло, вполне устраивало меня. Но я все же предпочел иметь в комиссии специального представителя и, использовав предоставленное мне право, назначил полковника генерального штаба Скалона. Выбор мой мог показаться парадоксальным — офицер лейб-гвардии Семеновского полка Скалон был известен в Ставке как ярый, монархист. Но работал он в разведывательном управлении, был серьезным и отлично знающим военное дело офицером и с этой точки зрения имел безупречную репутацию. К тому же мне казалось, что непримиримое его отношение ко всему, что хоть чуть-чуть было левее абсолютной монархии, должно было заставить его с особой остротой относиться к переговорам о перемирии и потому отлично выполнить мое поручение — подробно и тщательно осведомлять Ставку о ходе переговоров.
Тенденциозность и сгущение красок, к которым он мог прибегнуть, меня не смущали; я не верил в добрые намеренья немцев, предполагал, что они устраивают нам в Брест-Литовске ловушку, и предпочитал излишнюю тревогу благодушию и ненужному оптимизму. К сожалению, я не все учел. В последних числах ноября комиссия выехала для переговоров, но не прошло и нескольких дней, как полковник Скалон застрелился. Причины его самоубийства остались неизвестными. Но, судя по рассказам очевидцев, на Скалона произвели удручающее впечатление заносчивые требования, да и само поведение германского командования. Конечно, этот еще недавно блестящий гвардеец не мог видеть за начавшимися переговорами того, ради чего Ленин пошел на этот шаг. Ему, Скалону, как и всякому человеку его круга и мировоззрения, казалось невыносимым оказаться в зависимости от опьяненных легкой победой прусских милитаристов, и без того грубых и высокомерных. Как и многие, он считал, что Россия повержена в прах, и, не видя выхода, малодушно покончил с собой почти на глазах у членов комиссии по перемирию.
Самоубийство Скалона, разумеется, ничего не изменило. С 4 декабря 1917 года (по старому стилю) полномочными представителями высшего командования и правительств революционной России и Болгарии, Германии, Австро-Венгрии и Турции было продлено начавшееся уже 22 ноября перемирие, целью которого должен был стать «почетный для обеих сторон мир». Перемирий должно было продолжаться до 1 января 1918 года. Начиная с двадцать первого дня договаривающиеся стороны могли от него отказаться.
Еще до получения Ставкой окончательного текста договора о перемирии Крыленко дал пространную телеграмму в штаб Северного фронта, изложив в ней основные пункты договора.
Телеграммы этой Николай Васильевич не согласовал со мной, и я был немало этим обижен. И в телеграмме главковерха и в позже полученном тексте договора о перемирии говорилось о «русском верховном командовании», и мне казалось унизительным, что я, начальник штаба Ставки, не только не принимал никакого участия в переговорах, но и ничего о них не знал.
Служба моя у большевиков оказалась более трудной, чем можно было предполагать, хотя, Давая согласие Крыленко, я не строил себе на этот счет никаких иллюзий. Привыкнув в течение многих лет военной службы к точному кругу своих обязанностей и прав, я болезненно переживал каждый факт игнорирования моих вполне законных, как мне казалось, требований и претензий. Получалось неведомо что! С одной стороны, я был вторым после верховного главнокомандующего человеком в армии. С другой… этих «с другой» с каждым днем набиралось такое огромное количество, что скоро я устал нервничать и оскорбляться.
О том, что штаб Западного фронта заключил перемирие, я узнал со стороны, и уже одно это, в иных обстоятельствах заставило бы меня немедленно подать в отставку. Не только на Западном фронте, но и на всех остальных началась такая вакханалия неподчинения и «самостийности», что даже натренированные штабной службой нервы мои не выдерживали, и не покидавшая меня Елена Петровна не раз замечала на моих глазах слезы горечи и обиды. Основа основ штабной службы — составление регулярных сводок, без которых нельзя руководить войсками, превратилось в решение уравнений со многими неизвестными. Сколько-нибудь регулярные донесения посылались в Ставку только штабами Северного и Юго-западного фронтов. О положении дел на остальных фронтах можно было судить лишь по сводкам, случайно поступавшим от того или иного армейского штаба.
Огромная власть, которую якобы давало мне мое высокое назначение, таяла в моих руках. Я все острей чувствовал свое бессилие и, пожалуй, до сих пор не пойму, что все-таки удержало меня тогда от ухода из Ставки.
Скорее инстинктом, чем разумом, я тянулся к большевикам, видя в них единственную силу, способную спасти Россию от развала и полного уничтожения. Нутром я верил Ленину и не то, чтобы благоговел перед ним, но отчетливо чувствовал его неизмеримое интеллектуальное и моральное превосходство над всеми политическими деятелями, которых выдвинула Россия. Но многое из того, что делал Владимир Ильич, казалось мне непонятным, а некоторые его распоряжения представлялись мне ошибочными.
Я наивно полагал, что с приходом к власти отношение Ленина к армии должно коренным образом измениться.
«Хорошо, — по-детски рассуждал я, — пока большевистская партия не была у власти, ей был прямой смысл всячески ослаблять значение враждебного большевизму командования и высвобождать из-под его влияния солдатские массы. Но положение изменилось, большевики уже не в оппозиции, а в правительстве. Следовательно, — заключал я,- они не меньше меня заинтересованы в сохранении армии, в том, наконец, чтобы сдержать германские полчища и сохранить территории страны».
Партия и Ленин, однако, действовали совсем не так, как мне этого хотелось.
Еще 29 декабря 1917 года (по новому стилю) Совет народных комиссаров издал декрет «О выборном начале и об организации власти в армии». Декрет этот привел меня в ужас — он на мой тогдашний взгляд добивал те жалкие остатки боеспособности, которые все еще благодаря изумительным свойствам русского солдата имелись у находившихся на фронте войск. По этому декрету вся власть в пределах каждой войсковой части принадлежала солдатским комитетам. Все командные должности вплоть до командира полка объявлялись выборными и замешались только в результате голосования. Ни один вышестоящий начальник не имел права отвода или смещения с должности подчиненного ему младшего начальника. Командиры бригад и дивизий и командующие армиями выбирались соответствующими съездами солдатских депутатов. Дисциплинарные права, отнятые у офицеров, переходили к товарищеским судам.
Тогда же Ленин подписал и декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах и об упразднении воинских чинов и званий». Все чины, начиная от ефрейторского и кончая генеральскими, упразднялись. Отменялись и знаки отличия. Заодно упразднялся и институт вестовых.
Оба этих декрета ошеломили меня. Человеку, одолевшему хотя бы только азы старой военной науки, казалось, ясным, что армия не может существовать без авторитетных командиров, пользующихся нужной властью и несменяемых снизу. Если полк или рота могут в любой момент переизбрать своих командиров, то кто же — думал я — станет выполнять их приказы, кого они смогут повести с собой на смерть или хотя бы заставить под обстрелом противника отрыть окоп в мерзлом, не поддающемся лопате грунте? Множество столь же убедительных доводов приходило мне на ум, и я так я не мог понять, почему новое правительство вместо того, чтобы сохранить старую армию, с такой настойчивостью добивает ее. Я не понимал, что все это делалось только для того, чтобы вырвать армию из рук реакционного генералитета и офицерства и помешать ей, как это было, в пятом году, снова превратиться в орудие подавления революции.
Но если генералы и офицеры, да и сам я, несмотря на свой сознательный и добровольный переход на сторону большевиков, были совершенно подавлены, то солдатские массы восторженно приветствовали оба этих декрета, и выборные командиры объявились в войсках с той быстротой, с которой шел процесс разложения и стихийной демобилизации армии. Не проходило и дня без неизбежных эксцессов и перехлестываний. Заслуженные кровью погоны, с которыми не хотели расстаться иные, боевые офицеры, не раз являлись поводом для солдатских самосудов. Кое-где не очень грамотных фельдшеров, а то и санитаров начали выбирать полковыми и главными врачами, и каждый такой случай порождал десятки злорадных историй и выдуманных рассказов о варварстве и невежестве большевиков.
С генеральскими своими погонами я расстался легко. Выборы командиров как-то прошли мимо Ставки — уж где-где, а в штабе верховного главнокомандующего некому и некого было выбирать. Но то, что армия тает, как снег весной, приводило меня в ужас, и я приходил в полное отчаяние, узнавая о каждом новом наглом поступке немецких парламентеров, считавших уже, что с русскими нет надобности церемониться.
Я все еще не оставлял мысли сделать что-то такое, что позволило бы русской армии не откатываться при первом легком нажиме германцев и спасло бы огромное войсковое имущество. Мне казалось, что в деморализованной и разбегающейся по домам армии есть немало солдат, унтер-офицеров, офицеров и генералов, готовых честно, и мужественно отразить немцев в том случае, если переговоры о мире сорвутся и немецкие дивизии начнут свое продвижение в глубь России. Я полагал, что если таких солдат и офицеров извлечь из дивизий и собрать в кулак, то после полного переформирования получатся стойкие части.
Эту небольшую, но боеспособную армию можно было великолепно оснастить за счет того вооружения и снаряжения, которое лежало втуне или грозило попасть в руки врага. Таким образом, я рассчитывал создать заслон или «завесу», способную умерить аппетиты германской военщины.
Работая в Ставке и располагая все-таки довольно солидными источниками информации, я отлично знал, как устала германская армия. Мощный кулак, нависший над немцами во Франции, заставлял их перебрасывать на Западный фронт все свободные дивизии и предостерегал против всяких авантюр на Восточном фронте.
Все это вместе взятое делало идею заслона или «завесы» чрезвычайно заманчивой. Но начать формирование «завесы» своей властью я не мог, отлично понимая что являюсь только военным специалистом, привлеченным новой властью для решения технических, а не политических задач. Я пробовал делиться своими планами с Крыленко, с которым к этому времени у меня начали устанавливаться довольно добрые и уважительные взаимоотношения. Николай Васильевич терпеливо и даже учтиво выслушивал меня, соглашался с отдельными положениями, солидаризировался со мной в оценке состояния армий противника, но вместо распоряжения о формировании частей «завесы» неизменно отдавал очередное приказание об ускорении демобилизации и освобождении от службы тех, из кого я рассчитывал формировать новые части.
Ведущиеся в Брест-Литовске мирные переговоры не обещали прекращения войны. Перемирие истекало, и можно было ждать любого вероломства со стороны прусской военщины.
— Николай Васильевич, вы сами офицер и понимаете в какое катастрофическое положение попадем мы, если переговоры сорвутся, — атаковал я Крыленко каждый раз, когда в Могилев проникали новые сведения о неблагополучии в Брест-Литовске, — неужели мы должны сидеть сложа руки?
— А что прикажете делать? — подымая на меня воспаленные от бессонных ночей глаза, спрашивал Крыленко. — Формировать особые части? Создавать особую армию? А кто поручится, что не найдется новый Корнилов, который поведет ее совсем не против немцев, а наоборот, стакнется с ними и обрушится на революционный Питер, на рабочих, на крестьян, еще не снявших фронтовых шинелей?
Напряженная обстановка в Могилеве и редкие приезды в Ставку Крыленко не располагали к такого рода словесным поединкам, но я старался сделать все для того, чтобы он стал на мою точку зрения.
Привычка к штабной службе и боязнь того, что новое правительство, может быть, недостаточно хорошо осведомлено о том, что происходит в действующей армии, заставили меня в положенные сроки, а часто и вне их посылать подробные донесения в Петроград, адресуя их тому же Крыленко, Совету военных комиссаров, созданному Совнаркомом, начальнику Генерального штаба и… моему брату Владимиру Дмитриевичу. Я отлично знал, что, получив очередное мое телеграфное донесение, он незамедлительно познакомит с ним Ленина. Обращаться же непосредственно к Владимиру Ильичу я и стеснялся и не хотел, чтобы не показаться навязчивым.
Копии некоторых телеграмм у меня сохранились и по сей день.
Написанные сухим штабным языком, они не отличались ни полнотой, ни красноречием. Но таково величие отошедшей в прошлое эпохи преображения России, что и сегодня эти давно пожелтевшие, старомодно удлиненные страницы, аккуратно отстуканные на пишущих машинках писарями Ставки, способны по-настоящему волновать.
«Из сводки донесений, полученных из Северного и Западного фронтов и Особой армии, -телеграфировал я 4 января нового 1918 года, — привожу выводы, указывающие на состояние действующей армии. Наличие числа штыков совершенно не соответствует величине занимаемого фронта… Так, например, на Западном фронте, имеющем протяжение до 450 верст, насчитывается не более 150 тысяч штыков. Официальные данные эти считаются фронтом сильно преувеличенными. Если исключить резервы, то на версту фронта приходится не более 160 штыков.
Многие участки фронта совершенно оставлены частями и никем не охраняются. При таких условиях фронт следует считать только обозначенным. На поддержку резерва рассчитывать почти не приходится из-за причин нравственного порядка — части не желают выдвигаться вперед. Громадное большинство опытных боевых начальников или удалено при выборах или ушло при увольнении от службы солдат их возраста. Нынешний командный состав не имеет достаточных знаний и боевого опыта. Особенно губительно отражается это на артиллерии.
Полкам не дают пополнений, — взывал я. — Канцелярских писарей нет. Корпусные и дивизионные склады не охраняются. Имущество гибнет. За отсутствием телеграфистов во многих местах прекращается связь с дивизиями; скоро прекратится и конная связь. У громадного большинства солдат одно желание — уйти в тыл. Конный состав в полном расстройстве. Артиллерия к передвижению неспособна. Всюду падеж лошадей.
Укрепленные позиции разрушаются, занесены снегом, постройки разваливаются; дерево растаскивается на топливо, а проволока снимается для облегчения «братанья» и торговли. Довольствие людей и особенно лошадей в полном расстройстве, местами критическое. Отсюда — массовое дезертирство, недовольство, эксцессы. Так, в двух полках 67-й дивизии осталось всего 582 человека, а остальные дезертировали исключительно за отсутствием хлеба».
Верный владевшей мною идее «завесы», я, охарактеризовав катастрофическое состояние других сторон войсковой жизни, и в частности полный развал санитарной части, возвращался к предложению, в котором видел панацею от всех зол.
«Общее заключение: состояние фронтов таково, — заключал я, — что армии совершенно небоеспособны и не в состоянии сдержать противника не только на занимаемых позициях, но и при отнесении линии обороны в глубокий тыл. Единственным средством для противодействия возможному натиску противника могут явиться только вновь формируемые дисциплинированные части во главе с начальниками, стоящими на высоте требований современной войны и боя».
Еще через три дня я телеграфировал по тем же адресам:
«За период с 4-го по 8 января положение на фронтах не улучшилось.
Части 447-го Калязинского полка, занимавшие участки к северу от озера Дрисвяты, оставили позиции и ушли в район станции Малиновка. На том же Северном фронте в 12-й армии ушла с побережья 4-я Донская казачья дивизия… В 1-й армии роты и батальоны 22-й, 24-й и 81-й. пехотных дивизий самовольно оставляют свои участки и уходят в тыл…»
Такую же удручающую картину рисовали и сведения, поступившие с Западного фронта.
«Общее состояние войск, — сообщал я, — таково, что ни на какое сопротивление в случае наступления противника рассчитывать нельзя».
Мне было ясно, что наступил полный развал армии. И в то же время в голову все чаще приходила тревожная мысль: что же делать, если по окончании перемирия, а то и раньше германцы и австрийцы перейдут в наступление? В полном отчаянии я продолжал бить тревогу, по-прежнему атакуя Смольный своими телеграммами.
Рассказывая о развале в Особой армии, я еще и еще раз подчеркивал то опасное положение, в котором неминуемо окажемся мы при срыве перемирия.
«Направление Ковель — Ровно открыто,- писал я,- участок шоссе Голобы — Переспа{48} чинится немцами, осталось навести мост у нашей первой линии, и тогда шоссе будет вполне исправно. По этому шоссе ежедневно переходят к немцам свыше тысячи беженцев, пленных и перебежчиков, а также гонятся табуны скупленных у наших солдат лошадей и коров и перевозится различное имущество. Немало людей возвращается обратно для скупки солдатского имущества и перепродажи его немцам. Что касается дивизий стоящего на этом участке корпуса, то 57-я ушла в район Ровно, 3-я явочным порядком демобилизуется в районе Рожище. Фронт Особой армии на протяжении ста двадцати верст открыт».
Ни на одну свою телеграмму я не получал ответа и все-таки считал своим долгом ставить в известность Смольный и в первую очередь Ленина о той катастрофе, которая уже произошла на фронте.
Во второй половине января восемнадцатого года Крыленко особым приказом положил конец моему мученическому пребыванию на должности начальника штаба разваливающихся на глазах армий — мне было предписано ликвидировать Ставку.
«Роль Ставки, — подчеркивал приказ, — как органа управления и руководства операциями отпадает».
В основе этого положения лежала уверенность, что момент ликвидации империалистической войны явно определился, а развивающаяся гражданская война не сможет использовать аппарат Ставки ввиду полной его непригодности для этой цели. В приказе было указано, что для гражданской войны «должен быть создан новый аппарат с новыми людьми, новыми войсками и новыми методами управления».
Над проектом «завесы» ставился крест. Моей задачей было только ликвидировать нежизнеспособную уже деятельность Ставки и сохранить для очень смутно еще вырисовывавшейся в тумане грядущего новой армий хоть что-нибудь из того ценного, чем мы все-таки располагали в Могилеве.
Приказ главковерха и обрадовал и огорчил меня. С меня снималась ответственность, я переставал быть в двусмысленном положении, и это не могло не радовать меня. Но то, что верховное командование большевиков отказалось от всякой попытки использовать остатки старой армии для обороны линии фронтов и отпора возможному натиску противника, казалось мне непростительной ошибкой; И понадобился не один год для того, чтобы я понял, как прав был Владимир Ильич, когда с такой поистине гениальной смелостью и прозорливостью отказался от наследства, которым соблазнилась бы любая новая власть: от государственного и полицейского аппарата и даже армии, создававшейся столетиями и не так уж плохо оснащенной…
Примечания
{48} Голобы и Переспа — ныне станции Львовской ж. д. между Ковелем и Ровно.
Глава четвертая
Надежда на мирное разрешение борьбы за власть. Угроза интервенции. Польский корпус. Организация полевого штаба. Полковник Вацетис. Мясников и совместная с ним работа. Перемены в Ставке. Полевая комиссия по демобилизации. Срыв мирных переговоров. Окончание перемирия. Попытки спасти материальную часть старой армии. Конфликт с Цекодарфом. Телеграмма Ленина с вызовом в Петроград.
Гражданская война в России началась еще до Великой Октябрьской социалистической революции. И все-таки дальнейшее развитие ее совсем не казалось мне неизбежным. Еще меньше могло мне прийти в голову, что гражданская война развернется после победы Советов так широко, что понадобится формирование миллионной армии.
Я лично не видел внутри России никаких сил, которые могли бы организовать более или менее серьезное сопротивление победному шествию большевистских идей и Советской власти. В самом деле, удивительная быстрота, с которой было сброшено Временное правительство, не могла не вселить надежд на окончание борьбы за власть. Новые идеи настолько глубоко проникли в самую толщу народных масс и за партией шло столько миллионов одетых в солдатские шинели рабочих и крестьян, что ликвидация соглашательского правительства Керенского невольно напоминала падение созревшего и вдобавок изъеденного червями яблока.
Стратегический гений Ленина не позволил русской буржуазии и поддерживающему ее дворянству мобилизовать даже ничтожную часть своих резервов. Не только в Петрограде, но и в ряде губернских и уездных городов и районов власть переходила к Советам при самом незначительном и коротком сопротивлении захваченной врасплох контрреволюции. Ни московские юнкера, ни астраханские казаки поступательного движения революции не остановили. И если бы не открытая интервенция, то первые году новой власти были бы затрачены на борьбу с разрухой и восстановление народного хозяйства, а не на формирование армий и ожесточенные бои с многочисленными армиями контрреволюции.
Мне всегда был ясен антинародный характер всех этих белых формирований, являвшихся лишь ширмой для иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Угроза вмешательства этого нависла над страной тотчас же после объявления Советской власти. Ведя в Брест-Литовске переговоры с нашей мирной делегацией, немцы даже не считали нужным маскироваться; срыв мирных переговоров казался неизбежным не одному мне.
Но и, кроме австро-германцев, сразу же после Октября в качестве носителей военной опасности начали выступать инспирированные и немцами и недавними союзниками России всякого рода «национальные» формирования. Одно из них — польский корпус генерала Довбор-Мусницкого — находилось в непосредственной близости к Могилеву, и это грозило превратить тыловой город, в котором третий год размещалась Ставка, в место возможных боёв с поляками.
Бесспорную опасность представляли «украинизированные» части и казаки Каледина. Наконец, на Дону уже объявился генерал Алексеев, и туда, насколько было известно, пробрались и Корнилов и остальные «быховцы».
Поэтому, пока я несколько по-маниловски занимался вопросами организации неосуществимой в тех условиях «завесы», Совет народных комиссаров и верховный главнокомандующий приняли ряд неотложных мер для оказания сопротивления уже объявившемуся врагу.
Вскоре после первого приезда Крыленко в Могилев, формально при Ставке, а фактически параллельно ей, был создан так называемый Полевой штаб. Во главе этого штаба, обосновавшегося в парадных комнатах бывшего губернаторского дома, стал полковник Вацетис, командир одного из латышских полков. Комиссаром Полевого штаба был назначен прапорщик Тер-Арутюнянц, большевик, в дни Октябрьского штурма комиссар Петропавловской крепости в Петрограде.
В первые же дни Октябрьской революции главнокомандующим Западного фронта был избран прапорщик Мясников, до этого возглавлявший Военно-революционный комитет. Настоящая фамилия Александра Федоровича была Мясникян, но широкие солдатские массы знали его как Мясникова. Те же, кто сталкивался с ним в подполье, помнил его по революционным прозвищам, из которых лучше всего определяла сущность этого замечательного революционера подпольная кличка — Большевик.
Мясникову ко времени моего с ним знакомства пошел тридцать второй год. Но за плечами его было уже свыше десяти лет революционного подполья. Прапорщик запаса, он в начале войны был призван в армию и, ни на минуту не прекращая своей подпольной работы, сделался вскоре видным военным работником большевистской партии. После февральского переворота Александр Федорович стал членом фронтового комитета и вместе с М. В. Фрунзе организовал большевистскую газету «Звезда», испортившую немало крови реакционному командованию фронта и чинам Ставки.
Вступив в должность главковерха, Крыленко сделал его своим заместителем, и с тех пор я всегда находил нужную поддержку у серьезного и спокойного Мясникова. Крыленко не засиживался в Могилеве, и если бы не Александр Федорович, я чувствовал бы себя прескверно. Как-никак я был «старорежимным» генералом, а обстановка в Ставке после самосуда над Духониным не располагала к спокойной работе.
Вступив в должность начальника, штаба Ставки, Я застал в нем полную растерянность и дезорганизацию. Некоторые ответственные чины Ставки самовольно уехали из Могилева еще до появления эшелонов Крыленко. Самосуд над Духониным нагнал панику на оставшихся, и мне стоило немалых усилив сколотить около себя подобие работоспособного штаба. Помощником своим я сделал генерала Лукирского, о котором уже не раз упоминал в этих записках. Должность генерал-квартирмейстера вместо исчезнувшего из Могилева Дитерихса занял генерал Гришинский. Начальник военных сообщений генерал Раттэль не проявил малодушия, столь свойственного другим сотрудникам покойного Духонина, и остался в штабе на старом своем месте.
Большая часть помещений Ставки была по-прежнему занята нами. Сам я обосновался в просторном кабинете; находившемся в первом этаже губернаторского дома и перевидавшем и Алексеева, и того же Духонина, и других начальников штаба. Надо мной разместился Полевой штаб. Проходя к себе, я частенько сталкивался то с чернобородым Тер-Арутюнянцем, то с плотным, простоватым и даже грубоватым Вацетисом. Мясников, приезжая в Могилев, не расставался со своим вагоном, предпочитая его всё еще роскошным и чинным покоям парадной половины губернаторского дома, столь часто видавшего в своих стенах последнего русского венценосца.
Работа Полевого штаба была мне не очень понятна. Как-то приехав в Могилев, Мясников сказал мне, что есть решение расформировать польский корпус, а, командира его генерала Довбор-Мусницкого объявить «вне закона». Ликвидировать явно враждебный новой власти польский корпус не удалось, и вооруженная борьба с ним легла на плечи Полевого штаба. Полевому же штабу пришлось заняться и множеством других неотложных дел, начиная с преследования и розысков Корнилова и бежавших «быховцев» и кончая подавлением контрреволюционных мятежей и погромов, вспыхивавших то тут, то там.
Мне, занятому привычной штабной работой и безнадежно пытавшемуся наладить какой-то порядок в управлении совершенно дезорганизованной старой армией, казалось, что Полевой штаб только и занят тем, чтобы окончательно развалить штабную работу. Я наивно полагал, что уже кому-кому, а — мне большевики обязаны оказывать полное доверие. Но и Крыленко, и Мясников, и тот же Вацетис, и приветливый Тер-Арутюнянц относились ко мне с понятной настороженностью и во многие вопросы меня не посвящали. Они, естественно, считали, что мое дело ликвидировать Ставку, а уж для борьбы с контрреволюцией найдутся люди куда более подходящие. Они были правы. Я был с большевиками лишь постольку-поскольку, да и штаб верховного главнокомандующего я согласился возглавлять лишь потому, что его назначением было руководить противостоящей австро-германцам русской армией.
Но назвался груздем, полезай в кузов. Перейдя на службу к большевикам, я рано или поздно должен был от борьбы с немцами и австрийцами перейти к борьбе с белыми, то есть с теми же русскими людьми, руководимыми вдобавок старыми моими сослуживцами и товарищами. Спустя полгода так и получилось, и я, уже не колеблясь, стал по эту сторону баррикад. Но тогда, в первые дни после Октября, очень многое было еще для меня неясным, и руководители Полевого штаба имели все основания не привлекать меня к непосредственной борьбе с контрреволюцией.
Вопрос о демобилизации старой армии не мог не заботить новое правительство, и еще в декабре в Петрограде была организована специальная Комиссия по демобилизации армии. В начале января Комиссия эта выделила из себя «полевую комиссию», местопребыванием которой был назначен Могилев.
Председатель этой полевой комиссии, прапорщик, фамилии которого я так и не запомнил, прибыв в Могилев, вошел в тесные со мной отношения. Инженер-технолог в недавнем прошлом, он, к большому моему удовлетворению, считал, что полевая, комиссия находится при Ставке; и согласовывал со мною все свои планы и действия.
Я охотно познакомил прапорщика с теми материалами, которыми располагал штаб. Самочинная демобилизация армии приняла такие гигантские размеры, при которых всякая попытка ввести ее в русло законности была обречена на провал. И хотя центральная и полевая комиссии намерены были провести постепенную, по возрастам, демобилизацию солдат и офицерского состава, из армии уходили все, кто хотел.
Полевая комиссия все-таки отдала распоряжение о демобилизации нескольких очередных возрастов. Распоряжение это дальше штабов не пошло, а старая армия продолжала расходиться по домам, и катившаяся на восток лавина уже сокрушала все, что попадалось ей на пути. Все труднее и труднее в этих условиях становилось наше положение — тех представителей генералитета и офицерства, которые не пошли за вождями реакции и хотели остаться с народом.
Враждебное, часто до жестокости, отношение демобилизованных солдат к своим бывшим командирам было, конечно, вполне естественным: оно выросло от тех притеснении, которые еще вчера «низшие чины» испытывали от держиморд и «шкур» всех рангов, от того свирепого режима, какой, хотя без прежних линьков, но с тем же мордобоем держался на флоте. Эта враждебность стала общим правилом. Она была особенно мучительна тем из нас, у кого военное дело являлось единственной профессией. Куда было деться, на что надеяться, если даже о том, что ты офицер, нельзя было сказать вслух!
Тяжело переживая все это, я не однажды задумывался над своей дальнейшей судьбой. Окончив в свое время Межевой институт, я имел, кроме военной, и вторую профессию инженера-геодезиста. Уйди я из армии, мне бы не пришлось, как иным генералам, искать место начхоза или торговать газетами. Но военное дело я по-настоящему любил и представить себя вне армии не мог. Пребывание же в должности начальника штаба Ставки походило на своеобразную нравственную пытку. Самолюбие мое болезненно обострилось, мне все больше, хотя и напрасно; казалось, что меня умышленно и пренебрежительно оттирают от настоящего дела…
Непонятной была мне линия нового правительства в вопросах заключения перемирия и подготовки мирного договора. Разноречивые распоряжения, приходившие в Ставку, окончательно сбивали меня с толку.
Так, в восемь часов утра 29 января в Ставке была получена телеграмма главковерха Крыленко о том, что война окончена, Россия больше не воюет; объявляется демобилизация армии.
Эта телеграмма распоряжением Цекодорфа{49} была передана по радио «всем, всем и всем»… Основанием для телеграммы главковерха послужила, как выяснилось, телеграмма Троцкого, еще накануне отправленная, из Брест-Литовска. Однако еще в тот же день Крыленко получил, и притом из того же Брест-Литовска, вторую телеграмму, в которой сообщалось, что в мирных переговорах происходит кризис.
Получилась явная неразбериха: мирные переговоры прерваны, соглашение не достигнуто, а приказ говорит об окончании войны и демобилизации всех армий…
Я не мог не почувствовать огромной угрозы, нависшей над страной. Поведение большевиков в этом вопросе, несмотря на все мое стремление остаться лояльным, показалось мне глубоко ошибочным и лишенным здравого смысла.
«Как же это так? — растерянно спрашивал я себя, — и мира нет, и воевать не будем».
Далекий от той борьбы, которую вел в это время против Ленина и ленинского ЦК возглавивший мирные переговоры Троцкий, я ошибочно отождествлял его линию с линией всей партии и уже жалел о том, что так опрометчиво согласился работать с новой властью.
Из близкого к отчаянию состояния меня вывело приказание В. И. Ленина, переданное его секретарем председателю Цекодорфа Флеровскому: «В. И. Ленин приказал телеграмму о мире и всеобщей демобилизации — отменить».
Приказание Ленина запоздало, так как по всем проводам и по радио было уже передано за подписью Крыленко, что «мирные переговоры закончены», но «мы не хотим и не будем вести войны с такими же, как мы, немецкими и австрийскими рабочими».
Отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия объявляла «состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией я Болгарией — прекращенным».
Война как будто закончилась. Но ближайшее будущее показало, что немецкая военщина держалась на этот счет иного мнения. Воспользовавшись решением революционной России о прекращении войны и полной демобилизации ее армии, германское командование отдало приказ о переходе в наступление.
Включенный в комиссию по мирным переговорам полковник Самойло еще 29 января сообщил о прекращении переговоров с немцами…
Еще через несколько дней он дал мне следующую телеграмму:
«Сегодня 16 февраля в 19 часов 30 мин. от генерала Гофмана мне объявлено официально, что 18 февраля в 12 часов оканчивается заключенное с Российской Республикой перемирие, и начинается снова состояние войны».
Бывает так, что ждешь смерти тяжелобольного, очень близкого тебе человека, всячески подготавливаешь себя и как бы привыкаешь к ней, и все-таки, когда она приходит, словно впервые ощущаешь, что страшное уже совершилось. И тогда оказывается, что вся твоя психологическая подготовка нисколько не ослабила удара. Так случилось и с мирными переговорами. С. самого их начала я не сомневался, что они кончатся трагически для нас. И все-таки, когда в ответ на наш отказ от продолжения войны генерал Гофман объявил о возобновлении военных действий, я воспринял это жестокое сообщение со всей остротой, как человек, на которого обрушился внезапный и страшный удар.
К тому же мне казалось, что прими Ставка более активное участие в мирных переговорах, стратегическое положение России не было бы столь безнадежным. Теперь, спустя много лет, мне понятно, что Совет Народных Комиссаров не мог оставить за чуждой новому строю Ставкой руководства обороной страны в случае вероломного нападения Германии. Из этого единственно возможного для Советской России решения вытекали и невольный параллелизм в действиях Полевого штаба и Ставки, и отказ от проектируемой мною «завесы», и весьма слабое участие чинов штаба в мирных переговорах с немцами. Во всех этих связанных друг с другом, и вполне закономерных явлениях я видел лишь результат ошибочной линии, почему-то занятой Лениным. Как это свойственно многим из нас, я считал себя правым, а всех остальных, начиная от Владимира Ильича и кончая любым матросом из Полевого штаба, не уступившим мне дорогу в коридоре губернаторского дома, неправыми.
То обстоятельство, что я был как бы отстранен от мирных переговоров, казалось мне особенно несправедливым и неправильным. В этом отношении я был все-таки кое в чем прав.
Переговоры с немцами и подготовка мирного договора требовали решения ряда стратегических вопросов. Не связанные с войсками политические деятели, вошедшие в состав мирной делегации, многого не знали. Военные же эксперты в мирной делегации были подобраны не очень продуманно и тоже не знали того, что нужно было знать, ибо до назначения в состав мирной делегации занимались работой, не связанной с оценкой общего стратегического положения России и со знанием всех ресурсов и военного потенциала страны.
Не могу сказать; чтобы ко мне совсем не обращались при ведении переговоров в Брест-Литовске. По разным вопросам запрашивал меня от имени делегации и председатель ее и включенный в нее адмирал Альтфатер. Но обращения эти носили случайный характер. Из материалов, которые я получал через главковерха Крыленко, было видно, что стратегическая сторона в переговорах упускалась, в то время как она-то, и определяла будущую обороноспособность России, заключающей мир. Болезненно отзываясь на эти новые, как мне казалось, обиды, я был настолько пристрастен, что закрывал глаза на собственную неосведомленность в ряде важных стратегических вопросов. Развал в русской армии дошел до таких размеров, что штаб Ставки работал еле-еле и не имел сколько-нибудь налаженной связи ни с Румынским, ни с Кавказским, ни даже с Юго-западным фронтами. Да и взаимоотношения с Западным и Северным фронтами оставляли желать лучшего.
Я все-таки старался что-то сделать, чтобы вероятное немецкое наступление не застало нас врасплох. Не зная, что распоряжение о расформировании Ставки последует так быстро, я обращался к главнокомандующим фронтов с рядом предложений и указаний и все время бил тревогу по поводу возможной гибели материальной части царской армии. Предлагал я главнокомандующим фронтов и такое мероприятие, как сосредоточение корпусов и армий группами на важнейших операционных направлениях. Особенно настаивал я на том, — чтобы сплошной жидкий кордон был заменен групповым расположением еще сохранившихся в составе фронтов войск.
Требовал я и того, чтобы отдаленное от фронта расположение резервов было заменено таким сосредоточением их, которое не препятствовало бы своевременному маневру против неприятеля. В том неописуемом развале, в котором находилась русская армия, вряд ли кто-нибудь всерьез относился к моим указаниям. Но сами по себе они были вполне правильны и своевременны, если бы… если бы было кому их выполнить!
Я все-таки предложил генерал-квартирмейстеру Ставки генералу Гришинскому заняться самым подробным изучением состояния армий и их расположения, чтобы иметь возможность составить необходимые предложения на случай наступления противника и для того, чтобы наивернейшим способом ориентировать новое правительство России.
Но основное свое внимание я уделял тому, чтобы спасти материальную часть разбегавшейся по домам многомиллионной старой армии. С этой целью я старался через подчиненный мне штаб Ставки оттянуть в тыловые районы все, что представляло собой ценность для будущей обороны страны.
Но и эти усилия мои часто оказывались тщетными. Ставка давно потеряла свой прежний авторитет, штабы фронтов и армий нередко пренебрегали моими приказаниями и делали то, что вздумается. Румынский же фронт отложился, и вся его артиллерия, склады, военная техника и снаряжение достались королевской Румынии.
Материальную часть Северного фронта удалось оттянуть в район Рыбинска — Ярославля; Западного фронта — в район Минска. Юго-западного — к Днепру, преимущественно в район Киева. Конечно, перебрасывалось в эти глубокие тылы далеко не все. Многое бросалось на произвол судьбы, не меньше оставлялось и противнику или продавалось немцам разложившимися солдатами, не всегда даже через подставных лиц.
Нельзя сказать, чтобы в деле спасения материальной части русской армии были достигнуты полные результаты. Самочинная демобилизация и дезорганизация штабов повела к огромным потерям. И все-таки Ставке с помощью управляющих фронтами «троек», обычно из назначенных большевистской партией партийных работников, удалось оттянуть в глубокий тыл, недоступный для германских войск, значительные материальные ценности.
Из того, что я делал на посту начальника штаба Ставки, работа по спасению технического оснащения царской армии и ее фронтовых запасов доставила мне наибольшее удовлетворение. Главковерх Крыленко, неодобрительно относившийся к другим моим проектам, в этом вопросе оказывал мне всяческую помощь. Сам он редко когда наезжал в Могилев, и я пользовался той самостоятельностью, к которой привык, находясь на высоких штабных должностях. Сочувственное отношение при моих обращениях по поводу спасения фронтовых складов, парков и прочего я встречал и у других большевиков, с которыми приходилось соприкасаться.
Еще в начале января Крыленко, приехав из Петрограда, сказал мне, что там создана коллегия по организации Красной Армии. К формированию этой новой армии меня никто не привлекал, и, проглотив еще одну новую обиду, я занялся ликвидацией сложного хозяйства Ставки. 19 февраля я сообщил главковерху о необходимости перевозки еще не расформированных управлений Ставки в глубь страны и одновременно предупредил фронты о начавшемся наступлении противника. Это были последние мои действия в роли начальника штаба.
В тот же день я телеграфировал Ленину, что Ставка верховного главнокомандующего расформирована.
Закончив все дела по расформированию штаба и сдав городскому Совету губернаторский дом, в котором размещался штаб и была моя квартира, я переехал в хорошо знакомую мне гостиницу «Франция». Одновременно я продал случайному барышнику трех моих лошадей, находившихся у меня с начала войны, и экипажи.
Свободный от обременительной конюшни и располагавший одним лишь небольшим чемоданом, я предполагал налегке в качестве отставного генерала пробраться в Чернигов, из которого когда-то ушел с полком на фронт. Получилось иное.
Часов в шесть вечера мне подали срочную телеграмму из Петрограда. Торопливо вскрыв ее, я глянул на подпись и обомлел — телеграмма была подписана Лениным.
«Предлагаю вам немедленно с наличным составом Ставки прибыть в Петроград» — взволнованно прочитал я.
Короткий текст телеграммы не давал возможности понять, зачем остатки штаба и я так срочно понадобились Совету народных комиссаров. Поразмыслив, я все-таки решил, что вызов мой в столицу связан с начавшимся наступлением немцев. Предположение мое оказалось правильным я помогло мне предпринять те необходимые действия, которые способствовали в дальнейшем успешному выполнению чрезвычайного задания Ленина. Рассудив, что мне с моими штабными генералами придется организовать отпор наступавшим на Петроград немецким дивизиям, я прежде всего подумал о том, что будущий штаб этой обороны должен быть достаточно подвижен. Пользуясь влиянием, которое все еще имел в Могилеве, я решил сформировать особый поезд с тем, чтобы прибыть в Петроград с готовым, очень подвижным и немногочисленным штабом. Отъезд я назначил на вечер следующего дня — на 20февраля по новому стилю.
Отъезду нашему из Могилева почему-то воспротивился Цёкодорф. Только к трем часам дня его сопротивление было наконец сломлено. За это время начальник военных сообщений Ставки генерал Раттэль проявил поистине героические усилия и, несмотря на противодействие железнодорожников, сформировал нужный поезд. Еще накануне, тотчас же после получения телеграммы от Ленина, я собрал оставшихся в Ставке генералов Лукирского, Гришинского, Раттэля, Сулеймана и нескольких офицеров и объявил о предстоявшем нам выезде в Петроград. Поспешно погрузившись в поданный состав, мы сразу же тронулись бы в путь, если бы не саботаж железнодорожников. Сообщение о срыве мирных переговоров и немецком наступлении порождало панические настроения, и железнодорожникам, как и кое-кому из Цекодорфа отъезд из Могилёва специального поезда Ставки показался изменой ‘революции. Возможно, что препятствуя нашему выезду, кое-кто выявил и свое тайное контрреволюционное нутро. Так или иначе, назначенному мною комендантом поезда, матросу Приходько пришлось немало пошуметь в кабинетах железнодорожного начальства, а Раттэлю использовать свои путейские связи, пока к нашему штабному составу не был прицеплен паровоз, и мы смогли тронуться в путь.
До сих пор для меня остается загадкой, как мы, несколько генералов и офицеров, оставшихся от ликвидированной Ставки, проскочили в столицу!
Из Могилева в Петроград наш поезд шел через Оршу, Витебск, Новосокольники, пересекая с юга на север весь тыл действующей армии, по которому лавиной катились бросившие фронт и пробиравшиеся домой солдаты. Сметая на своем пути все, что могло ей мешать, лавина эта, наперерез нам, двигалась по путям, ведущим с фронта во внутренние губернии России. Наконец, вблизи от Витебской железной дороги бродили уже германские кавалерийские разъезды, и мы легко могли стать их добычей.
Комендант поезда Приходько, тот самый, который пытался, но так и не смог спасти Духонина от самосуда, действовал решительно. Охрану нашего передвижного штаба составили три лихих матроса из числа тех отчаянных моряков, которых привез в Могилев главковерх Крыленко. Конечно, они были бессильны защитить нас и от солдатского самоуправства и от немецких разъездов. Но смелым, как говорится, бог владеет…
Я решил не останавливаться на больших станциях, а, вытребовав сменный паровоз на ближайший разъезд или полустанок, проскакивать эти станции на полном ходу. Так мы благополучно пронеслись мимо залитых электрическим светом вокзалов Орши, Витебска, Новосокольников и станции Дно. К вечеру 22 февраля, пробыв в пути две ночи и день, наш поезд подкатил к Петрограду и остановился у Царскосельского вокзала.
Накинув шинель, я прошел к комиссару вокзала, но его не застал. Прикрикнув на торчавшего в кабинете писаря, я не без труда соединился по телефону со Смольным и, только услышав в трубке знакомый голос брата Владимира, облегченно вздохнул, поняв, какой трудный и рискованный путь благополучно ив минимальный срок мы одолели.
— Тебя ждут, — сказал Владимир Дмитриевич. — Сейчас же высылаю за всеми вами автомобиль. Владимир Ильич просит незамедлительно прибыть в Смольный.
Примечания
{49} Центральный военно-революционный комитет действующей армии и флота.
Глава пятая
Знакомство с В. И. Лениным. «Войск у нас нет». Рабочий Питер готовится к обороне. Разведывательные группы и поддерживающие отряды. «Завеса». Владимир Ильич о военном деле. Реорганизация Комитета обороны в Высший Военный Совет. Назначение меня военным руководителем. Революционный полевой штаб. Оперод. Ночной звонок Лепима. Разговор по прямому проводу с почтовым чиновником из Нарвы. Генерал Царский и Дыбенко.
Пожалуй, никто из наших писателей не дал такой верной, и точной картины Петрограда в первые месяцы Великой революции, как Александр Блок в своих незабываемых «Двенадцати».
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем, свете!
Эти строки, открывающие поэму, я вспоминаю каждый раз, когда мысль моя обращается к прошлому и перед взором моим как бы возникают пустынные, с мертвыми, давно не зажигающимися фонарями и черными провалами окон улицы ночного Питера, заметенные февральским снегом мостовые, гигантские сугробы у заколоченных подъездов, непонятные выстрелы, буравящие ночную тишину, и ветер, свирепый февральский ветер, настойчиво бьющийся в смотровое стекло автомобиля, на котором мы неслись в Смольный.
Обезлюдевший Загородный, безмолвный Владимирский, такой же вымерший Невский, «черные провалы Суворовского и, наконец, ярко освещенный, бессонный и многолюдный Смольный. По бывшему институтскому скверу не проехать: на снегу около оголенных лип — походные кухни, броневики, патронные двуколки, красногвардейцы в полушубках и потертых рабочих пальтишках, иные в каких-то кацавейках, иные в истертых солдатских шинелишках, кто в чем… Горят костры; дымят факелы, с которыми многие пришли с заводов. Ощущение не то вооруженного табора, не то неистовствующей толпы, идущей на штурм.
Пропуска для нас были уже готовы; вслед за каким-то лихим матросом, вышедшим к нам навстречу, мы торопливо прошли по забитой вооруженной толпой широкой лестнице Смольного. На нас недоуменно озирались — все мы были уже без погон, но и покрой шинелей, и по-особому сшитые защитные фуражки, и генеральская седина, и даже походка обличали людей иного класса и сословия, нежели те, кто с нечищеными трофейными винтовками за спиной и новенькими подсумками, свисавшими с ремня на нескладные полы «семисезонного» пальто, долго еще смотрели нам вслед, так и не решив, кто мы: арестованные саботажники или зачем-то вызванные в Смольный «спецы».
Наш проводник бесцеремонно работал локтями и подкреплял свои и без того красноречивые жесты соленым матросским словцом. В расстегнутом бушлате, с ленточками бескозырки, падавшими на оголенную, несмотря на зимние морозы, широкую грудь, с ручными гранатами, небрежно засунутыми за форменный поясной ремень, он как бы олицетворял ту бесстрашную балтийскую вольницу, которая так много успела уже сделать для революции в течение лета и осени 1917 года.
— Пришли, товарищи генералы, — сказал он, останавливаясь около ничем не примечательной двери, и облегченно вздохнул. И тут только я понял, сколько неуемной энергии и настойчивости проявил этот здоровяк, чтобы так быстро протащить нас сквозь людской водоворот, клокочущий в Смольном. Едва успев приметить на предупредительно распахнутой матросом двери номер комнаты — семьдесят пятый, я переступил порог и увидел радостно поднявшегося брата.
— Тебя и твоих коллег ждут с нетерпением, — поцеловавшись со мной, сказал Владимир Дмитриевич и, не давая никому из нас, даже перевести дыхание, стремительно провел нас в небольшую комнату, вся обстановка которой состояла из большого, некрашеного стола и жалкой табуретки у входной двери — вероятно для часового. На столе лежала десятиверстная карта, включавшая Петроград, Финский залив, Нарву, Чудское озеро и местность к югу от этого района, — все это я успел рассмотреть, пока, оставив нас в комнате одних, брат вышел через вторую имевшуюся в комнате дверь.
Прошло несколько минут, и дверь эта, только что еще плотно притворенная, распахнулась, и в комнату вошло несколько человек того характерного вида, который в дореволюционные годы был присущ профессиональным революционерам: утомленные лица, небрежная одежда, простота и непринужденность манер. Первым порывисто вошел плотный, невысокий человек с огромным, увеличенным лысиной лбом, очень зоркими и живыми глазами и коричнево-рыжеватой бородкой и усами. Скромный, едва ли не перелицованный, пиджак, галстук в белый горошек, потом сделавшийся известным многим миллионам людей, поношенные башмаки, очень живые руки, пальцы которых так и норовили забраться под проймы жилетки, — все это сразу помогло мне узнать в вошедшем Владимира Ильича Ленина. Таким не раз описывал мне организатора большевистской партии брат, таким я запомнил его по немногим фотографиям, которые хранились у Владимира. Следом за Лениным шли прячущий свои прекрасные глаза за стеклами пенсне, видимо, не расстающийся с потертой кожаной курткой Свердлов, надменный Троцкий, которого я признал по взъерошенной шевелюре и острой, хищной бородке, и не известный мне высокий и очень худой партиец в солдатской суконной гимнастерке и таких же неуклюжих шароварах, чем-то смахивавший на Дон-Кихота. Он оказался Подвойским, о котором я уже слышал как о члене коллегии по организации Красной Армии.
Пожав торопливо протянутую мне Лениным руку, я представил ему приехавших со мной генералов.
Владимир Ильич явно торопился, и я волей-неволей провел церемонию представления главе Советского правительства основных сотрудников моего штаба с той стремительностью, которая в этот ночной час отличала все жесты и манеру говорить Ленина. Рискуя показаться нам невежливым, хотя, как позже я убедился, он был на редкость хорошо воспитанным и учтивым человеком, Владимир Ильич быстро подошел к разложенной на столе карте и почти скороговоркой сообщил, адресуясь ко мне и остальным бывшим генералам, что немцы наступают на город Нарву, а кое-какие конные части их появились уже и под Гатчиной.
— Вам с вашими товарищами, — продолжал Ленин, — надо немедленно заняться соображениями о мерах обороны Петрограда. Войск у нас нет. Никаких, — подчеркнул он голосом. — Рабочие Петрограда должны заменить вооруженную силу.
— Я те думаю, товарищ Ленин, чтобы на Нарву могли наступать значительные силы германцев,- сказал я.
— Почему вы это решили? — спросил Ленин, вскинув на меня свои острые глаза.
— Достаточно сделать простой расчет, — ответил я. — Большая часть дивизий давно переброшена немцами на западный театр войны. Но и те сравнительно небольшие силы, которыми германское командование располагает в ближайших к столице районах, нельзя было так быстро передвинуть к Нарве и Пскову. Следовательно, немецкое наступление предпринято только с расчетом на отсутствие всякого сопротивления и ведется ничтожными силами.
— Совершенно с вами согласен. Немецкое наступление на Нарву мы расцениваем точно так же и потому и готовимся дать ему отпор силами одних рабочих — сказал Ленин и, извинившись, что занят, ушел.
Присутствовавший при разговоре брат мой Владимир Дмитриевич провел меня и остальных генералов в комнату «семьдесят шесть» и предложил в ней обосноваться и заняться разработкой нужных оборонительных мероприятий.
— Ты слышишь? — спросил он меня. Из-за двойных, совершенно заиндевелых стекол в комнату врывались не вполне понятные звуки, похожие, впрочем, на одновременный рев многочисленных фабричных гудков.
— Это заводы и фабрики революционного Петрограда объявляют боевую тревогу, — подтвердив мою догадку, продолжал Владимир Дмитриевич. — В течение ночи Центральный Комитет поставит под ружье пятьдесят тысяч рабочих. Остановка — за разработкой оперативных планов и организацией нужных отрядов.
— Отлично понимая, как важно выгадать время, я тут же включился в работу, попросив брата связать меня с теми, от кого мы могли бы получить точные сведения о том, что происходит под Гатчиной и Нарвой. Несмотря на неизбежную противоречивость в рассказах «очевидцев» и сообщениях представителей отступивших воинских частей и местных Советов, очень скоро я и мои товарищи смогли представить себе характер немецкого выступления и примерные силы, которыми оно располагает в интересующих нас районах. Еще немного, и мы уже составили черновые наброски некоторых, еще весьма общих, соображений по обороне Петрограда.
Тем временем в одной из соседних комнат началось чрезвычайное заседание расширенного президиума Центрального Исполнительного Комитета. Председательствовал Свердлов. Меня и остальных генералов попросили принять участие в этом заседания, и Яков Михайлович, очистив для меня место рядом с собой, предложил мне рассказать собравшимся о тех основных мерах; которые мы, военные специалисты, рекомендуем принять.
Кроме большевистских лидеров, на заседании присутствовали и левые эсеры, и я получил сомнительное удовольствие, впервые в жизни увидеть пресловутую Марию Спиридонову, «вождя» левых эсеров. Некрасивая, с узким лбом и напоминающими парик гладкими волосами она производила впечатление озлобленной и мстительной истерички.
Делая свой короткий, но трудный доклад, я сказал, что, по мнению всех нас, штабных работников, надлежит с утра 23 февраля выслать в направлении к Нарве и южнее ее «разведывательные группы», человек по двадцать-тридцать каждая. Эти группы должны быть выдвинуты по железной дороге возможно ближе к Нарве и к югу от нее — до соприкосновения с противником. Каждой из групп будет указан участок для разведывания о действиях и расположении неприятеля. Все «разведывательные группы» обязаны поддерживать между собой взаимную связь и присылать в Смольный нарочными и по телеграфу срочные донесения.
В поддержку «разведывательным группам» решено направить «отряды», человек по пятьдесят — сто каждый. Формирование «разведывательных групп» и «поддерживающих отрядов» поручалось штабу обороны Петрограда и его окрестностей. Последний подчинялся уже созданному в Смольном Комитету обороны, возглавлявшемуся Лениным.
Всю ночь штаб обороны формировал, вооружал и снабжал по моим нарядам всем необходимым «разведывательные группы» и «поддерживающие отряды». Я с Лукирским заготовлял для тех и других письменные распоряжения; генерал Сулейман инструктировал начальников «разведывательных групп», исходя из задачи, поставленной перед каждой из них. Раттэля я отпустил на вокзал для формирования нового .поезда, взамен того сборного, в котором мы прибыли из Могилева. Было ясно, что оставаться долго в Петрограде не придется; новому штабу следовало рассчитывать на пребывание там, где в этом явится надобность.
Не выкроив и получаса для сна и отдыха, мы добились того, что в течение ночи и следующего дня на фронт Нарва — Себеж были направлены все намеченные нами «разведывательные группы», формирование же отрядов продолжалось и 24 февраля. Так зародилась «завеса», как форма обороны революционной России от вероломного нападения милитаристской Германии.
23 февраля днем я снова побывал у Ленина. Он принял меня в своем кабинете, скромно обставленной комнате в Смольном, хорошо известной теперь миллионам трудящихся.
Я доложил Владимиру Ильичу, что «разведывательные группы» уже высылаются так же, как и поддерживающие их отряды. Вероятно, речь моя была полна привычных военных терминов, вроде «срочных донесений», «оперативных сводок», «соприкосновения с противником» или «разведки боем».
— Все это очень хорошо, — похвалил меня Ленин и, неожиданно усмехнувшись и хитро прищурившись, сказал: — А все-таки ваше военное дело часто походит на какое-то, жречество.
— Извините, Владимир Ильич, — обиженно возразил я. — Военная наука так же точна, как и всякая другая точная дисциплина. Во всяком случае у нас, в России, мы располагаем отлично разработанной военной теорией. В частности, Владимир, Ильич, в области стратегии, — запальчиво продолжал я, — мы имеем такого непревзойденного знатока, как генерал Леер, а в тактике — генерал Драгомиров. И, наконец, Милютин дал нам блестящие образцы того, что касается устройства войск.
— Я не отрицаю значения военной науки, — уже серьезно сказал Ленин, — но, по правде говоря, я больше занимался экономическими, вопросами.
Он спросил у меня что написал Леер. Я тут же расхвалил трехтомную его «Стратегию», и Владимир Ильич заинтересованно сказал, что обязательно ознакомится, с этим трудом.
Он сдержал свое обещание и, как передавал мой брат, попросил кого-то из сотрудников достать для него учебник Леера.
Ленин, как я впоследствии убедился, отлично разбирался в основных военных вопросах и особенно в характере и обстоятельствах участия России в первой мировой войне. Работать с ним было легко и даже радостно. Владимир Ильич умел, как никто, слушать и делал это так, что я, например, ощущал душевный подъем после каждого своего доклада, независимо от того, принимал Ленин или не принимал мои предложения. Это уменье сказывалось прежде всего в сосредоточенном внимании, с которым тебя выслушивал Владимир Ильич, в глубоком понимании вопроса, о котором говорили его реплики, во всей той непередаваемой словами атмосфере простоты, товарищества и уважения к каждому, кто с ним работает, которая была присуща приему у первого председателя Совета народных комиссаров.
Пока усилиями петербургских рабочих налаживалась оборона столицы на дальних к ней подступах и создавался фронт Нарва — Чудское озеро — Псков — Себеж, на Юге страны сложилось крайне неблагоприятное положение.
Еще 9 февраля буржуазная Украинская Рада заключила с Германией сепаратный мир, и австро-германские войска начали занимать Украину, угрожая южной и западной границам Советской России.
21 февраля немцы, цинично заявляя о своем согласии на продолжение мирных переговоров, захватили Минск и Режицу. Еще через три дня были заняты Борисов, Ревель и Юрьев. Фактически Советская республика была блокирована от Финского залива до Дона. В самой Донской области уже группировались какие-то враждебные Советам силы.
Первоначально возникшие фронты Северный и Западный вскоре пополнились третьим; вновь возникший Южный фронт спустя некоторое время протянулся через Северный Кавказ и на востоке дошел до Волги…
Руководство, стремительно развивавшимися военными действиями лежало на Комитете, обороны. Заседания Комитета происходили ежедневно и начинались ровно в девять часов вечера. В назначенный час все мы, привлеченные Лениным бывшие генералы, являлись в Смольный. Я, как возглавлявший группу, характеризовал происшедшие за сутки изменения на фронтах и докладывал об отданных распоряжениях и ближайших планах.
Первое время в Комитет обороны входило несколько десятков политических деятелей, в том числе и представителей партии «левых эсеров». Такой состав Комитета делал его не очень пригодным для руководства фронтами. Вследствие чрезвычайной занятости Ленина, председательствовал в Комитете обычно не он, а Свердлов. Яков Михайлович был великим мастером этого дела и умел поддерживать необходимый порядок и деловую атмосферу даже в такой разношерстной и бесконечно говорливой аудитории, как та, которой мне приходилось теперь ежедневно докладывать.
Постоянная слабость российской интеллигенции — умение часами спорить по пустякам и говорить о чем угодно, лишь бы не показаться хуже кого-либо из спорщиков, превратилась после свержения самодержавия в стихийной бедствие. Никогда еще за всю многовековую историю Российского государства в нем так много и бестолково не спорили и не говорили, как после февральского переворота. Все ораторские ухищрения многоопытных парламентариев сделались вдруг достоянием чуть ли не всего многомиллионного населения бывшей империи. О регламенте никто не думал, остановить увлекшегося оратора было почти немыслимо. Столь, же трудно было, не дать слова и иному настырному человеку, в совершенстве овладевшему искусством парировать любые усилия председателя собрания, ограничивавшего его словесный зуд. Исчерпав для неудержного разглагольствования все положенное и не положенное ему время, неукротимый оратор получал слово и во второй, и в третий, и в четвертый раз, умело используя такие приемы, как выступление «в порядке ведения собрания» или «в порядке голосования», или «по мотивам голосования» и тому подобное.
Великая Октябрьская революция не сразу вогнала в русло этот нескончаемый словесный поток, столь характерный для эпохи «керенщины». Говорить по-прежнему продолжали много и, бестолково, и то же нескончаемое говорение шло бы и в Комитете обороны, если бы не революционный опыт и председательский талант Якова Михайловича.
И все-таки решать оперативные вопросы на таком многолюдном собрании было трудно. Привыкший к скупым и точным докладам у главнокомандующих, я немало тяготился обстановкой, в которой приходилось теперь работать.
К вящему моему удовольствию, после нескольких таких, затянувшихся до утра заседаний Свердлов сказал мне, что придется подумать о том, чтобы создать для руководства военными действиями не столь многочисленную и куда более гибкую организацию. Видимо, по его просьбе, на одно из заседаний Комитета обороны пришел и Владимир Ильич. Спустя день, судьба Комитета была решена: он был распущен, и на его место 4 марта 1918 года был создан Высший Военный Совет в составе Троцкого (председатель), Подвойского (член Совета) и меня (военный руководитель). Вскоре в Высший Военный Совет был введен Склянский (заместитель председателя) и в качестве членов несколько большевиков и даже один левоэсеровский лидер{50}.
При мне, как военном руководителе ВВС, был сформирован небольшой штаб в составе помощника военного руководителя Лукирского (на правах начальника штаба), генерал-квартирмейстера, а в дальнейшем начальника оперативного управления Сулеймана и начальника военных сообщений Раттеля.
Общее количество сотрудников штаба не превышало шестидесяти человек. Весь штаб, включая и его руководство, разместился в поезде, по-прежнему стоящем на путях Царскосельского вокзала, порой даже с прицепленным паровозом.
Перед нами были поставлены самые разнообразные задачи. Надо было ликвидировать натиск германских войск со стороны Нарвы и разбить «завесу» для прикрытия западной, южной и юго-восточной границ Республики. На нас же лежало и формирование уже объявленной декретом Красной Армии и руководство военными операциями на фронтах «завесы». Но и без того трудная работа военного руководства ВВС осложнялась ненужным параллелизмом.
Я уже упоминал о 1-м Польском корпусе, возглавлявшемся генералом Довбор-Мусницким. Во время похода красновских казаков на Петроград Керенский рассчитывал использовать Польский корпус для борьбы с большевиками. Сосредоточенный в районе Жлобина, корпус этот занял враждебную позицию по отношению к утвердившейся в России власти Советов, и Крыленко вынужден был сформировать при Ставке Революционный полевой штаб, которому и поручил борьбу с войсками Довбор-Мусницкого.
Изданный в конце 1917 г. приказ Крыленко так определял цели и задачи Полевого штаба:
«Революционный Полевой штаб при Ставке, — говорилось в приказе, — с участия вр. и. должность главковерха товарища Мясникова принял следующую форму организации, утвержденную обшеармейским, съездом:
Революционный Полевой штаб при Ставке разбивается на два отдела: отдел укомплектований и оперативный отдел.
Первый отдел — укомплектований — снабжает живой силой все внутренние фронты по требованию отдельных отрядов и народного комиссара по борьбе с контрреволюцией, действуя через Ставку, а в исключительных случаях — через фронты, но как в том, так и в другом случае от имени главковерха и с его ведома.
Второй отдел — оперативный — ведет операции»{51}.
Несмотря на приказ. Революционный Полевой штаб, как я уже рассказывал, повел свою работу независимо от Ставки.
Так, наряду с тем штабом, который сформировался при Высшем Военном Совете, начал работать и второй — Полевой. Оба штаба руководили военными действиями с той только разницей, что мы занимались борьбой с германской армией, а Полевой — операциями на уже образовавшемся внутреннем фронте.
Некоторое время спустя Революционный полевой штаб перебрался в Москву и, слившись с оперативным отделом штаба Московского военного округа, превратился в сделавшийся широко известным в стране «Оперод».
«Оперодом», или оперативным отделом Hapковоенмора, заведовал бывший штабс-капитан С. И. Аралов старый революционер, участник баррикадных боев на Пресне.
С Семеном Ивановичем у меня установились вполне товарищеские отношения, но параллелизм в нашей работе обозначился еще резче, нежели это имело место при существовании Революционного полевого штаба.
Решив, что мы, бывшие генералы, признавшие советскую власть, считаем. своей задачей только борьбу с немцами, «Оперод» взял на себя руководство операциями не только против Каледина и чехословаков, — но и против тех же немцев. Не довольствуясь оперативным руководством, возглавлявшие «Оперод» товарищи занялись вопросами снабжения, подбора командиров, посылки на фронт комиссаров и агитаторов и в какой-то мере превратились в Генеральный штаб Красной Армии. Народ в «Опероде» подобрался молодой, энергичный, фронтовая публика, явно предпочитала иметь дело с ним, а не с чопорными «старорежимными генералами» из ВВС. «Оперодом», наконец, живо интересовался Ленин, и все это немало обескураживало меня.
Будущие комсомольцы (тогда еще члены Союза молодежи III Интернационала) создавали в «Опероде» далеко не штабную атмосферу. С. И. Аралов в своих воспоминаниях пишет об эпизоде с одним из таких комсомольцев, неким Гиршфельдом. Очень способный и энергичный, он выполнял боевые срочные поручения по формированию отрядов, передавал секретные поручения на фронты. Однажды ночью он дежурил. Телефонный звонок: «Говорит Ленин. Ко мне пришли с фронта, и требуют немедленно их снабдить оружием и боеприпасами из оружейных складов в Кремле. Что мне с ними делать? Припасов у меня нет». Гиршфельд ответил: «Пошлите их к черту!» — «Хорошо, пошлю, — сказал Ленин, — но только пошлю их к вам».
На другой день, — рассказывает Аралов, — мне пришлось быть у Ленина. Он сказал: «Какой у вас строгий дежурный, — кажется, он комсомолец? Разъясните ему, что надо быть внимательным к каждому приезжему с фронта». Гиршфельд потом оправдывался и говорил, что не узнал голоса Ленина.
Лишь много позже, когда Высший Военный Совет был преобразован в Революционный Военный Совет Республики, а его штаб развернулся в штаб Главнокомандующего всеми вооруженными силами, «Оперод» влился в него и прекратил свое существование…
Вернусь, однако, к тому, как мы, военное руководство ВВС, справлялись с поставленными перед нами Лениным и Центральным Комитетом партии сложными задачами.
Спустя несколько дней после того, как были созданы первые «разведывательные группы», положение в районе Нарвы относительно прояснилось. Оказалось, что германские войска заняли лишь часть города, расположенную на левом берегу{52} реки Наровы. Только немецкие разъезды, поддержанные небольшим количеством пехоты, продвинулись к Петрограду и дошли до Гатчины; пехота же рассредоточилась в районе Веймарна.
Точным данным этим мы были обязаны не нашим «разведывательным группам», а мужеству и патриотизму рядовых советских людей. Так, чиновник нарвской почтово-телеграфной конторы как-то вызвал меня к прямому проводу и сообщил, что контора вынуждена была эвакуироваться на правый берег Наровы.
Наши «разведывательные группы» тем временем зашли в тыл противника и занялись разведкой на фронте Нарва-Себеж; из Петрограда же по железной дороге были уже переброшены на фронт и «поддерживающие отряды».
Надо было наладить управление всеми этими группами и отрядами, но… в моем распоряжении не было ни одного свободного генерала или штаб-офицера, которому можно было бы поручить эту сложную работу.
Выручил счастливый случай. В тот момент, когда я раздумывал, кого из ответственных сотрудников моего небольшого штаба можно с наименьшим ущербом для дела снять и поставить на руководство Нарвским фронтом, ко мне в вагон нежданно-негаданно заявился бывший генерал Парский{53}.
— Михаил Дмитриевич,- начал он, едва оказавшись на пороге, — я мучительно и долго размышлял о том, вправе или не вправе сидеть, сложа руки, когда немцы угрожают Питеру. Вы знаете, я далек от социализма, который проповедуют ваши большевики. Но я готов честно работать не только с ними, но с кем угодно, хоть с чертом и дьяволом, лишь бы спасти Россию от немецкого закабаления…
Парский был взволнован, голос его сорвался, и он беспомощно замолчал.
— Вы явились, как нельзя кстати, Дмитрий Павлович, — обрадовано сказал я. — Беритесь за Нарвский фронт.
Генерала Парского я знал по Северному фронту, когда незадолго до Октябрьской революции он командовал 12-й армией, занимавшей участок фронта от Якобштадта до Риги. Был он, с моей точки зрения, отличным генералом, хорошо знавшим солдата и понимавшим его душу, искусным в ведении боевых операций и достаточно настойчивым, чтобы не растеряться от необычных условий, в которые должна была поставить его служба в только что возникшей Красной Армии.
В искренности Дмитрия Павловича я не сомневался, да ему не было никакого расчета притворяться — молодая Советская республика переживала едва ли не самое трудное свое время.
Рассказав Парскому, что уже сделано для отражения германского вторжения, я предложил ему принять командование вновь возникшим фронтом. Он задал еще несколько торопливых вопросов, относящихся к позиции Ленина и большевистской партии в возобновившейся войне с Германией. Я категорически заверил его, что Владимир Ильич стоит за самый беспощадный отпор наступающим на Петроград немецким дивизиям, и Парский дал свое согласие.
Связавшись по телефону с братом, все эти дни занимавшимся формированием и отправлением отрядов на фронт, я рассказал ему, что наконец-то первый боевой генерал предложил нам свои услуги.
— Думаю, что за ним пойдут и другие, — сказал я. — Мне кажется, что разумнее всего назначить его командующим Нарвским боевым участком. Переговори с Владимиром Ильичом и скажи, что я всячески поддерживаю эту кандидатуру. Уже потому, что никакой другой нет, — пошутил я и предупредил брата, что направляю к нему Парского.
Попросив Дмитрия Павловича проехать в Смольный, я занялся теми неотложными делами, с которыми не мог бы справиться, если бы сутки и насчитывали втрое больше часов.
Не помню уже, какой характер носил разговор Владимира Дмитриевича с Лениным относительно посланного мною генерала. Но кандидатура его не вызвала возражений, и на следующий день Парский с небольшим штабом выехал в район, где действовали порученные ему отряды.
Отряды эти уже продвинулись до Ямбурга{54}. Прибыв на место, Парский вступил в командование и по обычаю всех боевых начальников ознакомился с нашими и неприятельскими силами и со сложившейся на боевом участке обстановкой. Оказалось, что выдвинутая на поддержку своих разъездов германская пехота, натолкнувшись на неожиданное сопротивление, растерялась и отходит к городу Нарве.
Одновременно с назначением Парского из Гельсингфорса через Петроград на Нарвский фронт двинулся отряд моряков под командованием Дыбенко, бывшего председателя Центробалта.
Рослый, плечистый, с черной бородой на красивом лице, двадцативосьмилетний Дыбенко, еще в двенадцатом году вошедший в большевистскую партию, пользовался большим авторитетом среди революционных матросов и сразу асе начал играть видную роль в Кронштадте, переживавшем вслед за падением царизма полосу бурного подъема. Рядовой матрос царского флота, он в дни Октябрьского вооруженного восстания командовал матросским отрядом, дравшимся с красновскими казаками под Пулковом и очистившим Гатчину. Кронштадтскими матросами же Дыбенко был выбран в Учредительное собрание. Но со времени Октябрьского штурма прошло четыре месяца, и, ознакомившись с отрядом Дыбенко, едва он прибыл в Петроград, я впал в известное уныние. Отряд мне очень не понравился, было очевидно, что процесс разложений старой царской армии, как гангрена, поразил и военных моряков, которых еще совсем недавно и притом вполне справедливо называли «красой и гордостью революции».
Рядом с теми моряками, которые были и остались наиболее надежными и стойкими бойцами социалистической революции, нашлись матросы Балтийского флота, докатившиеся ко времени немецкого наступления на Петроград до организации анархистских, а то и заведомо бандитских групп.
Разложение это чуть не погубило анархиствовавшего в то время матроса Железнякова, являвшегося председателем комитета части. Погибший позже на юге России и стяжавший себе бессмертную славу, Железняков нашел в себе, как и большинство его товарищей, нравственные силы порвать со скатывавшейся в прямую уголовщину «братвой», и отдать себя вооруженной борьбе с контрреволюцией.
Отряд Дыбенко был переполнен подозрительными «братишками» и не внушал мне доверия; достаточно было глянуть на эту матросскую вольницу с нашитыми на широченные клеши перламутровыми пуговичками, с разухабистыми манерами, чтобы понять, что они драться с регулярными немецкими частями не смогут. И уж никак нельзя было предположить, что такая «братва» будет выполнять приказы «царского генерала» Парского.
Мои опасения оправдались. Не успел отряд Дыбенко войти в соприкосновение с противником, как от Парского пришла телеграмма о возникших между ним и Дыбенко трениях. Вдобавок матросы начали отступать, как только оказались поблизости от арьергарда, прикрывавшего отход немцев к Нарве.
Позже, когда специальный трибунал разбирал дело о позорном поведении отряда, выяснилось, что вместо борьбы с немцами разложившиеся матросы занялись раздобытой в пути бочкой со спиртом.
Встревоженный сообщением Парского, я подробно доложил о нем Ленину. По невозмутимому лицу Владимира Ильича трудно было понять, как он относится к этой безобразной истории. Не знал я и того, какая телеграмма была послана им Дыбенко. Но на следующий день утром, всего через сутки после получения телеграфного донесения Парского, Дыбенко прислал мне со станции Ямбург немало позабавившую меня телеграмму:
«Сдал командование его превосходительству генералу Царскому», — телеграфировал он, и, хотя отмененное титулование это было применено явно в издевку, в штабе пошли ехидные разговоры о том, что Дыбенко, якобы потрясенный тем, что сам Ленин выступил на защиту старорежимного генерала, с перепугу назвал его привычным превосходительством».
Всю гражданскую войну революционные матросы врались, как львы, против белых и интервентов, и приходится пожалеть, что о доблести и героизме бессмертных матросских отрядов все еще так мало написано.
Мне не пришлось участвовать в обороне красного Питера, в которой доблестные наши балтийцы сыграли такую выдающуюся роль. Разложение некоторой части военных моряков не бросает тени на героические матросские отряды, замечательные традиции которых перешли в морскую пехоту, прославившую себя во время Великой Отечественной войны
Примечания
{50} В таком составе Высший Военный Совет существовал с 18 марта 1918 г
{51} «Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов» №240 (247) от 30.XII. 1917 г.
{52} Западном
{53} Парский Дмитрий Павлович (1984-1921), генерал старой армии. Накануне Октябрьской революции командовал 12-й армией. После октября перешел на сторону Советской власти. Был военным руководителем советских отрядов, обороняющих Нарву, позже 0военным руководителем и командующим войсками Северного фронта. С декабря 1918 г. — председатель комиссии по выработке уставов Красной Армии и ответственный редактор военно-исторической комиссии. В 1920 г. подписал известное обращение к офицерам царской армии.
{54} Ныне г. Кингисепп
Глава шестая
Успешные действия отряда Парского. —Слухи о немецком морском десанте. —Мой рапорт о необходимости переезда правительства в Москву и резолюция Ленина. —Отъезд Владимира Ильича из Петрограда. —Посулы союзников и переписка с маршалом Жоффром. —Мои встречи с Сиднеем Рейли. —Попытка подставить Балтийский флот под удар немецких подводных лодок. —Троцкий и ВВС. —Ленин — руководитель обороны Республики. —Развертывание «завесы». —«Завеса» как способ привлечения в Красную Армию бывших генералов и офицеров.
Вскоре отряд Дыбенко был отозван с нарвского направления и, после переформирования и основательной чистки, направлен на другой фронт.
Прикрываясь арьергардом, немецкие войска отошли на левый берег Наровы и по мере приближения отряда Парского оттянули туда все свои части. Подойдя к Нарове, Парский занял часть города, расположенную на правом берегу, и обосновался вдоль реки на довольно значительном ее протяжении.
На нарвском направления установилось полное равновесие. Оставалось только для обеспечения подступов к Петрограду протянуть «завесу» дальше на юг, что и было сделано с помощью нескольких новых «разведывательных групп» и «поддерживающих отрядов». Все эти отряды составили Северный участок «завесы» под общим командованием Парского, позже, уже в разгар гражданской войны, умершего от сыпного тифа.
Но если за нарвское направление мы могли быть спокойны, то близкий, к столице Финский залив начал вызывать у нас все большую тревогу. Появились слухи и некоторые признаки того, что немцы готовят морской десант, с помощью которого попытаются захватить Петроград, прикрываясь вошедшей в Финский залив эскадрой.
Опыт работы моей в должности начальника штаба 6-й армии, а затем и Северного фронта, отличное знание района возможного германского десанта, старые мои, наконец, связи по линии контрразведки, хотя и переставшие формально существовать, но сохранившие кое-кого из опытных офицеров и агентов, — все это позволило мне сделать безошибочный вывод о намерении германского генерального штаба использовать появившийся в ближайших водах Балтийского моря немецкий флот для операций по захвату Петрограда.
Насколько я правильно угадал намерения немцев, видно по опубликованным много позже воспоминаниям генерала Людендорфа, начальника штаба главнокомандующего германскими вооруженными силами в конце первой мировой войны{55}. В воспоминаниях этих Людендорф подтверждает, что операция захвата Петрограда со стороны Финского залива намечалась на апрель 1918 года, когда, по расчетам германского командования, должен был быть занят Гельсингфорс. Однако к этому времени захват покинутой Советским правительством столицы не представлял для немцев интереса;
Разгадав замыслы германского командования, я поспешил доложить о них Владимиру Ильичу, тем более, что, по установленному Лениным распорядку, мне было предоставлено право делать ему через день личные доклады.
— Владимир Ильич, — стараясь не показывать владевшего мною волнения, сказал я, — правительство, находящееся в Петрограде, является магнитом для немцев. Они отлично знают, что столица защищена только с запада и с юга. С севера Петроград беззащитен, и высади немцы десант в Финском заливе, они без труда осуществят свои намерения.
Это мое заявление, как потом я узнал от брата, совпало с мнением Владимира Ильича, который, принимая во внимание всю совокупность условий работы, считал, что Советскому правительству лучше находиться в Москве.
Спокойно выслушав мои соображения, Владимир Ильич окинул меня, когда я кончил, испытующим взглядом и, что-то решив, сказал:
— Дайте мне об этом письменный рапорт.
Я присел за письменный стол Ленина и написал на имя председателя Совета народных комиссаров рапорт такого содержания: «Ввиду положения на германском фронте, считаю необходимым переезд правительства из Петрограда в Москву».
Прочитав рапорт, Владимир Ильич при мне надписал на нем свое согласие на переезд правительства в Москву. Позже брат говорил мне, что эта резолюция Владимира Ильича на моем рапорте была первым письменным распоряжением Ленина, связанным с переездом.
Простившись с Владимиром Ильичом, я вышел в просторный коридор Смольного и тут неожиданно вспомнил о том, как два с небольшим года назад, получив «высочайшую аудиенцию» у императрицы Александры Федоровны, проделал нечто подобное тому, что только что произошло в кабинете Ленина.
И тогда в ответ на доклад о трудном положении Северного фронта мне было предложено тут же написать об этом рапорт; и тогда, как и сейчас, это было сделано мной за письменным столом того, кому я только что докладывал…
С необычной остротой я вдруг подумал о том, как переменился мир за это короткое время, и тут только по-настоящему ощутил, какой трудный поворот совершился в моем сознании. Путь от личного доклада истеричной и злобной императрице до такого же личного доклада главе первого в истории человечества рабоче-крестьянского правительства был проделан мною как-то почти неприметно для меня самого. И только здесь, в Смольном, расставшись с Владимиром Ильичом, я невольно задал себе вопрос:
— А кто ты, в конце концов, уважаемый генерал, или, вернее, бывший генерал Бонч-Бруевич? «Слуга двух господ»; ловкий приспособленец, готовый ладить с любой властью, или человек каких-то принципов, убеждений, способный по-настоящему их отстаивать?
Тотчас же со всей внутренней честностью я признался себе, что судьба нового Советского правительства волнует меня до глубины души, что никакого интереса давно уже не вызывает во мне участь Николая II и его семьи, находящихся в тобольской ссылке; что моя судьба навсегда связана с той новой жизнью, которая рождалась на моих глазах и при моем участии в таких неизбежных и жестоких муках…
Как я узнал позже, Ленин в тот же день на закрытом заседании Совнаркома сообщил о необходимости переезда правительства в Москву всем собравшимся наркомам. Члены Совнаркома единодушно присоединились к мнению Владимира Ильича, а также без возражений приняли сделанное им указание о необходимости держать решение о переезде строжайшем секрете. По сведениям, которыми располагала «семьдесят пятая» комната Смольного, все еще выполнявшая кое-какие функции позже созданной Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, эсеры решили взорвать поезд правительства, эвакуацию которого из столицы надо было рано или поздно ожидать.
Организация переезда правительства в Москву была поручена моему брату и, надо полагать, не столько как управляющему делами Совнаркома, сколько как человеку, с первых дней Октябрьской революции возглавлявшему ту борьбу с контрреволюцией, которую провела известная уже в Петрограде комната номер семьдесят пять.
Переезд правительства в Москву описан моим братом{56}. Коснусь лишь самого существенного в этой трудной операции. Для того, чтобы сбить с толку правых эсеров, замышлявших взрыв поезда, и помешать возможным диверсиям со стороны тайных офицерских организаций, во множестве расплодившихся уже в Пётрограде, брат умышленно сообщил навестившей его с явно разведывательной целью «делегации» эсеровско-меньшевистского Викжеля, что правительство «хочет переехать на Волгу», и взял с них слово, что они сохранят это намеренье в секрете.
Несложный ход этот дал нужные результаты. «Деятели» Викжеля поспешили раззвонить по всему Петрограду, что Совет народных комиссаров бежит на Волгу.
Зная, что членам ВЦИКа, среди которых было много левых эсеров, никакие диверсии не угрожают, Владимир Дмитриевич распорядился приготовить для них на Николаевском вокзале два пышных состава из царских вагонов и этим пустил диверсантов по ложному следу.
Погрузка же правительства была произведена в полнейшей тайне на так называемой Цветочной площадке Николаевской железной дороги. Ленин покинул Смольный только за полчаса до отправления специального поезда, назначенного на десять часов вечера. С Цветочной площадки поезд этот отошел с потушенными огнями. Задержав один из составов, с членами ВЦИК, брат приказал пропустить поезд правительства между ними. Кто находился в этом поезде, никому, кроме особо доверенных товарищей, не было известно. Наконец, правительственный поезд надежно охранялся латышскими стрелками, снабженными пулеметами.
Ленин и остальные члены правительства выехали из Петрограда 10 марта и прибыли в Москву только вечером 11-го.
Переезд прошел благополучно, если не считать, что в Вишере охранявшему правительственный поезд латышскому отряду пришлось разоружить эшелон с дезертировавшими из Петрограда матросами.
Несмотря на то, что германские разъезды и поддерживавшая их пехота были оттеснены и от Нарвы и от Пскова, от немцев можно было ждать любых неожиданностей. Поэтому, чтобы обезопасить намеченный братом правительственный маршрут со стороны фронта, я решил двинуть поезд также перебиравшегося в Москву Высшего Военного Совета не по Николаевской железной дороге, а кружным путем через Дно, Новосокольники, Великие Луки и Ржев. Оказавшись таким образом как бы в боковом авангарде по отношению к поезду правительства, я использовал свой переезд и для личного ознакомления с отрядами «завесы».
Пока поезд Высшего Военного Совета добирался до Москвы, на ближайшие к отрядам железнодорожные станции были вызваны начальники этих отрядов, и, заслушав их доклады о положении на фронте, я еще раз убедился, насколько оправдала себя идея «завесы».
После нескольких дней пребывания Владимира Ильича в гостинице «Националь», он, управление делами Совнаркома и наркомы разместились в пустующем, порядком побитом и захламленном юнкерами во время октябрьских боев древнем Московском Кремле. Штабной же наш поезд остался на запасном пути Александровского вокзала, и долго еще Высший Военный Совет заседал в моем вагоне.
Перед тем, однако, как перейти к деятельности Высшего Военного Совета в Москве, мне хочется кое-что рассказать об его кратковременном, но крайне напряженном петроградском периоде.
Не успел мой поезд прибыть в Петроград, как ко мне зачастили всякого рода представители еще недавно союзных с Россией стран.
Назначение военным руководителем высшего военного органа генерала, хорошо известного иностранным атташе, да и самим послам, не могло не внушить многим из них надежду использовать меня в качестве человека, сочувствующего Антанте и готового во имя этого сочувствия пойти на любые сделки со своей совестью.
Между тем отношение мое к бывшим союзникам России уже давно можно было характеризовать только как недоброжелательное и даже враждебное.
Уж кому-кому, а мне было хорошо известно, насколько верховное командование царской армии подчиняло военные интересы России выгодам и стратегическим преимуществам Англии и Франции. Крупнейшие операции русской армии, стоившие ей многих тысяч солдат и офицеров, замышлялись и проводились в интересах союзников, часто только для того, чтобы заставить германское командование снять с Западного фронта наибольшее количество дивизий и перебросить их на Восточный против наступающих русских войск.
И при великом князе Николае Николаевиче и при царе Ставка с возмутительной беспринципностью жертвовала русскими интересами во имя так называемого союзнического долга. Гибельное вторжение 1-й и 2-й армий в Восточную Пруссию в начале войны, Лодзинская операция, знаменитый Брусиловский прорыв и даже бесславное июньское наступление, предпринятое уже Керенским, — все это преследовало только одну цель — выручить попавших в тяжелое положение союзников.
И Англия и Франция не скупились на посулы. Но обещания оставались обещаниями. Огромные жертвы, которые приносил русский народ, спасая Париж от немецкого нашествия, оказались напрасными — те же французы и англичане с редким цинизмом фактически отказывали нам во всякой помощи.
Помню, еще в штабе Северо-Западного фронта мне пришлось составить письмо, адресованное маршалу Жоффру. В письме этом мы деликатно напоминали о тяжелой артиллерии, обещанной нам маршалом, но так и не полученной.
В своем ответе Жоффр рассыпался в пустопорожних комплиментах вроде того, что «русская армия вплела золотые страницы в историю», но этим и ограничился. Точно так же вели себя и англичане, умышленно закрывавшие глаза на невыполнение фирмой «Виккерс» ее договорных обязательств.
После Великой Октябрьской революции союзники распоясались. Хотя до открытого нападения на молодую Советскую Республику еще не дошло, антисоветских тенденций своих союзники не скрывали и сделали все для мобилизации любых сил отечественной контрреволюции.
Зная о враждебном отношении к Советской России ищущих дружбы со мной иностранных атташе и сотрудников посольств, я был очень осторожен и, встречаясь с ними по службе, каждый раз докладывал на Высшем Военном Совете о тех разговорах, которые вынужден был вести.
Среди зачастивших ко мне иностранцев был и разоблаченный впоследствии профессиональный английский шпион Сидней Рейли, неоднократно являвшийся ко мне под видом поручика королевского саперного батальона, прикомандированного к английскому посольству.
Рейли прекрасно говорил по-русски и был, как выяснилось много лет спустя, уроженцем России. Родился он в Одессе а лишь по отцу — капитану английского судна -мог считать себя ирландцем. По другим версиям, ирландцем Рейли сделался благодаря своему браку на дочери ирландского дворянина.
Полиглот и великолепный актер, он во время русско-японской войны подвизался в Порт-Артуре и занимался шпионажем в пользу Японии. В годы первой мировой войны Рейли под видом немецкого морского офицера проник в германский морской штаб и выкрал секретный код.
Ко мне Рейли явно тяготел и всячески пытался создать со мной какие-то отношения. Однажды он пришел ко мне с предложением разместить наши дредноуты и некоторые другие военные корабли на Кронштадтском рейде по разработанной им схеме.
— Вы знаете, господин генерал, — сказал он, щеголяя своим произношением, лестным даже для коренного москвича или тверяка, — что к России я отношусь, как к своей второй родине. Интересы вашей страны и ее безопасность волнуют меня так же, как любого из вас. Предстоящий захват немцами Финляндии для вас не секрет. Кстати, он уже начался. Чутье опытного и талантливого полководца, — польстил он, — подсказывает вам, что возможность германского десанта не исключена. Поэтому меня больше всего беспокоит судьба вашего Балтийского флота. Оставаться ему в Кронштадте на старых якорных стоянках нельзя, — вы это понимаете лучше меня. Вот поглядите, Михаил Дмитриевич, — бесцеремонно обращаясь ко мне по имени-отчеству, продолжал Рейли, — на всякий случай я нарисовал эту схемку. Мне думается, если корабли расположить так, как это позволит рейд Кронштадта, то…
Вручив мне старательно сделанную схему с обозначением стоянки каждого броненосца и с указанием расположения других кораблей, он начал убеждать меня, что такая передислокация большей части нашей эскадры обеспечит наилучшее положение флота, если немцы, действительно, предпримут наступательные операции со стороны Финского залива.
Еще до появления в моем вагоне Рейли с его неожиданным предложением ко мне зачастили бывшие наши морские офицеры. Основываясь на доверии, которое им внушало мое генеральское прошлое, они довольно откровенно излагали свое возмущение «большевистским сбродом» и, касаясь возможного захвата и уничтожения Балтийского флота немецкими морскими силами, подобно Рейли предлагали изменить расположение наиболее мощных кораблей на Кронштадтском рейде.
Внимательно рассмотрев предложенную Рейли схему, нанесенную им для большей убедительности на штабную десятиверстку, я понял, что и он и навещавшие меня морские офицеры преследуют одну и ту же предательскую цель — подставить стоившие многих миллионов рублей линкоры и крейсера под удар германских подводных лодок.
Доложив обо всем этом Высшему Военному Совету, я отдал распоряжение часть судов, входивших в состав Балтийского флота, ввести в Неву и, поставив в порту и в устье реки ниже Николаевского моста, то есть совсем не так, как это предлагал Рейли, сделать их недостижимыми для подводных лодок, неспособных пользоваться Морским каналом.
Несмотря на то, что план его провалился, Рейли продолжал изобретать предлоги для того, чтобы посетить мой вагон. Я перестал его принимать, а секретарям ВВС, к которым все еще наведывался подозрительный английский сапер, запретил всякие с ним разговоры. Сообщил я о сомнительном иностранце и моему брату.
Вскоре Рейли исчез из Петрограда, поняв, очевидно, что сделался предметом пристального внимания со стороны уже поднаторевших в борьбе с контрреволюцией сотрудников знаменитой комнаты номер семьдесят пять.
В Москве ко мне он уже не заходил, и о преступной деятельности его я узнал лишь из дела английского консула Локкарта, организовавшего вместе с лжесапером заговор против Советского правительства.
Заговорщики переоценивали «ненадежность» царских генералов и офицеров, состоявших на службе в Красной Армии; из сделанной ими попытки подкупить командира латышских стрелков, охранявших Кремль, ничего, кроме международного скандала, не получилось.
Во главе Высшего Военного Совета, как я уже говорил, был поставлен Троцкий. Однако степень участия его в работе была весьма незначительной, а влияние его на деятелей Совета и руководство организовавшимися уже фронтами — проблематично.
Он наведывался в мой вагон — чаще в Петрограде, и реже в Москве — и председательствовал, на заседаниях Высшего Военного Совета с тем особым удовольствием, которое всегда давало ему хоть малейшее проявление власти. Но и к докладам моим на Совете и к делам, с которыми я его знакомил, он относился равнодушно, и я не раз замечал откровенную скуку в глазах Троцкого, когда вынужден бывал докладывать ему о чем-нибудь подробно и обстоятельно.
Теперь, когда я вспоминаю первые недели работа Высшего Военного Совета, мне кажется, что Троцкого куда больше занимало, что он возглавляет высший военный орган в стране, нежели та упорная и настойчивая работа, которую проводили мы, чтобы хоть как-нибудь приостановить вражеское нашествие.
В мои военные распоряжения Троцкий не вмешивался. Только на очень важных моих приказаниях или приказах он писал внизу карандашиком: «читал, Троцкий» и предупреждал, чтобы, отправляя эту прочитанную им бумагу, я обязательно стирал его подпись.
Если в первые дни существования Высшего Военного Совета Троцкий еще являлся на заседания, то в Москве все чаще и чаще на Совете председательствовал кто-нибудь из его заместителей.
Своего равнодушного отношения к конкретному военному делу Троцкий не только не скрывал, но порой даже афишировал его и всем своим поведением старался дать понять окружающим, что его прямая обязанность делать высокую, политику, а не заниматься какими-то там техническими военными вопросами.
Как-то мы, члены Высшего Военного Совета, попросили Троцкого информировать нас о положении страны и рассказать, с кем нам придется, по его мнению, драться в ближайшее время.
Троцкий согласился сделать на Высшем Военном Совете сообщение, и потребовал, чтобы в зале особняка, в котором обычно мы заседали, была повешена карта Европы.
Наклеенная на полотно и снабженная двумя палками, стереотипная школьная карта эта была реквизирована кем-то из комендантов ВВС в одной из ближайших гимназий, и Троцкий, вооружившись Школьной указкой, начал рассказывать нам о прописных истинах, которые любой из нас давно знал.
Смешно отрицать острый ум Троцкого и его ораторский талант. Но он был настолько самовлюблен и упоен своей стремительней политической карьерой, что утерял правильное представление об окружающем. И даже мы, члены Высшего Военного Совета страны, составленного из опытных военных специалистов и отмеченных большими революционными заслугами партийцев-подполыциков, не представляли для него какого-нибудь интереса. И это отсутствие интереса к чему бы то ни было, не связанному с ним лично, заставило Троцкого непривычно мямлить. Он повторял прописные истины об англо-французских противоречиях и стремлениях США ограничить свое участие в мировой войне валютными операциями и широким развертыванием военной промышленности; говорил о давно известных связях и общности интересов монополистических фирм, производящих оружие.
Умей Троцкий подходить к себе критически, он понял бы, что жестоко провалился. Но, упоенный своей известностью и властью он не обратил внимания ни на наши скучающие лица, ни на бросающееся в глаза отсутствие у нас интереса к его докладу.
Неудачным докладом этим и кончились попытки Троцкого руководить Высшим Военным Советом. И тут мне хочется рассеять одно обывательское, упорно сохранявшееся заблуждение. Почему-то заслуга оснащения Красной Армии военно-научной мыслью приписывалась Троцкому, в, то время как это делалось Владимиром Ильичом, и не только помимо, но часто и при прямом сопротивлении Троцкого — этого самого большого путаника в марксисткой науке. Во всяком случае, я, являвшийся в первые месяцы организации Красной Армии ее военным руководителем, ни разу не получил от Троцкого хоть какого-нибудь указания о том, как сочетать энтузиазм широких народных масс с обязательным опытом минувшей войны, как и не обнаруживал у него даже подобия интереса к военному делу. В то же время любой из мелких как будто вопросов, хотя бы о том, куда и на какую работу назначить превратившегося в военспеца бывшего генерала, охотно и вдумчиво решался Владимиром Ильичом.
Ленину, больше чем кому-либо, мы, старые военные специалисты, обязаны тем, что с первых дней революции разделили с народом его трудный и тернистый путь.
Еще до переезда правительства в Москву решено было направить в Двинск комиссию для переговоров с немцами о заключении мира. Вопрос об этом обсуждался с моим участием в доме бывшего военного министра на Мойке.
Хотя германское командование и подчеркивало свою готовность вести переговоры, неприятельские войска продолжали продвигаться вперед, давно оставив позади линию прежнего фронта.
Поэтому, независимо от посылки комиссии, решено было продолжать формирование отрядов и, всячески расширяя «завесу», создать такое положение на западной, южной и юго-восточной границах Республики, которое сделало бы невозможным дальнейшее продвижение в глубь страны германских и союзных с ними войск.
Сущность организации и службы «завесы» по моему проекту сводилась к следующему: в «завесу» входит пехота и артиллерия с придачей вспомогательных войск и технических средств; конница придается для действий впереди «завесы» (в качестве разведки) и для поддержания связи между частями. Вея «завеса», прикрывающая границы Республики, составляет два фронта: Северный — под командованием Парского и Западный под начальством генерала Егорьева{57}.
На каждом из фронтов должны быть прочно заняты районы и отдельные пункты на возможных путях германского наступления. За открытыми промежутками между передовыми частями «завесы» укрыто от взоров и выстрелов противника располагаются «поддержки», имеющие связь как между собой, так и с передовыми отрядами. Местность в предполье передовых отрядов должна непрерывно освещаться войсковой разведкой, а в случае надобности — самими отрядами и даже «поддержками».
Передовые отряды и «поддержки» по мере выдвижения их в «завесу» образовывали боевой участок. Начальник такого участка подчинялся непосредственно командующему фронтом «завесы».
Смысл «завесы», однако, заключался не только в том, что с ее помощью прикрывались границы Республики. Она являлась в то время едва да не единственной организацией, приемлемой для многих генералов и офицеров царской армии, избегавших участия в гражданской войне, но охотно идущих в «завесу», работа в которой была как бы продолжением старой военной службы.
В вагоне моем постоянно бывали знавшие меня по совместной службе генералы и офицеры, и почти с каждым из них приходилось вести одни и те же порядком надоевшие разговоры.
— Да вы, поймите, Михаил Дмитриевич, что не могу я пойти на службу к большевикам, — начинал доказывать такой офицер или генерал в ответ на предложение работать с нами, — ведь я их власти не признаю…
— Но немецкое-то наступление, надо остановить, — приводил я самый убедительный свой довод.
— Конечно, надо, — Соглашался он.
— Вот и отлично, — подхватывал я, — значит, согласны…
— Ничего я не согласен, — спохватывался посетитель, — да если я к большевикам на службу пойду, мне и руки подавать не будут…
В конце концов упрямец соглашался со мной и со всякими оговорками принимал ту или иную должность в частях «завесы». Привыкнув к новым, поначалу кажущимся невозможными условиям работы, большинство таких с трудом привлеченных к ней офицеров и генералов сроднились с Красной Армией и без всякого принуждения оставались на военной службе, когда отряды «завесы» были развернуты в дивизии и использованы в гражданской войне.
Таким образом, «завеса» явилась как бы способом привлечения старого офицерства в новую, постепенно формируемую армию. Офицеры и генералы эти и явились теми кадрами, без которых нельзя было сформировать боеспособную армию, даже при том новом и основном факторе, который обусловил победоносный путь Красной Армии — ее классовом самосознании и идейной направленности.
Примечания
{55} Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., т. 2, стр. 194.
{56} Влад. Бонч-Бруевич. На боевых постах. Москва, изд-во «Федерация», 1930, стр. 329.
{57} Юго-восточный фронт был сформировав позже.
Глава седьмая
Пороки царской армии. — Немецкая военная доктрина. — Формирование вооруженных сил Республики. — Создание Главной военной базы. — Проектируемая численность Красной Армии в один миллион человек. — Лозунг о доведении армии до трех миллионов. — Первые советские дивизии. — Декрет об обязательной военной службе.
Несмотря на очевидные свои преимущества, «завеса» являлась лишь временным мероприятием. Надо было остановить немецкое наступление, ведущееся, что называется, на фуфу, — и это «завеса» сделала. Но даже я, автор и энтузиаст этой не ахти уж какой блестящей идеи, отлично понимал, что на «завесе» в деле обороны молодой Советской Республики далеко не уедешь.
Консервативный по своим методам, привыкший действовать по раз навсегда установленным канонам германский генеральный штаб вряд ли предполагал, что несколько тысяч кавалеристов дадут ему возможность захватить Питер и поставить революционную Россию на колени. Не могли немецкие генералы и не учитывать доблести русского солдата.
Величайший русский писатель Лев Николаевич Толстой был не новичком в военном деле и, несмотря, на позор Крымской кампании, в которой он принимал личное участие, понимал и ценил бесспорные наши преимущества в военном деле — удивительные качества замордованного, никогда не евшего досыта и плохо вооруженного русского солдата.
Я никогда не был сторонником отечественного бахвальства и «шапкозакидательства». Достаточно познакомиться хотя бы с уставом, по которому с начала прошлого века вплоть до шестидесятых годов жила русская армия, для того, чтобы понять, в какие немыслимые условия был поставлен солдат в николаевской России. Два исконных российских зла — бюрократизм н казнокрадство в сочетании с исконным же очковтирательством не раз сводили на нет героические усилия русского солдата.
Солдат этот не только в годы Отечественной войны с французами, но и спустя сорок лет во время Севастопольской обороны форменным образом голодал. Противник имел уже на вооружении нарезные ружья, а наш солдат оборонялся при помощи гладкоствольного ружья, не поражавшего неприятеля и за дальностью расстояния и потому, что в угоду парадности ружье это было черт знает в каком состоянии. Для того чтобы на парадах, которым только и учили солдат, ружейные приемы звучали особенно гулко, ни один шуруп и ни одна гайка не были закручены на нем, неуклюжем и устаревшем ружье этом, до отказа…
Шагистика, которой так упоенно обучали не только в дореформенной но и в современной мне царской армии, ничего не давала солдату, когда он оказывался перед противником.
Удручающее состояние санитарной части превращало раненого солдата в мученика. Вспомним хотя бы мало изученную у нас историю возмутительного похода в Венгрию, предпринятого Николаем I в 1848 году, когда добрая треть брошенной на Тиссу армии вымерла от холеры; припомним, в каких условиях находились раненые и больные в том же Севастополе; подумаем, наконец, как зверски обращались с раненым и больным солдатом во время первой империалистической войны, и снова подивимся мужеству и стойкости нашего народа.
Не отличалась особым блеском и русская военная мысль, особенно, если иметь в виду тех, кто делал в армии погоду: командиров полков и дивизий, корпусные, армейские и фронтовые штабы с их интригами и беспринципностью, верховное руководство со стороны бездарного и малограмотного в военном отношении монарха.
И все-таки, несмотря ни на что, русская армия наряду с позорнейшими поражениями одерживала и блестящие победы. И если в основном обязана она ими удивительным национальным свойствам русского солдата, то известную роль играла и органические пороки и изнеженность поставленного под ружье англичанина, француза я даже немца, и постоянный разлад между членами антирусской коалиции, и особенности немецкой военной доктрины, своей обстоятельностью и псевдоученостью обычно подчинявшей себе союзников.
Не случайно Л. Н. Толстой так едко высмеял хваленое военное искусство немцев, изобразив в «Войне и мире» ограниченного и самовлюблённого генерала Вейротера с его пресловутой диспозицией.
«Die erste Kolonne marschirt… die zweite Kolonne marschirt… die dritte Kolonne marschirt»{58} — самозабвенно читал на Военном совете генерал Вейротер и нисколько не интересовался тем, что в действительном сражении все может произойти совершенно иначе…
Первые же донесения с Нарвского фронта помогли мне и моим помощникам разгадать планы германского командования.
Стало ясно: немцы были по рукам и ногам связаны самыми различными неблагоприятными для них обстоятельствами{59}. Обстановка на Западе становилась все более и более грозной для них, внутри Германии все резче обозначались признаки непреодолимой усталости, да и прямой контакт с революционной Россией не сулил для кайзеровской армии ничего доброго: «бацилла пораженчества» грозила проникнуть в нее. Поэтому германское командование волей-неволей обратилось к наиболее легкой тактике «запугивания», маскируя свою растущую слабость лихими кавалерийскими наскоками. На деле же оно никакими серьезными силами на угрожающих нам направлениях уже не располагало.
Тем не менее, успокаиваться на этом было бы крайне опасно; тем более, что в любой момент на смену немецкой интервенции могла возникнуть угроза интервенций со стороны вчерашних наших союзников, завтрашних победителей Германии — стран Антанты.
Новая опасность эта, нависшая над молодой Советской Республикой, требовала самых напряженных усилий. Поэтому Высший Военный Совет тотчас же вслед за созданием «завесы» поставил вопрос об организации и комплектовании, покамест на началах добровольчества, вооружённых сил Республики, достаточных для обороны страны.
Возможность интервенции намечалась и с запада — со стороны навязавших нам грабительский Брестский мир немецких милитаристов и со стороны войск Антанты: на севере — из Мурманска, на юге — Закавказья и Черного моря. Наконец, военная опасность грозила и на Дальнем Востоке — со стороны готовых высадиться во Владивостоке японских и американских войск. Намечался новый очаг войны, — но мы об этом ничего не знали, — и внутри страны, в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, где на железнодорожных путях стояли эшелоны завербованного генералом Жаненом чехословацкого корпуса.
Формирование вооруженных сил решено было производить по единому, принятому Высшим Военным Советом плану. Он предусматривал одновременное создание новых войсковых частей и должное размещение их на территории Республики, то есть стратегическое развертывание вооруженных сил.
Решено было одновременно же развертывать и «завесу», как армию прикрытия, и формировать дивизии главных сил и стратегического резерва{60}.
Пришлось решить вопрос и о базировании всех вооруженных сил, чтобы обеспечить их первоначальным и текущим снабжением всякого рода техническими средствами к всем необходимым для успешного ведения военных действий.
Огромное военное имущество, оставшееся от войны, находилось в Ярославле, Рыбинске, Минске и в значительных размерах в Петрограде. Благодаря провокационным действиям германской военщины все эти города и районы превратились в угрожаемые, и оставлять в них базу вновь формируемых вооруженных сил было бы преступно.
Главную военную базу ВВС решил, поэтому организовать между средней Волгой и Уральским хребтом. Конечно, никто из нас не мог в тот момент предположить, что чехословацкий, корпус поднимет контрреволюционный мятеж именно в этом районе.
Разрабатывая планы формирования и развертывания новой армии, мы исходили из того положения, что ни один из наших вероятных противников не сможет двинуть против нас крупные силы: ни политические, ни моральные, ни материальные условия не позволяли этого. Речь могла идти не столько о развернутой интервенции, сколько об ее попытках. Поэтому Высший Военный Совет установил численный состав формируемой Красной Армии в один миллион человек, считая командный и красноармейский строевой и нестроевой состав, все рода главных и вспомогательных войск и служб, входящих в армию прикрытия, в главные силы, стратегический резерв и обслуживание главной базы.
Дивизии армии прикрытия развертывались из участков «завесы» на местах их расположения. Формирование дивизий главных сил производилось по территориальному признаку, на месте набора или мобилизации с последующим выдвижением в районы сосредоточения.
Местность в тылу армии прикрытия предположено было подготовить в инженерном отношении в такой степени, чтобы маневрирование дивизий главных сил было обеспечено и по фронту ив глубину.
Предметом самой неотложной заботы Высшего Военного Совета стали и военные заводы и мастерские, оставшиеся от прежнего режима, — все они были намечены к эвакуации в район главной базы.
Академию Генерального штаба решено было перевести в Екатеринбург. Это было срочно сделано, и никому из членов Высшего Военного Совета и в голову не пришло, что спустя несколько месяцев Екатеринбург будет захвачен чехословаками и белыми. Еще меньше кто-либо из нас мог предположить, что в Екатеринбург из Тобольска, еще Керенским превращенного в место ссылки низложенного царя, будут перевезены Романовы и что именно среди офицеров Академии возникнет план освобождения из заключения Николая Романова и членов его семьи…
Разрабатывая план формирования миллионной армии, Высший Военный Совет не мог не подумать и о развертывании сети военно-учебных заведений типа упраздненных военных или юнкерских училищ, и о системе военных округов, и о переходе от принципов добровольчества к общеобязательной военной службе.
Все подробно разработанные Высшим Военным Советом планы я доложил Владимиру Ильичу. Это произошло уже в Москве. Ленин принял меня в своем Кабинете в Кремле в здании бывших судебных установлений, где он теперь не только работал, но и жил, на редкость скромно и, в сущности, так, как живал в ссылке или в эмиграции.
Кабинет Владимира Ильича был несколько более благоустроен, нежели та комната в Смольном, в которой я через день бывал у него с докладом. Здесь, в Москве, в кабинете Ленина оказались и отсутствовавшие в Питере кожаные кресла для посетителей (сам Владимир Ильич пользовался дачным, камышовым), и застекленные полки со столь необходимыми Ленину книгами, и несколько телефонных аппаратов, обеспечивавших председателю Совнаркома сравнительно сносную связь с наркоматами, Центральным Комитетом партии и всякого рода учреждениями, с которыми создатель нашего государства сносился непосредственно, отлично учитывая огромную, трудно преодолимую, косную силу российского бюрократизма.
Поколениям, которым не посчастливилось видеть Владимира Ильича при жизни, трудно представить себе Ленина живым, рядом с тобой, так, как видели его мы. Поражала удивительная простота Владимира Ильича. И вместе с тем он был чужд столь свойственной российской интеллигенции псевдодемократической позе.
Мне думается, самым характерным для Ленина было именно отсутствие всякой позы. Его, Владимира Ильича, меньше всего, должно быть, занимало, что о нем подумают и как истолкуют тот или иной его поступок.
Как всегда, нисколько не торопясь и с обязательной для него уважительностью выслушав мой доклад, Ленин одобрил все основные его положения.
— Сегодня это, видимо, лучшее решение вопроса об обороне Республики, — сказал он, голосом подчеркнув первое слово.
Об этой интонации Владимира Ильича я вспомнил спустя несколько месяцев, когда лозунг одномиллионной армии был им заменен приказом о создании армии трехмиллионной.
«Армия крепнет и закаляется в битвах с чехословаками и белогвардейцами, — писал Ленин в своем широко известном письме объединенному заседанию ВЦИКа, Московского Совета с представителями фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов 3 октября 1918 года. — Фундамент заложен прочно, надо спешить с возведением самого здания.
Мы решили иметь армию в 1000000 человек к весне, нам нужна теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. И мы будем ее иметь».
Ленин писал все это после убийства Володарского и Урицкого, после того как сам был равен отравленными пулями террористки Каплан, после поднятых Савинковым мятежей в Ярославле, Рыбинске и Муроме, после измены и мятежа входивших в правительство левых эсеров, писал в те грозные дни, когда иностранная интервенция и на севере, и на востоке, и на юге страны стала уже совершившимся фактом.
Я не понял, однако, что со времени, когда Владимир Ильич утвердил разработанный Высшим Военным Советом план одномиллионной армии, положение страны резко ухудшилось, а угроза потери завоеванной рабочим классом власти несоизмеримо возросла. Новый лозунг, с которым выступил Ленин и о котором возвещали уже расклеенные по Москве плакаты, показался мне неверным и даже ошибочным, несмотря на все мое уже определившееся преклонение перед Владимиром Ильичем.
Мне казалось, что трехмиллионная армия пока нам не нужна: что она поглотит скудные военные запасы Республики, не имеющей покамест промышленности для их восстановления. Начавшееся повсеместно усиленное формирование отрядов, полков и дивизий, сначала на началах добровольчества, а затем и по призыву, я считал ответом на ошибочное решение, не понимая того, что широкое распространение по стране контрреволюционных и интервентских войск не могло не вызвать лихорадочного вооружения рабочих масс.
Многочисленные и неизбежные трудности, стоявшие на пути создания Красной Армии, я относил больше за счет того, что разработанному Высшим Военным Советом, безукоризненному, как мне казалось, плану формирования миллионной армии предпочли непродуманный лозунг непосильной для страны армии трехмиллионной.
Я пытался убедить в своей правоте Подвойского и других партийных деятелей, занимавшихся формированием Красной Армии,, и, конечно, ни в ком из них не встретил сочувствия. Настойчивость, с которой я пытался отстоять свою явно ошибочную точку зрения, вооружила против меня и Подвойского и многих других товарищей и заставила их считать меня упрямым специалистом, не видевшим дальше своего носа.
Но формирование даже миллионной армии представляло большие трудности уже потому, что многие первоначальные наши наметки оказались опрокинутыми неожиданно возникшими фронтами. Спутал нам все карты и мятеж чехословацкого корпуса, сразу же охвативший районы, в которых проектировалась основная база Красной Армии.
И все-таки одобренный Лениным план развертывания Красной Армии осуществлялся даже в тех мучительно трудных условиях, которые создались.
Развертывание участков «завесы» в дивизии началось еще до опубликования декрета об обязательной военной службе. Отряды пополнялись добровольцами из местных жителей, откликнувшихся на воззвания Советов, и соответственно превращались в батальоны или полки. Начальники участков делались начальниками дивизий, последние же получали наименования по городам, в которых стояли. Так возникли Невельская, Себежская и другие первые наши дивизии.
В составе их скоро появились артиллерия, конница и технические части. Высший Военный Совет разработал и утвердил соответствующие штаты. Но доведение дивизий до этих штатов шло крайне медленно. Добровольчество не давало нужного количества солдат; не хватало материальной части; острый недостаток новые дивизии испытывали и в командном составе.
Формирование дивизий главных сил шло в новых районах, указанных в плане. Сначала формировались кадры каждой дивизии, а затем в эти кадры вливались мобилизованные по декрету бойцы. Это было неизбежно: иначе побывавшие в царской армии в период ее распада и в Красной гвардии мобилизованные неминуемо попытались бы насаждать в новых формированиях уже отжившие порядки, вроде выборности командиров или митингования по поводу боевых приказов.
До сформирования военных округов кадры некоторых дивизий были подобраны непосредственно ВВС.
С формированием дивизий получалось по-разному. В одних местах все шло без сучка и задоринки, в других — из-за излишней подозрительности местных исполкомов получалось бог весть что. Присланные кадры в таких случаях арестовывались, а во главе новых дивизий по настоянию местных Советов ставились выборные начальники.
Подготовка местности в прифронтовой полосе на важнейших операционных направлениях была подробно разработана, но до исполнения дело не дошло. Гражданская война скоро сделала неосуществимыми не только эти, но и многие другие военные предположения. Подготовка же стратегических путей сообщения в прифронтовой полосе была и вовсе изъята из ведения Высшего Военного Совета и передана Народному комиссариату путей сообщения.
Военные заводы и мастерские были своевременно эвакуированы, но развернуть их работу на новом месте не удалось из-за той же гражданской войны.
Ничего путного не получилось и из перевода в Екатеринбург Военной академии. После захвата Екатеринбурга она во главе со своим начальником Адогским перешла к белым и двинулась в глубь Сибири. Только после разгрома Колчака материальная часть академии была возвращена в Москву и влилась во вновь сформированную здесь Военную академию.
Намеченные по плану военно-учебные заведения были развернуты в виде временных военных курсов, а затем и настоящих военных школ, напоминавших бывшие юнкерские училища. Курсанты этих курсов и школ покрыли себя неувядаемой славой на многих фронтах гражданской войны и немало сделали в дальнейшем для укрепления командного костяка Красной Армии.
Общеобязательная военная служба взамен добровольчества была введена декретом 29 мая 1918 года. Первый призыв был проведен в Москве в июне-июле того же года. Из этих призывников была сформирована славная Московская дивизия. За немногим исключением переход к общеобязательной воинской службе прошел гладко и беспрепятственно.
Система военных округов была разработана ВВС и установлена декретом 8 апреля 1918 года. Поначалу охватила она только европейскую часть Республики, где были созданы округа Петроградский, Московский, Беломорский, Западный, Приволжский, Заволжский, Приуральский и Орловский. Во главе каждого округа была поставлена тройка в составе военного руководителя и двух партийных работников. В каждом округе были сформированы штабы и военно-окружные управления.
Военно-окружные тройки были подобраны ВВС. Нами же были назначены начальники окружных штабов и большинство военно-окружных управлений.
Тем же декретом все вооруженные силы Республики были разделены на полевые и местные. Первые представляли собой дивизии, сформированные из «завесы», и входили в армию прикрытия. Вторые формировались в определенных пунктах и по сформированию передвигались в другие районы согласно плану стратегического развертывания. Территориальные дивизии эти составляли главные силы и стратегический резерв.
В первых числах мая военно-окружные тройки, начальники штабов и военно-окружных управлений отправились из Москвы по своим местам и занялись собиранием военного имущества, разбросанного по Республике, его сортировкой и организацией окружных складов.
Перед Высшим Военным Советом стояла важнейшая задача — выявление всех военных запасов страны. С этой целью в июне 1918 года под председательством председателя ВВС было собрано несколько совещаний центральных технических управлений. Но усилия ВВС и мои, как военного руководителя, большой ясности в этот вопрос не внесли, — Красная Армия еще очень долго не знала, какими запасами располагает.
Осуществляя утвержденные Лениным мероприятия по формированию вооруженных сил Республики, Высший Военный Совет сразу же столкнулся с острым недостатком командного состава.
К 1920 году в ряды Красной Армии были вовлечены десятки тысяч офицеров и военных чиновников. Значительно большее количество старого командного состава было в белых армиях. Надо полагать, что многие офицеры, спасаясь от начавшихся вслед за мятежом Корнилова преследований, постарались как бы раствориться среди гражданского населения, выдавали себя за унтер-офицеров, а то и за рядовых и отказывались от своего военного прошлого и профессии. Немало царских генералов и офицеров стало жертвами красного террора, явившегося неминуемым ответом на проводившийся белыми и интервентами массовый белый террор. Вероятно, не одна тысяча офицеров, не служивших ни в белой, ни в Красной армиях, поддаваясь все тому же, возникшему еще в послекорниловские дни психозу, оказалась в рядах белой эмиграции как в Европе, так и в Китае, Монголии и Японии.
В первые месяцы после Октябрьской революции никто не пытался отобрать среди царских генералов и офицеров тех, кто мог бы пригодиться для формирования новой армии. Об этом не думали, и в кадрах Красной Армии оказались лишь те генералы и офицеры, кто сам предложил свои услуги. Но всех их было до смешного мало для того, чтобы укомплектовать командным составом не только трехмиллионную, но и миллионную армию.
Особенно острым было это положение в дни немецкого наступления. Не понимая большевиков, подавляющее большинство генералов и офицеров старой армии боялось их, как черт ладана, и считало службу в только еще создаваемой Красной Армии не только неприемлемой, но чуть ли и не позорной.
Между тем та же «завеса» уже широко развертывалась и включала в свой состав десятки тысяч красногвардейцев или красноармейцев, как начали называть этих, новых солдат. Управлять ими, обладая одним лишь политическим опытом, было нельзя.
Стараясь любыми способами привлечь к службе в «завесе» опытных боевых генералов и старших офицеров распавшейся армии, я, пользуясь связями со множеством прежних моих сослуживцев и слушателей по Академии генерального штаба и превосходно сохранявшей не только фамилии, но и адреса натренированной на штабной работе памятью, обратился с личными письмами к ряду кажущихся мне наиболее достойными офицеров и генералов. В письмах этих я, ссылаясь на наш общий долг перед родиной, подвергшейся подлому германскому нападению, призывал моих адресатов на службу во вновь создающуюся армию, уже обороняющую рубежи Республики.
В конце письма стояло неизменное приглашение «для личных переговоров» в мой вагон, находившийся сначала на запасном пути Царскосельского вокзала в Питере, а затем после переезда Советского правительства в Москву — около Александровского вокзала. Болтуны и злые языки прозвали этот вагон «генеральской ловушкой». Через нее, однако, после генерала Парского, первым побывавшего у меня, прошли многие генералы и офицеры. Подавляющее большинство военных, которых я приглашал к себе, принимало назначения в «завесу».
Каждый из них по моему предложению уже от себя обращался к тем из своих боевых товарищей, кому верил и с кем бы особенно охотно работал. Такая личная вербовка может показаться кустарной. Но в те времена она дала прекрасные результаты в виде нескольких тысяч боевых, связанных личной порукой старших и высших командиров.
Перелом в настроении офицерства и его отношении к Красной Армии было бы легче создать, если бы не непродуманные действия местных исполкомов, комендантов городов и чрезвычайных комиссий. На местах происходили частые, сплошь и рядом ненужные сборы и «регистрации» бывших офицеров, практиковались нередко ничем не вызванные аресты и обыски у людей, единственная вина которых перед революцией заключалась в том, что, находясь в царской армии и имея соответствующее образование, они носили офицерские погоны. И все-таки Красная Армия получила достаточный, хотя бы на первое время, командный состав, и связавшие с ней свою судьбу офицеры, за незначительным исключением, честно и самоотверженно служили в войсках, несмотря на все трудности и лишения гражданской войны.
Конечно, были изменники, перебегавшие к белым, но не они определяли лицо поступившего в Красную Армию офицерства. Бегство к белым было зачастую вызвано не столько сознательным стремлением «предать» новую армию, сколько личными обидами, расстроенной психикой, а то и просто неуменьем противопоставить себя родным или сослуживцам, оказавшимся в белом стане. Вот очень характерные тому примеры.
Во второй половине марта 1918 года, уже в Москве, ко мне в вагон явился обросший нечесаной бородой, запущенный до крайности человек в рваном тулупе и, разглядывая меня красными от бессонницы глазами, словно проверяя, я ли это, неожиданно сказал:
— Не узнаете, Михаил Дмитриевич? Я — Стогов. Полковник генерального штаба.
— Николай Николаевич? — вглядевшись в странного посетителя, удивился я. — Что с вами? Почему в таком виде?
Полковника Стогова я знал еще по Варшаве, по гвардии. Известен он был мне и по своей последующей службе в генеральном штабе, когда не без оснований считался талантливым генштабистом.
— Видите, в кого превратили… товарищи, — угрюмо сказал Стогов и поведал историю, типичную для многих таких, как он, офицеров.
Октябрьская революция застала его на фронте. Дивизия распалась, с него сорвали погоны. Только случайно он не сделался жертвой солдатского самосуда, гвардейский полковник любому солдату казался подлинной «гидрой контрреволюции»… Дома, в провинции, опасно было высунуть нос на улицу, того и гляди, прикончили бы, как калединского агента, хотя к Каледину никакого отношения Стогов не имел и хотел только хоть немного по-человечески пожить после окопов. В городе, в котором он жил, была объявлена регистрация бывших офицеров, — он не явился. Немного спустя назначили перерегистрацию, и Стогов, чувствуя себя уже преступником, перебрался к кому-то из знакомых. Незаметно для себя он перешел на нелегальное положение, отрастил, чтобы не быть опознанным, бороду, оделся бог весть во что… Теперь он приехал в Петроград, живет по подложным документам, скитается по случайным квартирам и совершенно не знает, что делать дальше… Кто-то из офицеров сказал, что у большевиков работает и притом в качестве высокого военного начальства генерал Бонч-Бруевич… Вот он и пришел к старому своему сослуживцу.
— Понимаете, Михаил Дмитриевич,- с жаром сказал Стогов, — как ни нелепо, но я чувствую себя, как покойный Духонин… объявленным вне закона… Так и жду, что меня растерзают… А за что? И главное, — неожиданно признался он, и в голосе его зазвучала неподдельная искренность, — мучительно тянет в армию… Даже в вашу…
— Да вы идите к нам работать, — предложил я.
— И рад бы до смерти, да боюсь, — признался Стогов. — Я ведь скрывался все эти месяцы, а за это меня в штаб к Духонину отправят!
— Никто вас никуда отправлять не будет. И не тронет. В этом можете на меня положиться, — сказал я и предложил Стогову вместе со мной поехать в Народный комиссариат по военным и морским делам.
Заставив его дать слово офицера, что он искренно и честно решил служить в Красной Армии, я усадил Стогова в свой автомобиль и повез в наркомат.
Рассказав Подвойскому о злоключениях Стогова, я попросил его решить судьбу скрывавшегося полковника.
— Ну что ж, Михаил Дмитриевич, — подумав, сказал Подвойский, — судя по вашим словам, этот Стогов — знающий и способный генштабист. К вам его никто не тащил. А раз пришел сам, значит сделал это совершенно искренно. Я, во всяком случае, за то, чтобы в каждом человеке видеть хорошее, — с несколько виноватым видом, точно стыдясь этой своей слабости, продолжал Николай Ильич. — Знаете что, давайте-ка этого Стогова сюда.
Я представил ошеломленного полковника Подвойскому. Николай Ильич расспросил его и, сделав это с тем безупречным тактом, на который был способен, сказал:
— Начинайте у нас работать, товарищ Стогов. Никто вам не будет вспоминать уклонения от регистрации. Что же касается должности, — на мгновенье задумался Подвойский, — то работа в качестве начальника Всероссийского главного штаба вас, вероятно, устроит…
Еще через день или два выбритый и даже надушенный Стогов, одетый в новое, только что полученное офицерское обмундирование, приехал ко мне, и было уже невозможно узнать в этом вышколенном штабном офицере бородатого оборванца, так недавно делившегося со мной своими напрасными страхами.
Назначением Стогова во Всероссийский главный штаб я был очень доволен. Занимавший ранее должность начальника этого штаба генерал неожиданно вышел в отставку.
Стогов сразу же проявил себя как превосходный генштабист, и я, несмотря на весь свой опыт работы в контрразведке, не мог думать, что это только маскировка. В частных разговорах со мной он не раз говорил, что чувствует себя на новой службе превосходно, и подчеркивал, что не представлял себе такой распологающей обстановки в большевистском штабе.
И вдруг неожиданно для всех Стогов исчез. Немного спустя выяснилось, что он сбежал к белым. Я мог только недоумевать. Больших наших секретов, представляющих интерес для белых, он не знал, да и не был к ним допущен. Если бы он преследовал такого рода шпионские цели, то должен был еще не один месяц просидеть в штабе. Он мог, наконец, если ему так захотелось, уйти в отставку и тогда уже перебраться на захваченную белыми территорию. И все-таки он оказался презренным перебежчиком. Но я и сегодня не могу в точности понять, почему он это сделал.
Зато поведение другого такого перебежчика может быть примером типичной диверсионной работы, на которую охотно шла наиболее оголтелая часть прежнего реакционного офицерства.
Вскоре после появления Стогова ко мне в вагон пришел некий Носович, бывший полковник лейб-гвардии Уланского полка, стоявшего в свое время в Варшаве. Я знал его еще молодым офицером — Носович был слушателем Академии, когда я в ней преподавал.
В памяти сохранилось не очень благоприятное впечатление — он всегда был склонен к авантюрам. И все-таки я обрадовался неожиданному гостю: радовал в это время приход любого из сослуживцев по старой армии.
Оказалось, что Носович был командирован в Москву штабом Юго-восточного участка «завесы» за получением некоторых сведений. Предъявленные им документы были в полном порядке, и я со спокойной совестью направил его в штаб ВВС, где Носович и получил нужные ему разъяснения.
Дня через три после его отъезда я получил из Царицына телеграмму о том, что Носович перелетел на самолете к белым и остался у них вместе с летчиком.
Справки, которые Носович получил в штабе ВВС, не представляли для белых никакой ценности. Возможно, что перебежчик раздобыл кое-какие секретные материалы у себя в штабе Юго-восточного участка. И все-таки, насколько мне известно, Носович разделил невеселую судьбу Стогова. Обоих их белые встретили совсем не с распростертыми объятиями и, разжаловав, долго держали под арестом.
Припоминается мне и еще один случай. Приехав вместе со Стоговым в Наркомат для участия в широком заседании, я встретил среди участников его хорошо мне знакомого по Петербургу генерала Архангельского, служившего долгое время в Главном штабе.
С Архангельским мы были в одном и том же году выпущены из военных училищ и назначены в Варшаву.
В 1895 году одновременно со мной Архангельский поступил в Академию Генерального штаба. Мы окончили ее в один и тот же год и спустя девять лет снова встретились в Петербурге, где я читал в Академии лекции, а Архангельский делал карьеру в Главном штабе.
Вскоре мы познакомились семьями, бывали друг у друга и частенько встречались у общих наших друзей. И у меня сложилось законченное представление о личных качествах Архангельского, зарекомендовавшего себя отличным штабным офицером и показавшего себя прекрасным товарищем и отзывчивым человеком.
Встретившись теперь с Архангельским после продолжительной разлуки, я узнал, что он занимает пост начальника Всероссийского главного штаба и, таким образом, пребывает в полном почете и благополучии. Вид у него, однако, был какой-то взвинченный, лицо болезненное, тон брюзгливый.
— Большими делами заворачиваете, Михаил Дмитриевич, — сказал он мне, и я почувствовал иронию в его голосе.
Подобного рода реплики старых моих сослуживцев были для меня не в новинку, и я привык в таких случаях брать быка за рога.
— Ничего не поделаешь — надо же кому-нибудь браться за крупное дело, — ответил я. — Все почему-то избегают этого, а ведь кто-то должен взяться за руль и направлять корабль военного дела. Новое правительство военных специалистов в своей среде не имеет, а без армии государству не жить. Ведь эдак-то, не располагая обученной армией, можно дойти до того, что немецкие шуцманы будут стоять на перекрестках московских улиц и бить резиновыми палками русских людей по головам, в том числе и нас с вами, дорогой Алексей Петрович. Полагаю, что вам это никак не улыбается. Что же касается меня, то я об этом и думать не могу. Вот и работаю, чтобы сего не случилось.
Нетерпеливо выслушав длинную мою тираду, Архангельский начал жаловаться, что все рушится и потому работать все равно нельзя.
— Я в Крым поеду, к семье. А уж всеми этими, — показал он на входивших в комнату партийных руководителей ВВС, — я сыт по горло…
Я пробовал доказать Архангельскому, что былых штабных условий все равно не создашь, а работать надо в любых, именно для того, чтобы все не распалось.
Архангельский шипел и продолжал шепотом твердить, что все равно бросит все и уедет.
Так и случилось. Он тут же подал в отставку. Против нее не возражали, и Архангельский уже в качестве штатского человека уехал на захваченную белыми территорию. Белые, однако, лишили его генеральского чина и отдали под суд. Вероятно, он не только не нашел того, что искал, но не раз еще горько каялся в своем опрометчивом поступке…
Архангельский происходил из бедной, сильно нуждавшейся семьи, и всей своей карьерой был обязан только своему трудолюбию и недюжинным способностям. Нельзя сказать, чтобы ему особенно везло при старом режиме, — первое крупное назначение он получил только после Октябрьской революции и уже от большевиков, которых потом невольно или сознательно предал. Думается, что Архангельский стал жертвой столь свойственного старым военным политического невежества, мелких и случайных обид и полного непонимания того, что белое движение обречено на гибель уже потому, что шло против кровных интересов народных масс.
Примечания
{58} Первая колонна марширует… вторая колонна марширует… третья колонна марширует…
{59} Опасность со стороны немецкой армии явно преуменьшена.
{60} Автор, освящая этот вопрос, не упоминает о решении ЦК партии от 6 мая 1918 г., написанном рукой В. И, Ленина. Высший Военный совет лишь выполнял указание ЦК партии и правительства о создании стратегической базы.
Глава восьмая
Чехословацкий корпус. — Споры в ВВС по вопросу о направлении чехословацких эшелонов. — Самоубийство русского комиссара чехословацкого корпуса. — Главком Муравьев. — Еремеев и Муравьев. — Назначение бывшего генерала Сологуба. — Убийство графа Мирбаха и мятеж левых эсеров. — Измена Муравьева. — Попытка создания «независимого Поволжского правительства». — Смерть Муравьева.
В течение довольно долгого времени я полагал, что единственной серьезной опасностью для молодой Советской республики могут явиться только немцы, что мы, несмотря на нашу военную слабость, в состоянии справиться и с Калединым, и с «добровольцами», копошившимися около сбежавших на Дон Алексеева и Лавра Корнилова.
Однако продвижение чехословацкого корпуса очень скоро заставило и меня и остальных членов Высшего Военного Совета забить тревогу.
Шестидесятитысячный корпус этот был сформирован еще до революции по инициативе генерала Алексеева. Алексеев полагал, что охотно сдавшиеся русским в плен чехи и словаки — солдаты австро-венгерской армии, могут быть использованы для военных действий против германских войск.
В лагерях для военнопленных началась вербовка. Чехов и словаков, пожелавших переменить трудное положение военнопленного на выгоды и преимущества свободного солдата, сразу же освобождали и направляли во вновь формируемый корпус. Предполагалось, что корпус этот будет использован на французском театре военных действий. Чтобы не упасть лицом в грязь перед союзниками, мы отлично его вооружили и снабдили всем необходимым.
Падение самодержавия не отразилось на судьбе чехословаков, по-прежнему занятых нескончаемым «формированием». После Октябрьской революции корпус занял особую политическую позицию, в те дни ни для кого из нас не ясную.
Русский комиссар корпуса в середине марта приехал в Москву. Явившись ко мне с докладом, он не скрывал уже своей тревоги по поводу антисоветских настроений, господствующих в корпусе, особенно среди его офицеров.
Поставив в известность об этом тревожном докладе кого-то из политических руководителей ВВС, я предложил срочно обсудить этот вопрос. На специально назначенное заседание Высшего Военного Совета был приглашен народный комиссар по иностранным делам Чичерин. Приехал и Дзержинский.
На заседании этом, происходившем в моем вагоне, присутствовали почти все военные чины ВВС, — каждый из нас, военных специалистов, отлично понимал, какую угрозу для Республики представлял этот сомнительный в политическом отношении корпус, постепенно без чьего бы то ни было разрешения передвигавшийся с Юго-Западного фронта, где он формировался, в центральные губернии России.
Весь корпус был уже на колесах, чехословаки двигались эшелон за эшелоном с оружием в руках и в полной, как нам доносили, боевой готовности. Было ясно, что корпус надо ликвидировать или, во всяком случае, разоружить. Мы, военные специалисты, входившие в ВВС, стояли на самой радикальной точке зрения и были готовы пойти на любые крайние меры, лишь бы устранить угрозу вооруженного выступления чехословаков против Советской власти.
— Утопить их в Днепре, если не будет другого выхода, — весьма недвусмысленно предлагали и я и кое-кто еще из обычно сдержанных и не очень решительных бывших генералов.
Чичерин, больше всего обеспокоенный и без того трудным международным положением Республики, даже слушать не захотел о таком решении, грозившем, по его словам, осложнить наши отношения с капиталистическими странами.
Троцкий то ли мало интересовался вопросом, то ли умышленно принял столь свойственную ему позу этакого разочарованного Чайльд-Гарольда и никого из нас не поддержал. Стало понятно, что дальше разоружения корпуса совещание не пойдет. Вопрос о разоружении чехословаков, однако, упирался в их дальнейший маршрут.
Мне представлялось очевидным, что наиболее благоприятное время для разоружения упущено, — это надо было сделать, пока эшелоны чехословаков двигались растянуто в глубину. Теперь же, когда корпус начал сосредоточиваться, отсутствие у нас достаточно дисциплинированных воинских частей делало эту задачу чрезвычайно трудной.
Жаркий спор на заседании ВВС завязался и по вопросу о том, как вывести чехословацкий корпус из пределов Республики и переотправить его во Францию. Последнее можно было сделать только морским путем, а следовательно, либо через Мурманск, либо через Одессу или другой черноморский порт и, наконец, избрав самый дальний маршрут,- через Владивосток.
Последний маршрут вызвал самые категорические возражения мои и других военспецов. Выйдя уже из пределов Украины, чехословацкие эшелоны вот-вот могли оказаться в опасной близости от главной базы наших вооруженных сил и, в случае мятежа, захватить эту базу. Наконец, добравшись до Дальнего Востока, они могли столковаться с японцами, враждебно относившимися к Советской республике. Путь на юг, казавшийся мне более безопасным, был решительно отвергнут политическими работниками ВВС, считавшими, что направление туда чехословацких эшелонов резко усилит враждебные Советской России силы, действовавшие на Украине. Направление на Мурманск вызывало не менее обоснованные возражения: прибыв в незамерзающий северный порт чехословаки могли стакнуться с англичанами, уже начавшими в этом районе интервенционистские военные действия в сторону Архангельска.
Получалось, как в известной народной присказке: хвост вытянешь — нос увязнет.
В тщетных поисках выхода из создавшегося положения в моем, видавшем виды вагоне было немало выкурено и папирос, и трубок, и самокруток, и еще больше проведено многословных и горячих споров. Голоса разделились, и решения ВВС так и не вынес. Но к одному единодушному выводу пришли все: в любом случае корпус надо было разоружить во что бы то ни стало.
Втянутое в антисоветский заговор командование корпуса дало для вида согласие на разоружение и обязалось, что чехословаки, сдав оружие в Пензе, дальше поедут уже в качестве частных граждан. Условие это, конечно, не было выполнено.
Снова приехавший в ВВС русский комиссар корпуса, узнав о вероломстве командования корпуса, застрелился, едва выйдя из моего вагона.
Рассредоточенные почти вдоль всей Сибирской железнодорожной магистрали чехословаки подняли давно подготовленный мятеж.
26 мая чехословаки под командованием Гайды захватили Новониколаевск. Другой отряд под командой Войцеховского занял Челябинск. Наконец, почти одновременно эшелоны полковника Чечека в ответ на требование Пензенского Совета сдать оружие подняли бой и, овладев городом, разогнали Совет, а ряд депутатов его — коммунистов — арестовали и приговорили к смертной казни.
При приближении советских войск мятежные чехословаки оставили Пензу и через Сызрань двинулись на Самару, Войцеховский же после захвата Челябинска двинулся на соединение с Гайдой и 7 июня занял Омск.
Оказавшиеся уже за Байкалом 14 тысяч чехословаков свергли Советскую власть во Владивостоке и устремились на запад на соединение с Гайдой.
Соединившись, отряды Гайды и Войцеховского повернули и повели наступление на Екатеринбург, а Чечек двинулся на Уфу с тем, чтобы, взяв ее, пойти на соединение с сибирской группировкой.
Сухое перечисление предпринятых мятежным корпусом военных операций говорит о том, насколько тщательно был разработан план мятежа.
Выступление чехословацкого корпуса должны были поддержать контрреволюционные мятежи в Москве, Рыбинске, Ярославле, Муроме, Костроме, Шуе и Иваново-Вознесенске и, наконец, в казачьих и кулацких районах. Высадившийся в Мурманске англо-американский десант предполагал занять Вологду, а войска контрреволюционного правительства Украины, конные части Краснова и «добровольческая армия» Деникина одновременно захватить южные области России.
Таков был обширный план контрреволюции. Но тогда никому из нас он не казался единым, и мы были бессильны связать друг с другом его отдельные звенья.
Много позже узнали мы и о внутреннем механизме заговора. Командный состав чехословацкого корпуса был откровенно подкуплен странами Антанты. Франция через генерала Жанена выдала так называемому «национальному совету» чехословаков свыше одиннадцати миллионов рублей, Англия — около девяноста тысяч фунтов стерлингов.
Распространяясь по Сибири, Уралу и по средней Волге, мятежные чехословаки могли нанести нам еще один жестокий удар. В Казань незадолго до передвижения чехословацкого корпуса на восток была отправлена значительная часть золотого запаса Республики. Взятие чехословаками и белыми Казани едва не оставило нас без этого основного достояния страны.
Еще в мае с Волги начали поступать тревожные сведения о непорядках и бестолковщине, царивших на вновь возникшем чехословацком фронте. Военное руководство ВВС считало своей первейшей обязанностью обеспечить безопасность развернутой между Волгой и Уральским хребтом главной военной базы Республики. В то же время руководимый Араловым Оперод занялся формированием отрядов для действий против мятежных чехословаков и подчинил их бывшему подполковнику Муравьеву, тотчас же объявившему себя главнокомандующим Восточного фронта.
Никакой связи с Высшим Военным Советом Муравьев не захотел поддерживать и не только не выполнял его распоряжений, но умышленно не отвечал ни на один запрос. Создавалось совершенно нетерпимое положение, при котором превосходно организованному наступлению мятежных чехословацких частей была противопоставлена наша организационная неразбериха.
Сам Муравьев не внушал доверия ни мне, ни политическим руководителям ВВС. Называя себя левым эсером, он пользовался поддержкой входившей еще в Советское правительство партии левых эсеров и ее «вождя» Марии Спиридоновой. Бледный, c неестественно горящими глазами на истасканном, но все ещё красивом лице, Муравьев был известен, в дореволюционной офицерской среде как заведомый монархист и «шкура». Этим нелестным прозвищем солдаты наделяли наиболее нелюбимых ими офицеров и фельдфебелей, прославившихся своими издевательствами над многотерпеливыми «нижними чинами».
После падения самодержавия Муравьев поспешно перекрасился и, почему-то решив, что «трудовик» Керенский состоит в партии социалистов-революционеров, объявил себя эсером и занялся формированием ударных батальонов смерти.
В октябрьские дни Муравьев явился в Смольный и, представившись уже в качестве левого эсера, предложил свои услуги по отражению наступавших на Питер казаков Краснова.
Лишенный выбора, не имея под рукой ни одного штаб-офицера, которому можно было бы поручить оборону Петрограда, Ленин согласился на назначение Муравьева главнокомандующим «гатчинского» фронта. Владимир Ильич со свойственным ему проникновением в самую сущность военной науки отлично понимал, что руководить довольно значительными и разнородными силами (матросы, гвардейские запасные полки, красногвардейцы), располагавшими артиллерией и действовавшими при поддержке бронепоездов и специально передвинутых военных кораблей, без военных знаний и специфического опыта трудно.
Направив под Царское Село Муравьева, Ленин, однако, тут же назначил к нему комиссаром старого большевика, профессионального революционера-подпольщика и правдиста Константина Степановича Еремеева. Недоверие к Муравьеву было настолько сильным, что в первоначально выданном Еремееву мандате была сделана специальная оговорка.
«Мне было предложено отправиться в штаб Муравьева комиссаром при нем, — рассказывал он в своих воспоминаниях, — и был дан соответствующий мандат, в который было вписано и полномочие, в случае измены или каких-либо вредных действий, отстранить Муравьева. Я попросил переписать мандат, так как возможно, что он захочет его прочесть, и выйдет неудобно — можно обидеть человека авансом. Пусть это полномочие подразумевается»{61}.
Муравьев как будто горячо взялся за борьбу с мятежными чехословаками. Пожалуй, не зная его авантюризма, можно было отнести его неподчинение и игнорирование ВВС за счет столь популярного в те времена, неправильно им понимаемого лозунга «власть на местах».
Но шло время. Чехословаки занимали город за городом. Созданные местными исполкомами отряды уступили место одна за другой возникавшим армиям, а руководство нового «главкома» делалось все более странным и подозрительным. Отдаваемые им войскам фронта распоряжения и приказы поражали своей неопределенностью, и то обстоятельство, что ВВС узнавал о них с опозданием, уже от Оперода, вызывало еще большую тревогу, — я отлично понимал, что ошибки Муравьева могут поставить нас перед наступившим крахом.
В первых числах июня ВВС со всеми приданными ему учреждениями переехал в Муром. Первые же полученные мною в Муроме сведения с Восточного фронта заставили меня забить в набат. Действия находившегося в Симбирске Муравьева явно были направлены в сторону союза с чехословаками, решительно разрушавшими советские организации за Волгой и тем ставившими крест, на всех наших планах формирования дивизий стратегического резерва.
Муравьев или бездействовал или занимался ненужной перегруппировкой войск. Впоследствии стало известным, что в Поволжье эсеры готовили ряд вооруженных восстаний, которые должны были проводиться совместно с чехословаками и с непременным участием самого… Муравьева.
В начале июня Оперодом был назначен к Муравьеву в качестве начальника штаба бывший генерал генштаба Сологуб. Отправляясь из Москвы в Симбирск, Сологуб заехал в Муром и явился ко мне.
Еще до приезда Сологуба в Муром Высший Военный Совет отдал Муравьеву приказ, в котором, непосредственно подчинив себе главкома со всеми его отрядами, предписывал ему выбить чехословаков из района главной базы Красной Армии, оттеснить их на север и, прикрыв базу, оградить ее от возможных нападений. По моему глубокому убеждению, успех был бы достигнут, если бы Муравьев не готовил измены и не оставил бы приказ этот без исполнения.
Приказ был передан Муравьеву по телеграфу и одновременно послан нарочным. Сологуб появился как нельзя вовремя. Ознакомив его с приказом, я вручил ему второй экземпляр и собственноручное свое письмо к Муравьеву, в котором требовал от главкома беспрекословного подчинения ВВС.
Не успел Сологуб доехать до Симбирска, как Муравьев поднял мятеж.
Еще 24 июня 1918 года Центральный Комитет партии левых эсеров вынес провокационное решение:
«Необходимо в самый короткий срок положить конец так называемой передышке.
С этой целью Центральный Комитет партии считает возможным и целесообразным организовать ряд террористических актов в отношении виднейших представителей германского империализма»{62}.
6 июля, выполняя это решение, Яков Блюмкин, незадолго до этого по настоянию фракции левых эсеров ВЦИК принятый в ВЧК, явился к германскому послу графу Мирбаху. Чтобы пробраться к послу, Блюмкин заготовил на бланке ВЧК фальшивое удостоверение за подписью Дзержинского. Подпись Дзержинского была подделана, печать поставил заместитель председателя ВЧК левый эсер Александрович.
В сопровождении фотографа ВЧК Андреева, тоже левого эсера, Блюмкин приехал в германское посольство и под предлогом выяснения судьбы арестованного за не-. благовидные поступки бывшего военнопленного венгерского офицера Роберта Мирбаха добился свидания с послом.
Акт инспектора Московского уголовного розыска так описывает убийство Мирбаха:
«Блюмкин сказал, что речь идет о венгерском офицере Роберте Мирбахе. Посол ответил, что не имеет с ним ничего общего. Блюмкин сослался, что через день дело Роберта Мирбаха будет рассматривать Трибунал. Посол не реагировал и на это. Андреев сказал Блюмкину.
— По-видимому, послу угодно знать меры, которые будут приняты против Роберта Мирбаха.
Слова эти являлись условным знаком. Блюмкин повторил слова Андреева, вскочил со стула и, выхватив из портфеля револьвер, произвел несколько выстрелов, но промахнулся. Граф выбежал в соседнюю залу и в этот момент получил пулю в затылок. Тут же он упал. Блюмкин продолжал стрелять. Миллер{63} лег на пол, и, когда приподнялся, раздался оглушительный взрыв от брошенной бомбы, посыпались осколки бомбы, куски штукатурки.
Миллер снова бросился на пол. Приподнявшись, он увидел стоявшего доктора и с ним бросился в залу, где в луже крови лежал граф.
Вблизи лежала вторая, неразорвавшаяся бомба, и в двух — трех шагах в полу было большое отверстие — от разорвавшейся бомбы.
Блюмкин и Андреев бежали через окно и скрылись на поджидавшем их автомобиле. Выбежавшие из подъезда слуги начали кричать, чтобы стража стреляла, но она открыла огонь очень поздно.
Убегая, покушавшиеся оставили портфель с бумагами по делу Роберта Мирбаха, бомбу в том же портфеле, папиросницу и револьвер»{64}.
Одновременно с убийством графа Мирбаха левые эсеры подняли контрреволюционный мятеж.
Вооруженные действия против Советской власти начал приданный ВЧК отряд левого эсера Попова, состоявший из разложившегося уголовного сброда.
Занятый отрядом дом Морозовой в Трехсвятительском переулке превратился в штаб мятежа. Захватив приехавшего для ареста Блюмкина председателя ВЧК Дзержинского, мятежники навели орудия на Кремль и попытались занять находящийся неподалеку от Трехсвятительского переулка главный Московский почтамт.
В тот же день пресловутый Савинков, превратившийся из бывшего революционера в агента генерала Алексеева, с помощью организованного им «Союза защиты родины и свободы» поднял контрреволюционный мятеж в Ярославле.
Оба эти выступления положили конец нерешительности Муравьева. Об измене главкома и его бесславном конце память сохранила ряд любопытных подробностей, в свое время сообщенных мне очевидцами.
За несколько дней до своей измены Муравьев начал стягивать в Симбирск верные ему части. Кроме того, в день событий на станцию прибыл бронепоезд.
В Симбирске левые эсеры играли известную роль и занимали посты военного, земельного и продовольственного комиссаров губернии.
10 июля Муравьев прибыл в Симбирск на пароходе «Мезень». Главкома сопровождали еще три парохода, на которые был погружен особо «надежный» отряд в тысячу человек.
Отряд состоял преимущественно из татар, вотяков, черемисов и китайцев, почти не говоривших по-русски.
Симбирский губисполком, собравшись в полном составе, пригласил Муравьева, но он не приехал и потребовал членов губисполкома к себе на пароход.
Губисполком, заподозрив измену, отказался. К Муравьеву поехал лишь штаб симбирской группы войск во главе с губернским военным комиссаром левым эсером Ивановым.
После совещания с Ивановым Муравьев вторично потребовал к себе товарищей из губкома партии, губисполкома и губернской Чека. Едва они ступили на палубу «Мезени», как были арестованы. В тот же день на станции Симбирск 1-й был арестован и командующий 1-й армией Тухачевский.
Еще накануне своего приезда в Симбирск Муравьев приказал вывести из города и перебросить в Бугульму местную коммунистическую дружину. Наряду с этим из тюрьмы по его приказанию были освобождены заключенные, разоруженные коммунистическим отрядом и представлявшие собой такой же уголовный сброд, как отряд уже растрелянного в Москве Попова.
Арестовав Тухачевского и неосторожно явившихся на пароход коммунистов, Муравьев высадил привезенный с собой отряд и занял почту и телеграф. Здание бывшего кадетского корпуса, где размещались губисполком и губком партии, было окружено шестью посланными главкомом броневиками, а входы в него заняты солдатами из муравьевского отряда.
Решив, что власть захвачена, Муравьев по телеграфу и по радио отправил несколько телеграмм, в которых открыто объявлял о своей измене.
«Совнаркому и всем начальникам отрядов, — телеграфировал он. — Защищая власть советов, я от имени армий Восточного фронта разрываю позор Брест-Литовского мирного договора и объявляю войну Германии. Армии двинуты на Западный фронт».
«Всем рабочим, крестьянам, солдатам, казакам и матросам, — наивно взывал он по радио, не понимая того, что песенка его была уже спета. — Всех своих друзей и бывших сподвижников наших славных походов и битв на Украине и юге России ввиду объявления войны Германии призываю под свои знамена для кровавой последней борьбы с авангардом мирового империализма — германцами. Долой позорный Брест-Литовский мир! Да здравствует всеобщее восстание!»
Не довольствуясь ложной патетикой всех этих «воззваний», Муравьев попытался непосредственно связаться с воюющими против нас чехословаками и возглавить их наступление на Советскую Россию.
«От Самары до Владивостока всем чехословацким командирам, — передал он по радио свое обращение к противнику. — Ввиду объявления войны Германии, приказываю вам повернуть эшелоны, двигающиеся на восток, и перейти в наступление к Волге и далее на западную границу. Занять по Волге линию Симбирск, Самара, Саратов, Царицын, а в северо-уральском направлении — Екатеринбург и Пермь. Дальнейшие указания получите особо».
Вечером Муравьев собрал своих симбирских единомышленников и изложил программу дальнейших действий: мир — с чехословаками, война — с Германией. Но так как Германия далеко, а большевики близко, то воевать придется с большевиками…
Для осуществления этой программы изменник предложил образовать «независимое» Поволжское правительство с руководящей ролью левых эсеров.
Несмотря на произведенные Муравьевым аресты и явное превосходство сил мятежников, симбирские коммунисты не растерялись и приняли ряд чрезвычайных мер для того, чтобы ликвидировать мятеж. В команду броневого дивизиона и в другие «муравьевские» части были посланы опытные агитаторы. В зал, расположенный рядом с комнатой, где по требованию Муравьева должно было состояться совместное с ним заседание губисполкома, ввели несколько десятков красноармейцев — латышей из Московского отряда. Против двери поставили пулемет. И пулемет и пулеметчики были тщательно замаскированы. Счастливо, избежавший ареста председатель губкома Варейкис приказал пулеметчикам:
— Если Муравьев окажет сопротивление при аресте и будет заметен перевес на стороне главкома и его сообщниках, то стрелять прямо в комнату и косить направо и налево, не разбирая, кто там, — свои или чужие.
Сам он должен был также находиться среди этих обреченных «своих».
К одиннадцати часам вечера все приготовления закончились. Дала положительные результаты и проведенная коммунистами разъяснительная работа; команда броневого дивизиона, на которую Муравьев особенно рассчитывал, постановила ему не подчиняться.
Ровно в полночь, закончив свое совещание с левыми эсерами, Муравьев в сопровождении адъютанта губвоенкома Иванова и нескольких эсеров явился в губисполком. Главкома окружали его телохранители — увешанные бомбами матросы и вооруженные до зубов черкесы.
Когда Муравьев прошел в комнату, в которой было назначено заседание, два матроса встали в коридоре по обеим сторонам двери. Их без шума обезоружили и увели.
Председательствовавший на заседании Варейкис дал слово главкому, и тот надменно изложил свою «программу». Коммунисты тотчас же дали изменнику жестокий отпор.
Сам Варейкис так описывает дальнейшие события:
«Я объявляю перерыв. Муравьев встал. Молчание. Все взоры направлены на Муравьева. Я смотрю на него в упор. Чувствовалось, что он прочитал что-то неладное в моих глазах или ему совестно своей трусости, что заставило его сказать:
— Я пойду успокою отряды.
Медведев{65} наблюдал в стекла двери и ждал сигнала. Муравьев шел к выходной двери. Ему осталось сделать шаг, чтобы взяться за ручку двери. Я махнул рукой. Медведев скрылся. Через несколько секунд дверь перед Муравьевым растворилась, из зала блестят штыки.
— Вы арестованы.
— Как? Провокация! — крикнул Муравьев и схватился за маузер, который висел на поясе. Медведев схватил его за руку. Муравьев выхватил браунинг и начал стрелять. Увидев вооруженное сопротивление, отряд тоже начал стрелять. После шести — семи выстрелов с той и другой стороны в дверь исполкома Муравьев свалился убитым»{66}.
Вслед за смертью изменника вся его свита была арестована, а на фронт пошла телеграмма, разоблачающая предательство Муравьева.
Несмотря на быструю ликвидацию, мятеж Муравьева обошелся нам очень дорого: Советские войска оставили Бугульму, Мелекес, Сенгилей, Симбирск и, наконец, Казань, и все это было расплатой за измену пристроившегося к революции авантюриста.
Примечания
{61} К. Еремеев. Пламя. Изд-во «Федерация», М., 1928, стр. 145-146.
{62} «Красная книга ВЧК», Т. 1. Госиздат, 1920, стр. 129.
{63} Немецкий военный атташе.
{64} «Красная книга ВЧК», ч. 1., 1920, стр. 144-145.
{65} Начальник Московского отряда.
{66} Журнал «Советская общественность» № 5, Ульяновск, 1925.
Глава девятая
В Гранатном переулке. — Предложение В. И. Ленина о выводе из Москвы штаба и управлений ВВС. — Переезд штаба в Муром. — Ненадежность охранной роты. — Подозрительное поведение местной молодежи. — Моя квартирная хозяйка. — Непонятный интерес к приходу низового парохода. — Появление Григорьева из савинковского «Союза защиты родины и свободы». — Лечебница в Молочном переулке. — Муромский мятеж. — Охота за мной. — Доклад председателя ВВС. — Я ухожу в отставку.
После переезда правительства в Москву штаб Высшего Военного Совета сначала находился в поезде, а затем перебрался в дом № 13 по Гранатному переулку. В двух комнатах этого двухэтажного особняка я и поселился с Еленой Петровной, которая не расставалась со мной все эти годы. Остальные комнаты были заняты штабом. В особняке на Гранатном обычно заседал и ВВС.
По мере смыкания вокруг Республики кольца блокады все чаще возникала мысль, насколько правильно держать в Москве, управление разросшимися фронтами. Прямая угроза первопрестольной была не исключена. Те же немцы, кем-либо спровоцированные, а то и сами умышленно создав эту провокацию, могли повести на Москву свои войска. Могли возникнуть и другие случайности, при которых потеря ВВС, его штаба и управлений значительно ослабила бы оборону Республики.
Поэтому по предложению В. И. Ленина решено было вывезти из Москвы ВВС и его управления с таким расчетом, чтобы, находясь вне зависимости от каких-либо опасностей, штаб сохранял со столицей нужную связь.
Наиболее подходящим для размещения Высшего Военного Совета городом показался Муром. С Москвой его связывала железная дорога. Он находился на путях к Волге, в сторону которой в случае развития наступления противника с юго-запада и северо-запада пришлось бы отводить фронты «завесы». Чехословацкая угроза еще не казалась реальной. От немцев же, упоенных Брестским миром, можно было ждать любых неожиданностей. Потому-то Муром и показался наиболее подходящим местом для штаба ВВС.
Для обеспечения связи с фронтами «завесы» и правительством, не имевшим еще основания покинуть Москву. были проложены постоянные телеграфные провода,
Председатель и все члены Высшего Военного Совета остались в столице; я же, как военный руководитель, отправился со штабом в Муром. Туда же было переброшено и управление военных сообщений, ранее передвинутое из Могилева в Липецк.
По обычаю того времени к военному руководителю ВВС были прикомандированы два комиссара, образовавшие с ним вместе столь полюбившуюся тогда всем нам тройку. Кратковременная работа обоих комиссаров была не настолько примечательной, чтобы стоило о ней писать. Замечу лишь, что один из них, культурный и умный партиец, сумел сразу завоевать должный авторитет среди сотрудников штаба; другой — был не слишком грамотен, соображал туго и, одержимый болезненной подозрительностью, оказался явно не на месте.
Охрану штаба несла рота, сформированная из добровольцев, но они не внушали никакого доверия. Караульная служба была поставлена из рук вон плохо, дисциплина расшатана до предела.
Я попытался обновить охранную роту за счет .местных жителей, но, подумав, отказался от этого намерения. Заселенный преимущественно купечеством и мещанством, а то и кулаками, перебравшимися сюда из уезда, Муром враждебно относился к Советской власти, и этого в городе почти не скрывали.
Скоро в штабе стало известно, что муромские гимназисты и реалисты ходят на какие-то собрания, устраиваемые за городом, ездят зачем-то на лесистые острова Оки и ведут себя странно и даже подозрительно.
Уже после мятежа было сознано, что на островах завербованная заговорщиками молодежь обучалась стрельбе из револьверов и подробно инструктировалась на случай мятежа, подготовленного учителями муромского реального училища и других учебных заведений города.
Организаторы будущего мятежа не очень полагались на свои силы. Даже руководить замышленным восстанием они не предполагали, надеясь, что это сделают эмиссары Савинкова.
В Муроме штаб ВВС разместился в здании реального училища. Город встретил нас с явной неприязнью, и это отношение чувствовалось всюду: на квартирах, отведенных под постой, в очередях, на улице…
Только юные прапорщики и подпоручики, оказавшиеся в числе сотрудников штаба, мгновенно перезнакомились с местными девицами и развлекались, как умели.
Внешний порядок в городе как будто сохранялся, но какая-то напряженность ощущалась во всем, и я понимал, что в любой момент здесь можно ждать контрреволюционной вспышки.
Единственной вооруженной силой в Муроме, на которую я мог положиться, был мой личный конвой, состоявший из шестнадцати стрелков 5-го латышского полка. Имелись в конвое и два пулемета «Максима». Командовал конвоем коммунист латыш Блуме.
Конвой жил в поезде штаба и неизменно сопровождал меня в частых моих поездках по железным дорогам. В городе же я, не надеясь на штабную роту и не желая оголять штаба, обходился без всякой охраны.
Я чувствовал опасность, нависшую над моей головой. Но привычка к военной службе брала свое, и я старался не думать о том, что в любой момент могу стать жертвой кулацкого самосуда. Уезжая в Москву для доклада Высшему Военному Совету или на очередное его заседание, я облегченно вздыхал, но, возвращаясь к себе в Муром, сразу впадал в мрачное настроение. Беспокоило меня и то, что в случае мятежа могла пострадать и живущая со мной жена. Оставлять меня одного в Муроме Елена Петровна не хотела, и мне волей-неволей пришлось ей в этом уступить.
Как ни тревожно было в Муроме, я, стараясь не показывать и виду, что обеспокоен, продолжал и днями и ночами сидеть в бывшем реальном училище.
Очередной выезд мой в Москву должен был состояться 8 июля 1918 года. Еще накануне в штабе были получены сведения, что на Московско-Казанской железной дороге взорвано несколько незначительных мостов, которые, однако, спешно уже восстанавливаются. Предполагая, что в нужный мне час мосты будут приведены в порядок, я не стал откладывать отъезда.
Переехав в Муром, я вместе с женой поселился на краю города в бог весть почему приглянувшемся мне доме некой Киселевой, вдовы лабазника. Дом этот был построен на крутом берегу Оки, почти над Самой пристанью, к которой ежедневно утром и вечером причаливали приходившие сверху и снизу пароходы. Пароход снизу прибывал к девяти часам вечера.
Как ни мало я присматривался к тому, что делалось в «хозяйской» половине дома, в котором я жил, мне в тот день бросилось в глаза какое-то неестественное оживление, царившее среди многочисленных родственников и домочадцев вдовы лабазника. Нет, нет, да кто-нибудь выбегал к поломанному штакетнику, отгораживавшему увешанный свежевыстиранным бельем палисадник, и начинал с непонятной жадностью выглядывать горизонт – не идет ли низовой пароход. Еще кто-то шушукался с хозяйской дочкой в сенях, и, проходя, я услышал неясное: «Погоди ужо, едут».
У каждого бывалого солдата вырабатывается особый нюх на грозящие ему опасности. По каким-то неуловимым признакам, не вполне понятным и ему самому, иной солдат предсказывает не только никем в штабе не предвиденное наступление противника, но и грозящую нам неудачу.
Особенно обострилось это солдатское чувство во время гражданской войны с ее превратностями и неожиданностями. Порой идет такой многоопытный солдат по пыльной деревенской улице, все в деревне, кажется, спокойно и ладно, и лишь брошенный на него из-за плетня жалеющий бабий взгляд позволяет ему сделать безошибочный вывод о том, что белыми прорван фронт, а в соседнем селе кулаки уже прикончили продармейцев.
Вероятно, то же солдатское чутье позволило мне внезапно понять, что мятеж начнется, как только к пристани причалит давно ожидаемый пароход с окских низовьев.
Дня за три до намеченного мною выезда в Москву в Муроме появились приехавшие откуда-то молодчики в суконных поддевках. Они шныряли по улицам, собирались небольшими кучками, о чем-то подозрительно переговаривались. Один из приезжих пришел к вдове, у которой я квартировал. Мне было сказано, что это доктор, вызванный к больному сыну хозяйки, и я не стал особенно вглядываться в столкнувшегося со мной в сенях незнакомца; Лишь позже, уже после подавления мятежа, я узнал, что в дом Киселевой приходил доктор Григорьев, правая рука Савинкова по «Союзу защиты родины и свободы».
Основная явочная квартира этой тайной офицерской организации находилась в Москве в доме № 2 по Молочному переулку в помещении частной электро- и водолечебницы. Пользуясь тем, что он действительно был военным врачом, Григорьев принимал в этой лжелечебнице тех случайных больных, которые почему-либо соблазнялись старой, умышленно сохраненной вывеской. На самом же деле в квартире находился штаб, в который являлись связные из провинциальных отделений «Союза защиты родины и свободы» и командиры повстанческих частей и подразделений. Доказательством принадлежности к организации служил треугольник, вырезанный из визитной карточки с буквами «О. К.».
Организация состояла из тщательно законспирированных пятерок, члены которых знали только руководителя пятерки и в случае провала не могли никого, кроме него, выдать.
Время от времени этим кадрам устраивались смотры. Заговорщики появлялись на назначенной улице или бульваре то в шинелях нараспашку, то с красными бантами в условленных местах.
Был тесно связан с организацией Савинкова и мой старый «знакомый» — Сидней Рейли. Провалившись в Петрограде, он перебрался в Москву и с помощью английского консула Локкарта пытался подкупить охранявших Кремль латышских стрелков.
Все это выяснилось много позже, как и то, что Григорьев, назначенный руководителем Муромского мятежа, производил со своими людьми лишь разведку. На пароходе же, ожидавшемся с низовьев Оки, должен был приехать другой главарь подготовленного мятежа, подполковник Сахаров. Сахарова сопровождали вооруженные заговорщики. С его помощью мятежники должны были захватить и уничтожить меня, одного из наиболее опасных, по их мнению, врагов тайной офицерской организации.
Еще утром 8 июля начальник военных сообщений назначил отправление экстренного поезда штаба на девять часов вечера, то есть именно на час прибытия парохода с Сахаровым и мятежниками. Однако в шесть вечера Раттэль сообщил мне по телефону, что отправление поезда задерживается, так как нет еще сведений о восстановлении мостов, и что я смогу выехать из дому и сесть в поезд часов в десять — одиннадцать вечера.
Выслушав Раттэля, я по какому-то наитию приказал приготовить поезд ранее назначенного срока.
Штабной автомобиль в расчете на отложенное на три часа отправление поезда не был подан. Позвонив в штаб, я вызвал машину и ровно в 9 вечера вышел из дома. Вдова лабазника вышла меня провожать до автомобиля и подобострастно, но с ехидством в голосе пожелала счастливого пути. При этом она неизвестно зачем упомянула об опоздании вечернего парохода.
В половине десятого я был уже в своем вагоне и сразу же обратил внимание на то, что вокруг поезда собралась порядочная, в несколько сот человек толпа. Объяснив это себе простым любопытством обывателей и привычкой в определенные часы погулять около вокзала, я на всякий случай вызвал Блуме и, указав на толпу, распорядился выставить часовых и выдвинуть пулеметы.
— Слушаюсь, товарищ военный руководитель, — козырнул Блуме и озабоченно сказал: — Мне самому все это очень не нравится. И, пожалуй, лучше будет, если я всех их, этих подозрительных людей, отгоню от поезда шагов на тридцать.
По тому, как Блуме с характерным для него латышским акцентом сегодня особенно сильно коверкал русские слова, можно было понять, что он взволнован.
Он вызвал в ружье охрану поезда, с обеих сторон поезда угрожающе выдвинулись тупорылые «Максимы», но толпа, отхлынув от вагонов, заняла новые позиции не так уже далеко от пути, на котором мы стояли.
Часов в десять вечера из города донеслись ружейные выстрелы. Как выяснилось, это без толку стреляли в воздух соратники доктора Григорьева, обнаружившие себя как только к пристани подошел пароход с отрядом подполковника Сахарова.
Мятеж начался. Позже я подсчитал, что уехал из дома вдовы лабазника буквально за три — четыре минуты до высадки Сахарова. Пристань находилась в полусотне шагов от дома, и только счастливая случайность помогла мне ускользнуть от кулацкой расправы.
Доносившиеся из города выстрелы насторожили охрану; один из стрелков был послан в штаб для связи. Тем временем из паровозного депо сообщили, что единственный паровоз дал течь, чинится и может быть подан только после полуночи. Поняв, что железнодорожники саботируют и по каким-то своим, очень подозрительным соображениям не хотят выпустить меня из Мурома, я приказал двум стрелкам отправиться в депо и заставить машиниста подать паровоз, но не к голове поезда, а к хвосту. Таким образом, вместо того чтобы отправиться по Казанской железной дороге, на которой мятежники могли уже сделать засаду, мой поезд двинулся бы на Ковров и через Владимир прошел в Москву.
Под давлением латышских стрелков машинист часам к одиннадцати прицепил паровоз, и мы тронулись в намеченном мною направлении. Когда паровоз, еще не набрав скорости, довольно медленно протащил состав мимо Мурома, совсем неподалеку от поезда показались вооруженные мятежники, хорошо различимые в свете давно взошедшей луны.
Тотчас же по поезду был открыт беспорядочный ружейный огонь. Несколько стекол выбило пулями, кое-где были пробиты и стенки моего вагона. Открывать ответный огонь не было смысла, на паровозе находился вооруженный латышский стрелок, машинист волей-неволей прибавил пару, и мы довольно быстро миновали полосу обстрела.
В Москву поезд прибыл на следующий день часа в три дня. В столице было тревожно, кое-где трещали выстрелы. Но мятеж левых эсеров был уже подавлен.
Еще через сутки был ликвидирован и муромский мятеж. Для разгрома мятежников после воздушной разведки, произведенной высланным по моему распоряжению аэропланом, был послан особый отряд, снаряженный Оперодом.
После освобождения Мурома от захвативших его мятежников, выяснилось, что Григорьев и Сахаров, едва утвердившись в городе, собрали сотрудников штаба и заставили начальника оперативного управления Сулеймана доложить о положении на фронтах. Выслушав его, главари мятежа приказали всем разойтись и заявили, что целью их является арест и расстрел генерала Бонч-Бруевича.
Охранная рота штаба, как этого и следовала ожидать, была разоружена без единого выстрела. Но в Муроме пошли слухи о том, что на помощь разоруженной роте из Москвы идут отборные части, и, не отличаясь большой храбростью, Григорьев и Сахаров поспешили исчезнуть из города задолго до прибытия карательного отряда…
Казалось бы, совершенно незачем было заговорщикам из савинковского «Союза защиты родины и свободы» пытаться арестовывать, да еще расстреливать бывшего царского генерала, далекого от марксистской идеологии штабного службиста, нисколько не скрывающего своей воспитанной с детства религиозности. В необходимость классовой борьбы я тогда не очень-то верил, по-прежнему наивно делил людей на хороших и дурных и полагал, что все хорошие, независимо от происхождения и имущественного положения, должны понять друг друга и добиться полного согласия и мира.
И все-таки, намереваясь меня расстрелять, муромские мятежники были по-своему правы. Незаметно для себя я превратился уже в того, кого теперь принято называть беспартийным большевиком. Хотел я этого или нет, но логика классовой борьбы, которую я все еще отрицал, поставила меня по эту сторону баррикад и сделала кровным врагом всех тех, кто шел под трехцветными знаменами контрреволюции.
Если мятеж в Муроме был сразу же ликвидирован, то под Ярославлем долго еще грохотали пушки осадивших мятежный город красноармейских частей.
Мятежи в поволжских городах в связи с расширившимся наступлением чехословаков показали, что внутренний фронт являет теперь собой наибольшую опасность для страны. В то же время на фронтах «завесы» наблюдалась полная устойчивость.
Беспартийные члены Высшего Военного Совета в это время довольно туманно представляли себе политическую обстановку — внешнюю и внутреннюю. Контрразведка находилась в руках у политических руководителей ВВС и отчитывалась только перед ними. Мы же, военные специалисты, могли питаться только обывательскими разговорами и многочисленными слухами, как всегда одинаково вздорными и часто провокационными.
При таких условиях, когда неясно, кто враг и кто друг, и почти неизвестны замыслы верховных органов власти, трудно создать четкий план военных действий и еще труднее его проводить. Поэтому я снова обратился к председателю ВВС с просьбой ориентировать меня и моих товарищей в сложившейся обстановке и в военных замыслах правительства.
Троцкий сделал нам доклад, наполненный трескучими фразами, блещущий остроумными «мо», неожиданными сравнениями и метафорами, но никого не удовлетворивший и не внесший требуемой ясности в вопросы обороны страны.
Вслед за этим после ближайшего заседания ВВС я переговорил о том же с заместителем председателя Склянским. Длительный разговор этот тоже ничего не дал, Склянский не столько отвечал на мои вопросы, сколько пытался выявить мои настроения.
Необходимой ясности в мое трудное раздумье ни доклад Троцкого, ни разговор со Склянским не внесли, но одно я осознал до конца — оборона Республики находится в крайне напряженном состоянии и ее необходимо коренным образом перестроить. Мне стало очевидным, что Высший Военный Совет дожил свой. век и уже не нужен. Дело было теперь за тем, чтобы перейти к «подсказанным самой жизнью новым организационным формам, при которых фронтами распоряжались бы не плохо осведомленные, привлеченные больше для консультации, нежели для управления военспецы, а человек, облеченный полным доверием правительства. Для роли такого главнокомандующего (а именно он и нужен был) я не годился ни по возрасту, ни по своей идейной неподготовленности.
Но и заменить меня на посту военного руководителя ВВС, если бы все осталось по-прежнему, было некем.
Решив, что мой уход с поста послужит последним толчком для проведения давно назревшей реорганизации руководства вооруженными силами Республики, я надумал просить об отставке, ссылаясь на усталость и плохое
состояние здоровья. Надо сказать, что с самого начала войны 1914-1918 гг. я не отдыхал и дня.
В ответ на мой телеграфный рапорт об отставке я получил от председателя ВВС, находившегося в это время на Восточном фронте, следующую телеграмму:
«Свияжск. Ваша просьба об отставке явилась для меня чрезвычайной неожиданностью. Поскольку причиной вашего шага является состояние здоровья, я со своей стороны настаивал бы на отпуске для поправления здоровья. Относительно продолжительности отпуска можно было сговориться без затруднений. Не сомневаюсь, что вы не отстранитесь от работы по организации армии».
Я тотчас же протелеграфировал:
«Просьба об увольнении от должности обуславливается необходимостью иметь постоянного военрука, не временного заместителя по случаю моего отпуска. Временный заместитель будет работать канцелярски, назначенный военрук будет работать идейно. Организация армии остается для меня навсегда обязательной работой.
Бонч-Бруевич»
27 августа я был освобожден от должности с оставлением в распоряжении Народного комиссариата по военным и морским делам с сохранением содержания по должности военного руководителя ВВС. Последнее могло льстить моему самолюбию, но практического значения не имело — деньги настолько упали, что никакой ценности не представляли. Но зато основные мои предположения сбылись. В начале сентября Высший Военный Совет прекратил свое существование. Вместо него в качестве высшего военного органа был образован Революционный Военный Совет Республики. Управление вооруженными силами, действовавшими на всех фронтах, было объединено в руках главнокомандующего, при котором был сформирован штаб, развернутый из скромного аппарата ВВС. Штаб этот поглотил и Оперод. На этом закончилась немало огорчавшая меня эпоха двойственности в руководстве боевыми действиями Красной Армии.
Глава десятая
Подвойский и Всевобуч. — Мои возражения против «тер-армии». — Споры с Подвойским. — Назначение Вацетиса главкомом Восточного фронта. — Ленин о «корволанте». — Темная миссия бывшего прапорщика Логвинского. — Меня пытаются завербовать. — Трагическая судьба Логвинского. — Бурцев обо мне и других генералах, работавших с Советами.
В Красной Армии было немало работников, в том числе и ответственных, которым мой добровольный уход с поста военного руководителя ВВС ничего, кроме удовольствия, не доставил.
Служить в армии я умел и любил, прислуживаться же к кому бы то ни было не хотел, да, пожалуй, и не смог бы — с таким уж характером я, если и не уродился, то еще молодым офицером вышел в войска.
Не отличался я и уменьем ладить с начальством и всегда больше дорожил интересами порученного мне дела, нежели тем, что обо мне подумают.
Даже в Высшем Военном Совете положение мое было не из легких. С Николаем Ильичем Подвойским, виднейшим по тому времени военным работником, мы сразу не то, чтобы невзлюбили друг друга, а разошлись во взглядах на основные принципы формирования армий.
Николай Ильич был горячим и неумеренным поклонником Всевобуча.
Сам по себе Всевобуч или система всеобщего обязательного военного обучения не вызывала у меня никаких возражений. И когда 22 апреля 1918 года ВЦИК утвердил декрет об обязательном обучении военному делу, я был несказанно рад, ибо Красная Армия, строилась еще на основе добровольчества, декрет же делал обязательным для каждого рабочего и крестьянина восьминедельное военное обучение.
Эта допризывная подготовка обеспечивала Красной Армии относительно обученные пополнения и, конечно, способствовала укреплению вооруженных сил Республики.
Во главе Всевобуча стоял Подвойский, большой энтузиаст этого дела. К сожалению, он не удовольствовался допризывной подготовкой трудящихся и начал ратовать за необходимость создания армии милиционного типа с очень коротким сроком службы. Формирование этой армии Подвойский предлагал поручить Всевобучу, превратив его таким образом в своеобразный главный штаб.
Поначалу, покамест не выяснились еще противоположные наши точки зрения на принципы обороны Республики, Подвойский относился ко мне очень дружелюбно и не раз советовался со мной, давая читать составленные им самим и его сотрудниками по Всевобучу пространные доклады.
Основным козырем Николая Ильича, которым он особенно охотно пользовался, было то обстоятельство, что в старой, еще социал-демократической программе партии армия заменялась народной милицией. Придав этой милиции строго классовый характер, Подвойский считал, что делает сугубо-партийное и, безусловно, правильное дело, пропагандируя в действительности то, что поставило бы страну на колени перед любым из ее врагов.
В конце концов он пришел к выводу о необходимости объединения территориально сформированных дивизий в особую «Тер-армию». Я предполагал, что территориальные части вольются в Красную Армию, численность которой уже в ближайшее время надо было довести до миллиона. Но по мысли Подвойского «Тер-армия» должна была представлять собой особые вооруженные силы, параллельные «генеральской» армии, формируемой Высшим Военным Советом и военными округами.
Идея такой армии у меня ничего, кроме протеста, вызвать не могла, и я громогласно раскритиковал затею Николая Ильича.
Завязалась длительная борьба, в которой Подвойский не раз брал верх. Пользуясь своей близостью к правительству, он многократно добивался согласия высоких инстанций на практические мероприятия, вытекающие из его пагубной затеи.
Но он был все-таки не в силах заглушить мой критический голос и, чтобы посрамить меня, созывал всевозможные заседания, на которых громил меня, как старорежимного генерала. Окончательно теряя самообладание, Подвойский принимался доказывать, что как «царский генерал» я только тем и занимаюсь, что «умело обманываю Советскую власть».
Проводившаяся мною система формирования показывала необоснованность этих обвинений. По моему плану пункты формирования дивизий были намечены там, где это нужно было по боевым условиям и по удобствам формирования; самой системой исключалась выборность командиров; скорость формирования была наибольшей; командный состав набирался как из офицеров старой армии, так и из новых людей; в основу была положена обязательная воинская служба, направлявшая в формирующиеся дивизии тех, кому доступ в армию открыло само правительство; этим выдерживался классовый принцип, о котором так любил говорить Подвойский.
Возводимые против меня Николаем Ильичом обвинения были ни на чем не основаны, а энергия, которую он тратил, чтобы провести в жизнь свои путаные идеи о «Тер-армии», только тормозила формирование «армии прикрытия» и «главных сил» Красной Армии.
Немало противников и даже врагов появилось у меня и на местах. В ином исполкоме присланных мною офицеров ни с того, ни с сего сажали и, объявив мои приказы контрреволюционными, вместо регулярной дивизии создавали партизанскую вольницу.
Не очень я ладил и с Оперодом и со всякого рода «главкомами», которые все еще во множестве водились на необъятных просторах России, охваченной пожаром гражданской войны.
Одного из таких главкомов, знакомого мне еще по Могилеву Вацетиса я как-то крепко одернул, воспользовавшись тем доверием, которое мне оказывал Ленин.
После измены и бесславной гибели Муравьева, Вацетис был назначен главнокомандующим Восточного фронта, образованного Оперодом против чехословаков. Я потребовал от него полного подчинения; Вацетис же, считая себя подчиненным Опероду, самочинничал, нанося этим немало вреда делу обороны.
Приказы Высшего Военного Совета он явно игнорировал. Но время от времени я все-таки получал от него телеграммы — весьма резкие по тону и странные по существу. Последняя из таких телеграмм гласила о том, что командование Восточного фронта нуждается в сформировании «корволанта» на манер летучего корпуса из конницы и пехоты, перевозимой на лошадях, созданного когда-то Петром I и отличившегося в боях со шведами.
Телеграмма эта пришла в те дни, когда положение на Восточном фронте было до крайности напряженным. Казалось, нельзя было терять и минуты, а командование фронта занималось какими-то фантастическими затеями…
Заготовив от имени Ленина суровую телеграмму Вацетису, в которой ему предписывалось полное подчинение ВВС и запрещалось обращаться с ничем не сообразными предложениями, я отправился в Кремль и, пройдя в кабинет Владимира Ильича, доложил ему о «самостийности» главкома Восточного фронта и его художествах.
Услышав о «корволанте», Ленин долго смеялся и, не сделав ни одной поправки к предложенной мною телеграмме, подписал ее.
Дальнейшие события подтвердили те мрачные предположения, о которых я докладывал Владимиру Ильичу. Прошло немного времени, и Казань была захвачена вместе со значительной частью золотого запаса Республики. Сам Вацетис едва унес ноги,- белые его, конечно, не пощадили бы…
Но если с «красными» я только спорил и ссорился, то «белые» возненавидели меня такой лютой ненавистью, что я диву давался. Этому предшествовало несколько попыток завербовать меня и использовать в интересах контрреволюции — благо я занимал одну из высших военных должностей в Красной Армии, много знал и немало мог сделать, если бы стал изменником.
Во второй половине июля в моем вагоне появился бывший прапорщик Логвинский, известный мне по службе в штабе Северного фронта. Начав со мной доверительный разговор, Логвинский признался, что давно уже, еще до революции, вступил в партию эсеров, но принадлежность эту по вполне понятным причинам скрывал от меня при старом режиме.
— Ваше превосходительство, я прибыл к вам по поручению тех ваших товарищей и сослуживцев, которые нашли в себе мужество не подчиниться «комиссародержавию», — сказал он мне, убедившись, что мы одни и нас не подслушивают.
— В лагере белых у меня есть бывшие сослуживцы и. нет товарищей,- сердито обрезал я
— Неужели, ваше превосходительство, вам непонятно, какое преступление совершаете вы, помогая большевикам удерживать незаконно захваченную власть, — настойчиво титулуя меня, продолжал Логвинский.- Большевики держатся на вооруженных силах, которые вы же для них формируете… Если бы не ваш военный опыт и знания, они не имели бы армии и отдали Петроград еще весной…
Он долго еще продолжал «вербовать» меня, цинично соединяя сомнительные комплименты по моему адресу с явными угрозами.
Я слушал Логвинского, размышляя над тем, имею ли я моральное право арестовать его и отправить в ВЧК. Для нынешнего моего читателя, особенно молодого, этот вопрос даже не встал бы, — явился тайный посланец врагов, пытается склонить тебя к измене, так чего же с ним церемониться!
Но людям моего поколения было совсем не просто решить, как следует поступить в таком непредвиденном случае. Офицер доверился мне, как бывшему своему начальнику и русскому генералу. Я мог еще заставить себя сражаться с моими однокашниками в «честном» бою. Но использовать свою власть и прибегнуть к мерам, которые по старинке все еще считал «полицейскими», — о нет, на это я был не способен.
Рассуждения мои теперь кажутся смешными. Но мое поколение воспитывалось иначе, и гимназическое «не фискаль», запрещающее жаловаться классному начальнику на обидевшего тебя товарища, жило в каждом из нас до глубокой старости.
Поэтому всячески подчеркнув враждебное мое отношение к той тайной миссии, с которой Логвинский явился ко мне, я начал ему выговаривать за неверные его убеждения.
— Вам известно, что я не принадлежу ни к одной из политических партий? — сказал я.- Да, не принадлежу, — но не вижу никаких оснований к тому, чтобы не продолжать службы при нынешнем правительстве Народных Комиссаров. Россия, как никогда, нуждается теперь в мощной армии. Аппетиты иностранцев, которым всегда претила сильная Россия, разыгрались донельзя, и потому тот, кому дорога родина, не может не поддерживать большевиков.
Доказывая Логвинскому все эти давно известные ему истины, я наивно уподоблялся крыловскому повару, уговаривавшему напроказившего кота. Но таково было простодушие моего поколения, невыносимо либерального там, где этот либерализм вовсе не требовался…
— Ну, смотрите, ваше превосходительство, как бы ваша работа не кончилась для вас трагедией…- пригрозил мне Логвинский и начал прощаться.
— Поживем — увидим, — сказал я и оказался для бывшего прапорщика плохим пророком. Расставшись со мной, Логвинский пробрался в Крым и там был расстрелян белыми, которым почему-то показался «красным».
Предупреждений, подобных тому, которое мне сделал Логвинский, я получал немало. Когда же белые уверились, что переубедить, а тем более склонить к измене меня невозможно, враждебное ко мне отношение превратилось в ненасытную ненависть. Отсюда вполне понятно и стремление руководимых офицерской организацией муромских мятежников расправиться со мной, отсюда — и все те помои, которые белые выливали на меня в своей продажной прессе.
В конце гражданской войны в редактируемой пресловутым Бурцевым, выживавшим из ума злобным старикашкой, грязной белогвардейской газете «Общее дело» появилась огромная статья «Как они продались III-му Интернационалу», выдержки из которой я позволю себе привести. В статье, занявшей четыре номера газеты, Бурцев огласил список двенадцати генералов, которые ставятся всей белой эмиграцией «вне закона» и подлежат повешенью, как только «законная» власть вновь водворится в России. На втором месте в этом списке сейчас же после А. А. Брусилова стоял я.
…«Кроме того, по важности оказанных услуг и глубокой степени предательства, — писал Бурцев, — сюда же надо присоединить и генерала генерального штаба Бонч-Бруевича. Остальные лица, которые будут встречаться в моем рассказе, являлись фигурами эпизодическими. Перечисленные же поименно удовлетворяют всем условиям, способным определить суд над ними или их памятью в будущей России. То-есть, они: 1) поступили на Советскую службу добровольно, 2) занимали посты исключительной важности, 3) работая не за страх, а за совесть, своими оперативными распоряжениями вызвали тяжелое положение армий Деникина, Колчака, Петлюры: создали военно-административный аппарат, возродили Академию генерального штаба, правильную организацию пехоты (Бонч-Бруевич), артиллерии и ту своеобразную систему ведения боев большими конными массами, которая вошла в историю под именем операций конницы Буденного.
Все двенадцать, — неистовствовал Бурцев, — подготовляли победу большевиков над остатками русских патриотов; все двенадцать в большей степени, чем сами большевики, ответственны за угрозу, нависшую над цивилизацией.
Чтобы не повторять всем известных деталей, — достаточно сопоставить нынешнюю Красную Армию, нынешний военный стройный аппарат с тем хаосом и разбродом, какие памятны нам в первые месяцы большевизма. Вся дуга перехода от батальона оборванцев к стройным войсковым единицам достигнута исключительно трудами военспецов…
Деятельность затронутых мною двенадцати лиц протекала не с одинаковой интенсивностью. В то время, как вместе с падением своего брата б. управляющего делами Совнаркома, — отошел от деятельности М. Д. Бонч-Бруевич, впавший в опалу, наиболее процветали в украинскую эпоху Гутор и Клембовский. Дважды они занимали и создавали Украину и в продолжение целого года катались в своих роскошных поездах по линии Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Волочиск и т. д. Изучив каждый кустик на этом театре войны, они были, без сомнения, очень опасными противниками Деникина, тем более Петлюры и партизан; в характере их службы сомневаться не приходится.
…Необходимо подчеркнуть, — возмущённо продолжал Бурцев, — что за три года существования института военспецов не было случая, чтобы в раскрытых заговорах фигурировала хоть одна крупная фамилия.
…Русская армия и Россия погибли от руки взлелеянных ими людей. Больше, чем немцы, больше, чем международные предатели, должны ответить перед потомством люди, пошедшие против счастья, против чести их мундира, против бывших своих товарищей.
Летом 1920 года в Крыму было опубликовано воззвание офицеров генерального штаба, находящихся в армии Врангеля. После прочтения имен подписавшихся стало жутко: оказалось, что громадное большинство мозга армии — генеральный штаб — не здесь, с нами, а там — с ними. И их умелую и предательскую руку чувствовали в критическую минуту и Колчак, и Деникин, и Врангель. Они прикрывались именами никому не известных комиссаров и политиков. Это их не спасет ни от нашего презрения, ни от суда истории».
Подобного рода «художественных» описаний деятельности военных специалистов, оставшихся в своем отечестве, и, в частности, моей работы у большевиков, в белой печати появилось немало. Но чем яростнее были нападки белых и чем больше грязной клеветы писалось по моему адресу, тем легче становилось у меня на душе, — белогвардейская брань и угрозы укрепляли меня в сознании своей правоты и ободряли в те трудные часы, которых я пережил без счета. Известная подозрительность сопровождала меня все эти напряженные годы. Далеко не все политические руководители, с которыми я соприкасался по моей высокой должности, верили мне, и я не раз оказывался в положении человека, который и «от своих отстал» и «к чужим не пристал».
Но никогда мне и на мгновенье не приходила в голову мысль бросить работу и податься к «своим», к тем бывшим моим товарищам, которые готовы были утопить Россию в море крови, лишь бы вернуть столь любезные им дореволюционные порядки.
И прав Бурцев, когда в той же статье говорит обо мне и других военных специалистах Красной Армии: «Неоднократные (и я бы сказал «многократные») попытки белых агентов вступать с ними в сношения наталкивались на самый яростный отпор…»
Достигнув преклонного возраста и дождавшись суда истории, которым грозили мне белые эмигранты, я могу с гордостью сказать, что в том великом переломе, который произошел в судьбах человечества в результате Октябрьской социалистической революции, есть доля и моих трудов, — трудов старого царского генерала, из-за любви к родине мучительным и тяжким путем пришедшего к новому, даже не снившемуся ему миропониманию.
Глава одиннадцатая
На положении рядового обывателя. — Я возвращаюсь на преподавательскую работу. — Снова «низшая геодезия». — Страховое общество. — Ленин и Комиссия академика Ольденбурга. — Инициативная группа по созданию Геодезического центра. — Декрет об организации Высшего Геодезического управления. — Утверждение Лениным председателя коллегии ВГУ. — Судьба моей черниговской квартиры. — Безрезультатное вмешательство Ленина. — «Памятки» по военным вопросам. — Ошибочная затея Склянского.
Уйдя в отставку, я оказался в положении рядового обывателя, до которого никому нет дела.
В одном отношении военная служба как бы развращает, — ты привыкаешь к тому, чтобы все житейские заботы тебя не касались. Тебе не надо искать жилья, — для этого есть квартирьеры; ты не должен беспокоиться об еде, — на то и существуют каптенармусы и кашевары, чтобы тебя накормить; тебе нет нужды думать о завтрашнем дне, — за тебя думает начальство… И кем бы ты ни. был в армии — солдатом или генералом — никаких основных житейских, бытовых забот у тебя нет и не должно быть…
Почти всю свою сознательную жизнь я провел на военной службе. И теперь, отказавшись от поста военного руководителя Высшего Военного Совета и уйдя из Красной Армии, я почувствовал себя на редкость беспомощным в голодной, мрачной и уже парализованной разрухой Москве.
Формально я оставался в Красной Армии; также формально я имел право на какую-то обо мне заботу военных учреждений. Но совесть подсказывала, что, ежели я, пользуясь возрастом и усталостью, предпочел быть вне армии, то пользоваться армейскими благами, как ни скудны они были на втором году революции, я никак не могу. Поэтому в первую очередь пришлось подумать о каком-нибудь жилье.
После переезда Высшего Военного Совета в Москву, порядком устав от жизни на колесах, я как-то воспользовался тем, что в занятом нами под штаб особняке в Гранатном переулке имелись свободные комнаты, и вместе с .Еленой Петровной переехал туда. Комнаты эти теперь пришлось освободить. Щепетильность не позволяла мне торчать в штабном доме после того, как я потерял к этому штабу прямое отношение.
Москва пустела с каждым днем, но жилищный кризис в ней почему-то уже обозначился. Возможно, впрочем, что это было только моим ощущением. Привычные наклейки на стеклах окон, оповещавшие до революции о сдаче в наем квартир и комнат, исчезли. Найти комнату казалось делом трудным и хитроумным, — кто знает, где и как ее надо было искать.
На счастье у одной давно знакомой нам с женой вдовы, постоянно живущей в Москве и промышлявшей сдачей комнат в наем, оказалась свободная, кое-как меблированная комнатушка, площадью метров в восемь — десять и, сняв ее за двадцать пять рублей в месяц, мы поспешно переехали.
Переход от кипучей деятельности в течение трудных лет войны к сиденью без всякого дела в четырех стенах студенческой комнатенки показался мне мучительным и только чрезмерная физическая усталость, сковывавшая все мои члены, заставляла кое-как мириться с таким времяпрепровождением.
Прошел месяц, и я понял, что не вынесу дальнейшего безделья. Постеснявшись пойти в Наркомат по военным и морским делам, я решил отправиться в Межевой институт, который когда-то окончил со званием межевого инженера.
Директором Межевого института оказался М. А. Цветков, которого я, уже оканчивающий курс, знал в свое время еще совсем юным воспитанником младших классов. Застал я в преподавательском классе и нескольких профессоров, которых, подобно Цветкову, знавал еще студентами. Но большинство преподавателей института было мне незнакомо.
Узнав меня и расспросив о цели моего прихода, Цветков тут же предложил выдвинуть мою кандидатуру на должность штатного преподавателя по кафедре «низшей геодезии». Кафедру эту возглавлял профессор Соловьев, окончивший Межевой институт лет на шесть раньше меня.
Отлично усвоенный мною еще в институте курс геодезии я теоретически и практически повторил в Академии генерального штаба. В бытность мою в Киеве я преподавал топографию в военном училище и вел практические занятия со студентами Политехнического института. Все это давало мне право считать себя вполне подготовленным для обещанной Цветковым должности.
Однако Советом института я по непонятным для меня причинам был забаллотирован.
Но Цветков заставил Совет института пересмотреть вопрос, и я возобновил преподавательскую деятельность, оставленную мною еще задолго до войны.
С лекциями, которые я читал студентам второго курса, и с практическими занятиями, которые мне пришлось с ними вести, все обстояло благополучно, и я мог бы считать, что нашел какое-то свое место на земле, если бы не полная невозможность жить на обесцененное за войну и революцию преподавательское жалованье.
Ведавший кафедрой профессор Соловьев любезно порекомендовал меня своему родственнику, одному из директоров Коммерческого .страхового общества, и мне была предоставлена должность калькулятора. Пришлось взяться на старости лет за курс коммерческой арифметики и, освоив его, засесть за арифмометр.
Конечно, между верховным руководством Красной Армией и разработкой таблиц страхования жизни при заданных условиях была гигантская дистанция, и, если бы не врожденное мое упрямство, я взвыл бы волком от неудовлетворенности и тоски по настоящему делу.
Мне неожиданно повезло. Началась реформа страхового дела и дирекция общества в порядке демократизации была пополнена двумя представителями от его служащих. Одним из таких выборных директоров стал я, и это освободило меня от арифмометра, который я успел возненавидеть.
Директорство мое продолжалось недолго. С организацией Госстраха Коммерческое общество было ликвидировано. В феврале девятнадцатого года в числе других служащих был освобожден от работы и я, и это .вышло весьма кстати, так как меня в это время целиком уже поглотила организация нового, никогда еще в России не существовавшего учреждения, имевшего большое государственное значение. Речь шла о создании Высшего Геодезического Управления, и этому делу я начал отдавать все свои силы.
Необходимость создания научного центра, который направлял бы геодезическую работу, ведущуюся в разных концах огромной империи, осознавалась еще задолго до революции многими межевыми инженерами. В 80-х годах прошлого века один из преподавателей Константиновского Межевого института Юденич{67} организовал в Москве «Общество межевых инженеров», издававшее свой печатный журнал «Межевой вестник» и кое-что делавшее для развития геодезии как науки.
В восемнадцатом году, когда я, как блудный сын, вернулся к своей старой профессии, «Общество межевых инженеров», хотя и было зарегистрировано при новой власти, влачило самое жалкое существование. Два раза в месяц в нетопленных аудиториях Межевого института собирались простуженные и голодные геодезисты и, не расставаясь с шубами и валенками, хрипло жаловались на светопредставление, начавшееся в России с приходом к власти большевиков.
Приходил на эти собрания и я и, хотя каждый раз давал себе слово, что в последний раз слушаю эти обывательские толки, не находил в себе мужества порвать с «обществом», — уж слишком безрадостной представлялась жизнь занятого только ожиданием очередной получки мелкого служащего.
Наконец, именно в этом, дышавшем уже на ладан «Обществе межевых инженеров» я и поставил вопрос о создании Высшего Геодезического управления.
Выдвинутая мною идея объединения всех геодезических и съемочных работ в России мне не принадлежала. Еще перед войной была учреждена под председательством ученого секретаря Академии Наук Ольденбурга специальная комиссия, которая должна была подготовить этот вопрос.
Война, а затем февральская и Великая Октябрьская революции приостановили работу комиссии.
Вскоре после Октября академик Ольденбург обратился с письмом к В. И. Ленину, прося ассигновать некоторую сумму денег на продолжение работы комиссии. Ознакомившись с письмом, Владимир Ильич распорядился запросить Ольденбурга о том, что сделала комиссия за долгие годы своего существования. В ответе своем Ольденбург признался, что никаких определенных результатов деятельность комиссии покамест не дала.
Ответ академика не удовлетворил Ленина, и он приказал никаких денежных сумм комиссии не ассигновывать, а самое ее распустить.
Спустя некоторое время дела ликвидированной комиссии попали в управление делами Совнаркома. Брат мой Владимир Дмитриевич, в свое время учившийся в Межевом институте, отлично представлял себе необходимость объединения геодезических и съемочных работ. Передав мне для ознакомления дела комиссии, он многозначительно сказал, что Ленин очень интересуется правильной постановкой геодезического дела.
Из просмотра дел ликвидированной комиссии Ольденбурга я не почерпнул для себя ничего полезного, но еще более укрепился в давно занимавшей меня мысли о необходимости организации единого геодезического центра.
Постепенно выкристаллизовавшаяся мысль рисовала будущее это управление, как учреждение, руководящее основными геодезическими и съемочными работами на всей территории Республики.
Идеей этой я поделился с моими коллегами по Обществу и, как это бывает, заинтересовавшись возможностью по-настоящему применить свои знания, сердитые ворчуны не у дел неожиданно превратились в энтузиастов любимой науки, еще недавно казавшейся обреченной на забвение и гибель в «варварской» Советской России.
Подобные метаморфозы я не раз наблюдал после революции в военной среде. Слушаешь иного царского генерала, и самому становится тошно: жить незачем. Россия все равно погибла, никакой армии большевики, конечно, не создадут, образованные люди уже никому не нужны, лучше торговать газетами, чем идти в Красную Армию. А у белых и того хуже — там уж просто форменный публичный дом… С трудом уговоришь такого ноющего своего однокашника взяться за работу в «завесе» и уже через неделю, другую видишь перед собой совершенно другого человека: сразу помолодевшего, бодрого и решительного, ожившего словно рыба, пущенная обратно в воду. То же произошло и в «Обществе межевых инженеров». Те, кого я принимал за обиженных старичков, очень скоро оказались превосходными работниками. Идея объединения всех геодезических и съемочных работ, производимых различными ведомствами, и составления на основе такого объединения единой общегосударственной карты после того, как я сделал об этом доклад на одном из общих собраний Общества, стала предметом горячих споров.
Нашлись люди, принявшие в штыки даже самую идею создания геодезического центра. Они оказались либо членами упраздненной комиссии Ольденбурга, либо теми, кто так или иначе был с ней связан.
Вся эта «оппозиция» считала, что существует только один путь — восстановление комиссии Ольденбурга.
Моя точка зрения была прямо противоположной. Я настаивал на создании геодезического центра на совершенно новых основаниях и вне всякой преемственности с давно скомпрометировавшей себя комиссией. В конце концов большинство членов «Общества межевых инженеров» сделалось моими сторонниками.
Была выделена инициативная группа, которой и поручили сноситься с правительством по всем затронутым вопросам. В инициативную группу в числе других геодезистов вошел и Соловьев.
Благодаря сочувствию Ленина и с помощью брата вопрос решился очень быстро и просто — нашей инициативной группе от имени Владимира Ильича было поручено составить проект декрета о Высшем Геодезическом управлении.
Через брата же я передал проект Ленину, и уже 23 марта 1919 года был опубликован декрет, вошедший в историю нашего народного хозяйства.
Так началась коренная реформа геодезического дела в России, ставившая своей целью наилучшее изучение территории страны в топографическом отношении в целях поднятия и развития производительных сил, экономии технических и денежных средств и времени. Эти задачи и были определены декретом.
Начавшаяся реформа, как показало будущее, имела важное значение для всей нашей социалистической страны. Значение это особенно возросло в годы первых пятилеток и связанного с ними капитального строительства.
В настоящее время геодезическая деятельность в СССР является самой передовой в мире как с научной, так и с практической точки зрения.
Едва декрет о создании ВГУ, как по тогдашней моде мы уже называли организующееся управление, был опубликован в «Известиях»,- инициативная группа взялась за его формирование.
С разрешения Ленина группа наша была переименована в «коллегию ВГУ». Председателем коллегии мы предложили утвердить профессора Соловьева и через моего брата попросили Владимира Ильича его принять. Ленин согласился и тут же назначил время.
Мой брат присутствовал на приеме. Владимир Ильич, пойдя навстречу нашему коллективу, утвердил Соловьева председателем коллегии, но когда тот, очень довольный оказанным ему вниманием, ушел, сказал брату:
— Этот дряхлый старец едва ли справится с широкими задачами — ВГУ.
И все-таки, решая вопрос о председателе ВГУ, Ленин даже вопреки своему личному впечатлению поверил моей рекомендации.
Доброе отношение ко мне Владимира Ильича не раз окрыляло меня. И хотя я старался не злоупотреблять им и ни в коем случае не пользоваться возможностью обращения к Владимиру Ильичу в личных своих интересах, мне именно в то время, когда я занимался подготовкой декрета о ВГУ, пришлось обратиться к Ленину с личной просьбой.
Чернигов, в котором после ухода моего на фронт осталась моя большая квартира с мебелью, книгами и всяким другим добром, был еще в начале прошлого года оккупирован немцами.
Пока немцы находились в городе, в моей квартире размещалось какое-то германское учреждение. Со свойственной немцам педантичностью, они упаковали все обнаруженное в квартире имущество и, перенеся его в одну из комнат, запечатали ведущую в нее дверь.
Написавший мне об этом знакомый предупредил, что и на квартиру и на оставшиеся в ней вещи зарятся многие. Писал он мне и о том, что местные власти намерены реквизировать мое имущество, как принадлежащее «царскому генералу». Помимо обстановки, утвари и носильных вещей, в черниговской квартире находилась большая библиотека, которую я любовно собирал несколько десятков лет. Остались в Чернигове и рукописи многих моих работ и обширный личный архив. Книги, рукописи и архив представляли для меня ценности, которых нельзя было возобновить, и это-то и заставило меня обратиться к Ленину с просьбой защитить меня от незаконных посягательств.
8 мая 1919 года я получил от управляющего делами Совнаркома приводимое ниже письмо:
«6.V — 19 г. Мною было доложено Председателю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину о вашем заявлении о реквизиции ваших домашних вещей в г. Чернигове. Председатель Совета Народных Комиссаров тотчас же распорядился дать телеграмму председателю Совнаркома Украины о сохранении в целости ваших вещей, особенно библиотеки и архива, предлагая предсовнаркому сделать распоряжение Черниговскому Исполкому. На эту телеграмму председателя Совнаркома 7-V-19 г. получен ответ из Киева следующего содержания: «Распоряжение Черниговскому Исполкому о сохранении в целости вещей и библиотеки Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича сделано. Предсовнаркома».
Об этих распоряжениях высших властей Российской и Украинской Советских республик вас уведомляю».
Распоряжение Ленина, к сожалению, опоздало. Как сообщили мне из Чернигова, толпа, предводимая каким-то почтово-телеграфным чиновником, уже проникла в мою квартиру и, взломав запечатанную дверь, расхватала все сложенные в комнате вещи. Мебель и библиотеку куда-то всю перевезли. По письму трудно было решить, что произошло: реквизиция ли местным советом моего имущества или разграбление его уличной толпой.
Спустя две недели Владимир Ильич вторично запросил Киев о выполнении прежнего своего распоряжения. 23.V.19 г. я получил копию телеграммы Предсовнаркома Украины Ленину такого содержания: «В ответ на мой запрос Черниговскому Исполкому относительно имущества Бонч-Бруевича получен следующий ответ: «Вещи домашнего обихода Михаила Бонч-Бруевича, обнаруженные в чрезмерном количестве, несколько месяцев назад были распределены Губотсобезом среди воинских частей и неимущих рабочих. Оставленное в распоряжении Бонч-Бруевича достаточно для обихода одной семьи. Мебель помещена в клуб коммунистов. Библиотека передана Губнаробразу. Удостоверяем, что ничего решительно не расхищено и не растрачено непроизводительно. Предгуб-исполкома Коцюбинский».
Далее следовала приписка предсовнаркома Украины о том, что им уже сделано распоряжение о возвращении библиотеки и мебели.
Телеграмма Коцюбинского оказалась чрезмерно оптимистической. Решительно ничего из моего имущества в Чернигове не сохранилось, и я не смог получить обратно даже части моей библиотеки и архива. О мебели и обо всем остальном не приходилось и думать.
Отойдя формально or Красной Армии и занимаясь «межевыми» делами, я продолжал пристально следить за развитием военных событий. По давней привычке я критически осмысливал то, что происходило на фронтах и внутри Красной Армии, и неоднократно делился с братом своими сомнениями.
По некоторым, наиболее острым, как мне тогда казалось, вопросам я писал Ленину «памятки» и отдавал их брату с просьбой лично доложить Владимиру Ильичу.
Таких памяток за время с сентября 1918 года по июнь 1919 года мною было написано шесть. Копии их у меня сохранились, но нет надобности утомлять внимание читателя. И все-таки несколько слов о содержании этих «памяток» мне хочется сказать, тем более, что все они докладывались Владимиру Ильичу, а некоторые из них, насколько я мог судить по словам брата, принимались Лениным во внимание и имели те или иные последствия.
В первой памятке, написанной вскоре после заключения Версальского мирного договора, я подвергал критике распространенную среди военных работников того времени тенденцию преувеличения значения гражданской войны и недооценки внешней угрозы социалистической России, возникшей в связи с послевоенными политическими перегруппировками в Европе и в мире.
Считая, что гражданская война будет нами выиграна в любом случае, я полагал, что пришло время готовиться к нападению на Республику извне. Для того же, чтобы Россия в этой неизбежной войне оборонялась не кустарно, уже сейчас надо ставить вопрос не только о частных стратегических задачах и соответствующей перегруппировке вооруженных сил, но и о подготовке будущих театров военных действий. «Ближайшей неотложной задачей, — писал я, — на пути к «подготовке» необходимой обороны страны в настоящую эпоху является разведывательная деятельность правительства в области политики, приводящая в конечном результате к обнаружению фактических группировок среди иностранных государств, сложившихся вследствие появления на свет мирного договора. Наличность этих данных обеспечит прочные основания для стратегической подготовки необходимой обороны страны в течение наступающей длительной эпохи международных войн».
В другой своей памятке я подверг резкой критике систему развиваемых нами военных действий, основанных на некой «линейной стратегии».
Этой линейной стратегии я противопоставлял действия отдельными группами (армиями) по определенным направлениям, расцениваемым по их важности, с конкретными стратегическими и тактическими задачами для каждой армии, с разработанным базированием и с устроенными для каждой армии военными сообщениями.
Новый главнокомандующий всеми, вооруженными силами Республики Вацетис стоял, по-моему, на неправильном пути, полагая, видимо, что его обязанности исчерпываются руководством действующей армией только в отношении операций. Мой взгляд на дело был иной; я считал, что главнокомандующий должен решать одновременно две задачи: непрерывно повышать боевую подготовку армии и подготавливать и исполнять операции, управляя ими в процессе их развития.
В этой же памятке я коснулся и наболевшего вопроса о борьбе со шпионажем противника.
«Шпионы — германские, английские и прочие, писал я, кишат в нашей Республике и в ее центрах, а наша контрразведка никак не может пойти дальше искания контрреволюции между своими же гражданами. Настоятельно необходимо организовать в действующей армии и в центре военную контрразведку, поручив это дело опытным контрразведчикам.
Контрразведке должны быть поставлены определенные задачи: выяснить систему разведки наших противников, организуемой ими в нашу сторону; организовать нашу разведку так, чтобы она пресекала разведку противника, направленную в нашу сторону; наконец, связать нашу контрразведку в действующей армии с операциями этой последней, дабы прикрывать от шпионажа подготовку каждой операции».
В еще одной «памятке», написанной после объединения командования республик, я внес предложение переименовать Красную Армию в Советскую.
Название это было присвоено нашим вооруженным силам спустя много лет после моего предложения; тогда оно было не столь неудачным, сколь преждевременным.
Другая моя памятка была посвящена обороне Петрограда от наступавших на него белогвардейских банд генерала Родзянко.
Поводом для обращения к Ленину послужила опубликованная в «Известиях» статья, в которой доказывалось, будто оборона Петрограда станет надежнее, если противник займет Гатчину и приблизится к Петрограду.
В противовес этому грубо ошибочному мнению, я писал:
«За Петроград можно быть спокойным только в том случае: если мы владеем р. Паровой и переправами на ней; если неприятеля нет на восточном берегу Чудского и Псковского озер; если линия: устье р. Великой — Псков — Остров — Святые горы — в наших руках; если, принимая во внимание силы противника, имеются достаточные силы с нашей стороны для защиты подступов к Петрограду со стороны Карелии; если наш Балтийский флот, не падая духом, организует активную оборону водного пространства Финского залива, хотя бы мелкими судами, действуя при этом «всегда совместно» с сухопутными силами при обороне Балтийского побережья от устья р. Наровы до Петрограда и далее до Финляндской границы.
Независимо от этих условий — оборона Петрограда будет совершенно безнадежной, если ею будут руководить, как это ныне имеет место, — чуть ли не десять инстанций. В районе Петрограда и в самом Петрограде развелось так много всякого начальства, что плохое управление действующими там войсками совершенно обеспечено».
Перечитывая сохранившуюся у меня копию «памятки», написанной в самом начале белогвардейского наступления на Петроград, я тем охотнее делаю из нее выписку, что читатель не без помощи широко известной, но фальшивой пьесы В. Вишневского «Незабываемый девятнадцатый» может подумать, что около Ленина и в армии не было честных и знающих людей, которые точно и правильно информировали его о создавшемся в Петрограде положении.
В еще одной «памятке», поводом для написания которой послужили разбойничьи действия на Украине «атамана» Григорьева, одно время считавшегося «красным», я еще раз настаивал на необходимости точного осуществления декрета Совета Народных Комиссаров от 6 апреля прошлого года, которым было установлено, что «вооруженные силы Республики подразделяются на войска полевые и войска местные, причем и те и другие должны быть организованы совершенно однообразно».
Сущность «памятки» сводилась к требованию полного запрещения добровольческих, партизанских и прочих иррегулярных отрядов.
Настаивал я в этой памятке и на необходимости наряду с проводимым Всевобучем одиночным обучением воинов широко практиковать обучение «тактике в поле» и войсковых частей взводов, рот, батальонов, полков, бригад и дивизий.
Кроме «памяток», приходилось мне обращаться к Ленину и по личным делам, как это я уже рассказывал, но приведу еще одно мое обращение к Владимиру Ильичу по личному вопросу.
«Глубокоуважаемый Владимир Ильич, — писал я.- Вчера, 9 июня, я был вызван народным комиссаром Склянским. После некоторого разговора на общественные темы, Склянский сказал мне: «Мы считаем вас на военной службе, потому что вы занимаетесь военными делами» и в доказательство такого моего занятия показал мне письменные заявления, посланные мною вам{68}.
Ввиду моего указания, что это едва ли служит доказательством моего нахождения на военной службе, так как фактически я состою на службе в Межевом институте и в Высшем Геодезическом управлении, Склянский заявил мне от имени «Совета Обороны», что есть решение привлечь меня на военную службу и назначить ответственным руководителем комиссии по уточнению численного состава армии и проверке распределения военнослужащих между фронтами и тылом. Затем он прочитал мне проект постановления «Совета Обороны» об учреждении такой комиссии.
По этому поводу считаю необходимым сообщить, что едва ли нужно выяснять численный состав армии комиссионным способом: этот состав надо просто затребовать от главнокомандующего всех вооруженных сил Республики. Полный состав армии заключается в официальном документе, который называется «расписанием вооруженных сил».
В этом же довольно пространном моем письме я не мог отказать себе в удовольствии поиронизировать по адресу Склянского, придумавшего никому не нужную комиссию только потому, что Владимир Ильич поставил перед ним ряд вопросов, касающихся положения в армии, и был очень недоволен, не получив на них сколько-нибудь исчерпывающих ответов.
Язвительное письмо мое дошло до Владимира Ильича, и пресловутый проект был похоронен с такой быстротой, какой заслуживал.
Примечания
{67} Отец белогвардейского генерала.
{68} «Памятки» и докладные записки.
Глава двенадцатая
Я назначаюсь начальником полевого штаба Республики. — Указание Ленина. — В Серпухове у Вацетиса. — Положение на фронтах. — Катастрофа на Южном фронте. — Арест Вацетиса. — Хвастливая ложь бывшего главкома. — Особенности предстоящего преследования армий Колчака. — Неизбежность польской кампании.
16 июня 1919 года ко мне на квартиру неожиданно приехал секретарь Склянского и потребовал, чтобы я вместе с ним немедленно отправился к народному комиссару.
Явившись, как было приказано, я узнал от Склянского, что Центральный Комитет партии большевиков .выдвинул меня на должность начальника полевого штаба, почему я и должен выехать в Серпухов и незамедлительно вступить в должность.
Назначение это явилось для меня полной неожиданностью. Уразуметь, чем оно вызвано, я не мог. Ничего не ответил на мои недоуменные вопросы и Склянский, и единственное чего я добился от него, было разрешение отсрочить выезд в Серпухов на сутки. Этой отсрочкой я рассчитывал воспользоваться, чтобы выяснить мотивы, по которым был снова призван в армию.
Из разговоров с моим братом и другими близкими к правительству лицами, я понял, что Вацетис подозревается в чем-то нехорошем, — в чем именно — никто не знал. Кое-какие предположения на этот счет были и у Склянского, но говорил он глухо и невнятно, то ли не доверяя мне, то ли ничего толком не зная.
Единственное предположение относительно себя, которое я мог сделать, сводилось к тому, что мои частые разговоры о военных делах с братом, а тем более памятки и докладные записки заинтересовали Ленина. Может быть, Владимиру Ильичу показалась заслуживающей внимания и докладная записка, в которой я настаивал на необходимости воссоздать генеральный штаб, хотя бы и под другим названием, и предлагал давно выношенный план упорядочения высшего командования.
Позже выяснилось, что предположения мои были правильны, — «памятки» и докладные записки навели Владимира Ильича на мысль вернуть меня в Красную Армию, и он поставил вопрос обо мне в Центральном Комитете партии.
Разговаривая со Склянским, я ничего этого не знал. После попытки Склянского назначить меня председателем никому не нужной комиссии, я и к этому новому его предложению отнесся настороженно.
Смущало меня и то, что Склянский не мог точно сказать начальником какого штаба я назначаюсь: штаба ли главнокомандующего или полевого штаба Реввоенсовета Республики. В первом случае я оказывался в подчинении Вацетиса; во втором — моим начальником являлся председатель Реввоенсовета Республики или его заместитель.
Идти к Вацетису в подчинение я решительно не хотел. Я не ладил с ним ни будучи начальником штаба Ставки, ни сделавшись военным руководителем Высшего Военного Совета. К тому же я был значительно старше его по службе. В то время, когда я в чине полковника преподавал Тактику в Академии генерального штаба, поручик Вацетис был только слушателем и притом мало успевавшим. Позже, уже во время войны, мы соприкоснулись на Северном фронте, и разница в нашем положении оказалась еще более ощутимой: я, как начальник штаба фронта, пользовался правами командующего армией, Вацетис же командовал батальоном и в самом конце войны — одним из пехотных полков.
Мой служебный опыт настойчиво говорил мне, что на высших постах в армии, во избежание неизбежных в таких случаях трений, никогда не следует становиться под начало младшего, менее опытного по службе начальника.
Неясность положения, в которое я попадал в связи с новым назначением, угнетала меня и я, рискуя оказаться бесцеремонным, попытался встретиться с Лениным. Владимир Ильич был настолько занят, что принять меня не смог. Но он тут же через моего брата передал, чтобы я незамедлительно ехал в Серпухов и там вел дело независимо от Вацетиса, ибо назначен не к нему, а начальником штаба Реввоенсовета Республики.
На следующее утро я получил и подтвердившее слова Ленина предписание.
«Революционный Военный Совет Республики, — с радостью прочел я, — с получением сего предлагает вам безотлагательно вступить в должность Начальника Полевого штаба Революционного Военного Совета Республики. Об исполнении донести».
В час дня в автомобиле Полевого штаба в сопровождении начальника связи Реввоенсовета Медведева я выехал в Серпухов и быстро добрался до него.
Никого из членов Революционного Военного Совета в городе я не застал. Все они разъезжали по фронтам, причем каждый (а их было более десяти человек) отдавал распоряжения и приказы, не согласовывая их с другими членами Реввоенсовета.
Явная несообразность таких «сепаратных» действий заставила меня тут же дать телеграмму Ленину, в которой, докладывая о вступлении в должность и ссылаясь на создавшееся на фронтах положение, я потребовал созыва Реввоенсовета.
На следующий день с утра я отправился к Вацетису. Главнокомандующий жил в комфортабельном особняке местного фабриканта. Аляповатая роскошь, которой окружил себя в Серпухове Вацетис, не понравилась мне. Даже царскому генералу не приличествовало на войне изображать из себя этакого изнеженного барина, а уж пролетарскому полководцу подавно… Не понравилось мне и окружение главкома: заменившие прежних адъютантов многочисленные «порученцы», такие же верткие и нагловатые, как и их предшественники; откормленные вестовые с тупыми лицами былых денщиков и чуть ли не с нитяными перчатками на огромных руках; купеческая роскошь гостиной, превращенной в приемную главкома; подозрительное обилие пустых бутылок в прихожей, — словом, весь тот непривлекательный антураж, который был свойственен дореволюционному военному начальству из интендантов.
Вацетис еще спал, и это тоже не понравилось мне. Положение Республики было напряжено до крайности, многие части Южного фронта позорно бежали, даже не войдя в соприкосновение с наступавшими войсками Деникина, и уж кто-кто, а главнокомандующий мог не нежиться так поздно на роскошной кровати фабрикантши.
Прошло с полчаса, пока Вацетис встал и привел себя в порядок. Приняв меня все в той же гостиной, он с излишней готовностью предложил мне вступить в должность начальника своего штаба.
— Я назначен не к вам, а в Полевой штаб Республики, — сказал я. — Отсюда ясно, что ваш начальник штаба должен по-прежнему нести службу.
— В таком случае я ничего не понимаю. Да, не понимаю, — повторил Вацетис и недоуменно поглядел на меня своими водянистыми глазами. — Это какая-то путаница…
Я терпеливо объяснил главкому, что никакой путаницы нет; Революционный Военный Совет Республики надо рассматривать, как верховного главнокомандующего, и потому я оказываюсь в том положении, которое занимал в Могилеве, когда «верховным» был Крыленко…
— Скажите, какие директивы в отношении ведения военных операций имеете вы от правительства? — перешел я к наиболее интересующему меня вопросу.
— Представьте, Михаил Дмитриевич, никаких директив, — растерянно сказал Вацетис.
Мое появление в Серпухове, да еще в не понятной для него роли застигло главкома врасплох, и он, видимо, не очень владел еще своими мыслями.
— Конечно, я не раз просил и директив, и указаний, но… Да, да, представьте себе, решительно ничего не получал в ответ,- начал жаловаться Вацетис.
Жалобы эти показались мне неискренними, и я коварно спросил:
— Стало быть, вы ведете операции по собственному усмотрению и на свой страх и риск?
Вацетис начал путано объяснять, что, конечно, какие-то директивы он все-таки получает, но все это не то, чего бы хотелось…
Расставшись, наконец, с главкомом, я понял, что между ним и правительством нет должного контакта, а без него руководить обороной нельзя; что, вероятно, и сам Вацетис понимает, насколько не справился с порученным ему делом, и продолжает командовать только по инерции, явно тяготясь этим делом…
Моя телеграмма Ленину тем временем возымела свое действие, и в Серпухов начали съезжаться члены Реввоенсовета Республики.
Пока они прибывали, я занялся подробным изучением сложившейся на фронтах обстановки. По мере изучения ее, я посылал Владимиру Ильичу, как председателю Совета Обороны, срочные доклады; отвозил их в Москву на автомобиле приехавший со мной в Серпухов начальник связи Медведев, о котором я уже упоминал.
Положение на основных фронтах Республики вырисовывалось в довольно неприглядном виде. Наиболее неясным казался, пожалуй. Западный фронт. Глубокой разведкой в тылу противника занимались в то время не военные, а политические органы; последним же недостаток военного опыта не давал возможности обеспечить высшее командование нужными сведениями. Во всяком случае данными, позволившими бы определить вероятные районы сосредоточения главных сил противника, полевой штаб не располагал. Более или менее достоверно известны были лишь передовые части противника, развернутые против нашего фронта; эти сведения были добыты войсковой разведкой, но по ним нельзя было установить вероятное направление главного удара и, в частности, направление на Петроград. Лишь по некоторым случайным признакам можно было предположить, что в ближайшее время противник поведет наступление от Нарвы и Пскова с одновременными вспомогательными операциями со стороны Карельского и Ладожско-Онежского перешейков,
Должными резервами ни командование Западным фронтом, ни Полевой штаб РВСР не располагал. Отсюда я делал вывод, о котором и докладывал Ленину: единственная наша сила сопротивления — в военном искусстве, в организации обороны и в морально-политическом подъеме войск. Поэтому во все части фронта и особенно в 7-ю армию надо немедленно направить стойких комиссаров и коммунистов, а во главе армий поставить начальников, располагающих необходимым боевым и организационным опытом. Нужных людей можно найти, если безжалостно расформировать некоторые ненужные и не очень нужные учреждения в центре.
Положение Южного фронта представлялось мне куда более определенным. Противник здесь организовался и довольно энергично наступал. Некоторые наши соединения этого фронта, как, например, 9-я армия, находившаяся на важном направлении, совершенно развалились. Южный фронт, по моему мнению, внушал наибольшие опасения и не тем, что противник обладал здесь подавляющими силами, а крайней дезорганизованностью и бесталанными действиями с нашей стороны.
Докладывая об этом Владимиру Ильичу, я предлагал немедленно направить подкрепления в Царицын для удержания его любой ценой и избрать в тылу безопасный район для формирования резерва фронта.
Характеризуя положение на Восточном фронте, я исходил из того, что армии Колчака еще не совсем разбиты. Принимая во внимание контрреволюционный мятеж к юго-востоку от Самары, я полагал, что нет оснований считать сложившееся на фронте положение устойчивым. Поэтому я считал, что не следует продвигать главные силы фронта по направлению к Уралу до тех пор, пока не будет ликвидирован этот контрреволюционный мятеж.
Положение на фронтах 6-ой (Карельский перешеек) и 12-ой (под Киевом) армий я считал еще неопределившимся и предлагал предпринять ряд мер на случай возможного там перехода противника в решительное наступление.
Особое внимание в своих докладах Ленину я уделил ненормальному положению с командным и комиссарским составом.
«В то время, когда солдаты — красноармейцы,- писал я,- обезумевшие от страха, провокаторски внушаемого им разного рода негодяями, забыв свой долг, бегут перед противником, как, например, на Южном фронте, или передаются противнику под влиянием враждебной агитации, как это имело место в районе Петрограда, — большое число лиц командного состава и стойких убежденных политических деятелей остаются вне фронтов, не влияя на восстановление устойчивости войск, в которой, собственно, и заключается в настоящее время вся надежда на боевые успехи».
Поэтому я предлагал расформировать ряд даже таких военных учреждений, как высшая военная инспекция, сократить число комиссаров в штабах и отправить их на фронт и, наконец, извлечь коммунистов и бывших офицеров из многочисленных управлений ВСНХ и других учреждений и комиссариатов и использовать их на наиболее угрожаемом Южном фронте хотя бы временно, то есть до перелома в нашу пользу.
Несколько позже, уже в начале июля, я прочитал в письме ЦК к организациям партии, что «надо сократить целый ряд областей и учреждений невоенной или, вернее, не непосредственной военной, советской работы, надо перестроить в этом направлении (т. е. в направлении сокращения) все учреждения и предприятия, кои не безусловно необходимы»{69}, и я был счастлив, что, будучи беспартийным, мыслил в унисон с партией.
Руководя предложенной мною реорганизацией управления войсками и проводя ряд одобренных Лениным мероприятий по укреплению самого опасного теперь из фронтов — Южного, я и не заметил, как кончился июнь. Главнокомандующим по-прежнему значился Вацетис, и хотя мне он был мало симпатичен, я все же считал, что в такой напряженный момент нет надобности заниматься сменой высшего командования, — такая ломка могла оказаться болезненной.
В начале июля я по своим личным делам выехал на один день в Москву. Не успел я приехать в столицу, как меня отыскал курьер с запиской от Склянского. Склянский требовал, чтобы я немедленно вернулся в Серпухов. Мотивов, заставивших его отменить разрешенную мне поездку в Москву, он не приводил, да я и не стал допытываться. Прицепив свой вагон к отдельному паровозу, я помчался в Серпухов и через полтора часа был уже в штабе, где застал всех моих сотрудников в подавленном, скорее даже в паническом настроении.
Оказалось, что через два часа после моего выезда в Москву Вацетис и его начальник штаба были арестованы комиссарами, прибывшими со специальным заданием правительства.
Допытываться, в чем дело, я не стал, полагая, что не вправе это делать; заниматься догадками и предположениями — тоже. Было не до этого; с арестом Главкома управление вооруженными силами Республики полностью сосредоточилось в моих руках.
Сделавшись руководителем вооруженных сил страны, я начал проводить те мероприятия, о которых ранее писал Владимиру Ильичу. От брата и по всяким другим каналам до меня доходили радостные вести о том, что Ленин полностью одобряет предложенную мною линию. Доказательство этого я видел и в лично написанном Владимиром Ильичем обращении по поводу наступления Деникина.
Много позже вернувшийся на свободу Вацетис рассказывал мне, что, находясь под арестом, он, якобы, продолжал вместе со своим начальником штаба руководить фронтами. По непостижимому совпадению отдаваемые им распоряжения и приказы были идентичны моим, и только поэтому я, по его словам, не почувствовал параллелизма в своей работе по управлению вооруженными силами Республики.
Я не стал возражать Вацетису, хотя и тогда, как и теперь, был уверен, что он все это выдумывал, набивая себе цену и стремясь показать, что даже арест не лишил его доверия правительства.
В Серпухове вот-вот должен был собраться Революционный Военный Совет Республики, и я, окончательно лишив себя права на и без того сокращенный до предела сон, начал усиленно готовиться к докладу о положении на фронтах и предстоящих операциях армий.
В основу своего доклада я положил соображение, что в общегосударственном масштабе главным теперь в июле является Западный фронт, а затем Южный и, наконец, сделавшийся уже второстепенным Восточный. Между тем на последнем были сосредоточены основные вооруженные силы страны{70}.
В отличие от того, что было еще месяц назад, когда я сам считал неустойчивым положение на Восточном фронте, теперь было уже очевидно, что Колчак никогда не оправится. Силы его были надломлены, армии разъедались внутренними распрями и враждебным отношением чехословаков. Требовались лишь последние усилия, чтобы раздавить контрреволюционный мятеж, все еще полыхающий к юго-востоку от Самары, и оттеснить белые армии за уральский хребет в обширные пространства Сибири, где Колчак и должен был найти свой естественный конец.
Преследование Колчака следовало поручить армиям первого эшелона и коннице. Чем дальше на восток от Волги, тем меньше было сквозных путей. При преследовании Колчака армиям Восточного фронта пришлось бы продвигаться вслед за отходящим противником эшелонированно в глубину. А это делало бесполезным нахождение в составе фронта тех армий, которые оказались бы во втором и третьем эшелоне.
Армии эти я предлагал перебросить на Западный и отчасти на Южный фронты. К переброске войск, требующей продолжительного времени, надо было приступить сразу же. Пропускная способность наших железных дорог была очень невелика, и этого нельзя было не учитывать.
Южный фронт, второй по степени важности, требовал усиления не только уже перебрасываемыми 7-й и 31-й дивизиями, но и другими силами. И все-таки я настаивал на том, о чем еще до своего вступления в должность начальника Полевого штаба писал В. И. Ленину: «Западный фронт являлся первостепенным хотя бы потому, что важнейшие для России вопросы всегда решались на западе». Неопределенность западной границы Российской Республики требовала постоянного о ней попечения; наивыгоднейшего же начертания спорной границы можно достигнуть только наилучшей обороной. Замышленная мной переброска войск с Восточного фронта на Западный и должна была обеспечить за нами превосходство в силах в предстоящих боевых столкновениях.
Конечно, в июле 1919 года, когда Деникин, захватив Царицын и выбросив лозунг «на Москву», достиг наибольшего своего расцвета, а Колчак оставался недобитым, требования мои всячески укреплять Западный фронт и считать его первостепенным звучали неубедительно для тех политических деятелей, которые не знали военного дела и не умели мыслить по штабному, спокойно, несколько даже академически и совершенно отвлекаясь от таких понятий и ощущений, как личная боязнь, страх смерти или жалость к погибшим товарищам. Военная наука — наука жестокая и исключающая всякие эмоции во. всяком случае для людей, осуществляющих ее принципы на поле сражений.
Очень нелегко было заставить себя мыслить объективно и даже в какой-то степени абстрактно от окружающего, когда кругом полыхали кулацкие мятежи, а совсем рядом тысячные гарнизоны бежали при появлении первого казачьего разъезда.
Мои политические товарищи и руководители, естественно, переоценивали роль политического фактора, чем порой грешили и белые генералы. Революция с ее мгновенно меняющимися настроениями народных масс вносила много нового в военное дело. Численное соотношение сил воюющих сторон сплошь и рядом оказывалось фактором, отнюдь не определяющим преимуществ той или иной армии. Едва ли не пятнадцать казаков заставили нас сдать Воронеж, считавшийся укрепленным районом, но зато появление двух командиров Краснозеленой армии Черноморья{71} вынудило семидесятитысячную белую армию очистить Майкоп.
Гражданская война изобиловала множеством случаев, казалось бы, опрокидывающих военную науку. Так, многотысячная Кавказская армия очистила Кавказ под натиском незначительных сил белых, и поражение это нельзя объяснить только изменой Сорокина. Политический фактор, то есть перелом в настроении не только кубанских казаков и зажиточного крестьянства Ставропольщины, но и значительной части иногородних, из которых формировались части красной Кавказской армии, сделал ее небоеспособной, и Деникин напрасно хвастался потом в обширных своих мемуарах{72} стратегическими талантами генералов «Добрармии».
Политический фактор является, бесспорно, одной из основных, но все же не единственной силой, которую обязано учитывать командование во время войны. Есть факторы чисто военные, те, что изучает военная наука; недоучитывать их значение, так же как и пренебрегать самой этой наукой, разумеется, недопустимо. Во время гражданской войны некоторым политработникам был свойственен этот «грех», тогда как многие так называемые «военспецы» пренебрегали значением политического фактора. И те и другие впадали нередко в печальные ошибки.
Я сам в те времена, безусловно, переоценивал значение специфических «законов войны», придавая им вечный и неизменный характер, и отмахивался от таких важнейших вопросов, как вопросы классового характера сражавшихся армий. Мое счастье, что частое соприкосновение с В. И. Лениным помогало мне уже и тогда, даже не разбираясь в теоретической стороне дела, оценивать его практическую сторону трезвее и правильнее, чем это могли сделать многие из моих собратьев, не сумевших избавиться от своих, созданных воспитанием и положением, шор.
Поэтому и теперь, спустя почти четыре десятка лет, я убежден, что стоял на правильной позиции, считая, что основные наши военные усилия должны быть направлены не против обреченных на самоуничтожение Колчака и Деникина, а против Польши Пилсудского, которую международная реакция, немало разочаровавшаяся уже в русской контрреволюции, сделала основным козырем в своей азартной антисоветской игре.
Примечания
{79} «Все на борьбу с Деникиным». В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 409.
{70} Нельзя согласиться с этой уверенностью автора воспоминаний: он безусловно ошибался в 1919 году, ошибается и сейчас, «спустя четыре десятка лет». Еще в начале июля 1919 года В. И. Ленин указал на отражение нашествия Деникина, как на ГЛАВНУЮ, основную задачу момента. «Личная боязнь» и «жалость к павшим товарищам», которые Бонч-Бруевич наивно считает причиною такого отношения к военной обстановке, были тут решительно ни при чем: Южный деникинский фронт на деле представлял в то время наибольшую угрозу. К 1920 году положение резко (и в полном соответствии с прогнозами Партии) изменилось и страна получила возможность бросить основные силы на Запад (Ред.).
{71} Действовавшие против белых и поддерживавших их с моря англичан партизанские отряды, захватившие ко времени панического отступления разбитой армии Деникина на Кубань Черноморское побережье от Адлера до Новороссийска.
{72} А. И. Деникин. Очерки русской смуты.
Глава тринадцатая
Мой полный провал на заседании Реввоенсовета Республики. — Недооценка польского фронта. — Генштабистский «выпуск Керенского». — Приезд Дзержинского. — Слабость нашей разведки. — «Р-революционный» Начвосо. — Назначение главкомом С.С. Каменева. — Поездка с новым главнокомандующим по фронтам. — Встреча с М. В. Фрунзе. — Возвращение в Высшее Геодезическое Управление.
На состоявшемся, наконец, в Серпухове заседании Революционного Военного Совета Республики я блистательно провалился, несмотря на то, что был прав, и последующие события, хотя и не скоро, подтвердили мою правоту.
Победи тогда в Серпухове моя точка зрения, мы бы еще к началу двадцатого года закончили стратегическое развертывание своих вооруженных сил против Польши. Одновременно повысилась бы и боеспособность обращенного к Деникину, столь тревожившего многих Южного фронта.
К сожалению, летом девятнадцатого года, хотя Польша и вела себя по отношению к нам настолько недвусмысленно, что сомневаться в предстоящей с ней войне не приходилось, а всякий опытный военный понимал, что наступление Деникина с юга координируется с приготовлениями Польши на западе, главное командование Красной Армии недооценивало силы и боевые качества поляков, как вероятных наших противников.
Отлично помню, что в разговорах с руководителями РВСР о значении тех или иных наших противников всегда приходилось выслушивать опасения насчет Колчака и Деникина и наименьшие — по поводу военных приготовлений Польши.
Позже выяснилось, что и у назначенного после памятного заседания Реввоенсовета Республики главкомом Сергея Сергеевича Каменева была в это время такая же неправильная, на мой взгляд, точка зрения на «польскую опасность».
В разговоре его по прямому проводу с командующим Юго-Западным фронтом А. Егоровым{73} имеется следующая характеристика будущего фронта войны с поляками:
«Лично убежден, что самый легкий фронт, если ему суждено быть активным, это будет польский, где еще до активных действий противник имеет достаточное число признаков своей внутренней слабости и разложения».
Летом двадцатого года главному командованию Красной Армии не раз пришлось пожалеть о том, что с Восточного фронта на Западный не были своевременно{74} переброшены достаточные силы.
Готовясь к докладу на решающем заседании Реввоенсовета Республики, я отчетливо видел, что группировка сил Красной Армии в данное время — летом девятнадцатого года — целиком подчинена субъективным оценкам противника со стороны входивших в РВСР политических деятелей и идет вразрез с требованиями военного искусства.
Трагичность моего положения усугублялась тем, что у оперативного кормила армии стояли либо военные недоучки, не имевшие боевой практики, либо знающие, но утратившие с перепугу свой профессиональный разум и волю военные специалисты.
Обе эти категории военных или просто не работали, или больше заботились о согласовании своих решений с теми или иными политическими деятелями, не понимавшими требований военного дела и не раз заявлявшими в разговорах с нами, что военное искусство — буржуазный предрассудок.
В этих условиях найти единомышленников было так же трудно, как и положиться на тех, кто из карьеристских соображений вступал с тобой в соглашение.
На беду мою в Полевом штабе было очень мало опытных офицеров генерального штаба. Большинство штабных принадлежало к офицерам, окончившим ускоренный четырехмесячный выпуск Военной академии, известный под именем «выпуска Керенского».
Эта зеленая еще молодежь играла в какую-то нелепую игру и даже пыталась «профессионально» объединиться.
Помню, ко мне явился некий Теодори и заявил, что является «лидером» выпуска 1917 года и, как таковой, хочет «выяснить» наши отношения.
Признаться, я был ошеломлен бесцеремонностью этого юного, но не в меру развязного «генштабиста». Как следует отчитав Теодори и даже выгнав его из моего кабинета, я решил, что этим покончил с попыткой обосновавшейся в штабе самоуверенной молодежи «организоваться». Но генштабисты «выпуска Керенского» решили действовать скопом и попытались давить на меня в таких вопросах, решение которых целиком лежало на мне.
Очень скоро я заметил, что вся эта нагловатая публика преследует какие-то цели политического характера и старается вести дело, если и не прямо в пользу противника, то во всяком случае без особого на него нажима.
Поведение генштабистской «молодежи», кстати сказать, не такой уж юной по возрасту, не нравилось мне все больше и больше. Собрав всех этих молодчиков у себя, я дал волю своей «грубости», о которой так любили говаривать еще в царских штабах все умышленно обиженные мною офицеры, и отчитал «выпуск Керенского» так, что, вероятно, получил бы добрый десяток вызовов на дуэль, если бы она практиковалась в наше время.
Речь моя была очень резка и, видимо, построена так, что при некоторой передержке могла быть неправильно истолкована. Так и случилось. Умышленно искаженные слова мои дошли до Москвы и вызвали внезапный приезд в Серпухов Дзержинского.
С Феликсом Эдмундовичем я познакомился еще в начале восемнадцатого года, когда по вызову Ленина приехал в Петроград для организации его обороны против немцев. Позже мы не раз встречались, и я не без основания считал Дзержинского своим доброжелателем и человеком, безусловно, доверяющим мне.
Странный разговор Дзержинского со мной непомерно удивил меня, и я со свойственной мне прямотой выложил Феликсу Эдмундовичу все, что было у меня на душе. Рассказав о подозрительном поведении генштабистов «выпуска Керенского», я сказал, что реакционные настроения и симпатии к белым эти молодчики пытаются скрыть под предлогом своей «рев-в-олюционности» и с той же целью кричат на всех перекрестках о том, какой я старорежимный и чуть ли не контрреволюционный генерал,
Суровое, обросшее бородкой разночинца, лицо Феликса Эдмундовича внезапно подобрело, в немигающих глазах появилась необычная теплота, и я понял, что Дзержинский удовлетворен разговором со мной и отмел все сплетни, умышленно распускаемые обо мне в штабе.
Предстоящий мне на расширенном заседании Революционного Военного Совета Республики доклад имел большое значение не только для меня, поэтому я со всей своей штабной старательностью и дотошностью готовился к нему, настойчиво подбирая все необходимые материалы.
Расположение и состав частей действующих армий удалось установить достаточно точно путем получения от армий «боевых расписаний» и «карт» с нанесенным на них расположением частей.
Сведения о противнике должно было дать мне разведывательное отделение; их я и затребовал. Оказалось, однако, что отделение это изъято из ведения штаба и передано в Особый Отдел.
Для доклада о противнике ко мне в кабинет явился молодой человек того «чекистского» типа, который уже успел выработаться. И хотя я никогда не имел ничего против Чрезвычайных комиссий и от всей души уважал Дзержинского, которого считал и считаю одним из самых чистых людей, когда-либо попадавшихся на моем долгом жизненном пути, «чекистская» внешность и манеры (огромный маузер, взгляд исподлобья, подчеркнутое недоверие к собеседнику и безмерная самонадеянность) моего посетителя мне сразу же не понравились. В довершение всего, вместо просимых сведений, он с видом победителя (вот возьму, мол, и ошарашу этого старорежимного старикашку, пусть знает, как мы ведем разведку) выложил на мой письменный стол целую серию брошюр, отпечатанных типографским способом и имеющих гриф «совершенно секретно». По словам молодого чекиста, в брошюрах этих содержались исчерпывающие сведения о противнике, в том числе и о поляках.
Просмотрев все эти материалы, я тотчас же убедился, что они не содержат ничего из того, что мне необходимо для составления схемы сосредоточения частей Красной Армии и разработки оперативного плана. Зато в них содержалось множество поверхностных и общеизвестных политических и бытовых сведений и куча всякого рода мелочей, имевших к военному делу весьма отдаленное отношение.
На заданные мною дополнительные вопросы о противнике молодой человек не смог ответить, и я не без удивления узнал, что он-то как раз и является начальником разведывательного отделения.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что в старой армии мой посетитель был писарем какого-то тылового управления, военного дела совершенно не знает и о той же разведке имеет самое смутное представление.
Необходимых мне данных о противнике я так и не получил. Пришлось ограничиться теми сведениями, которые добывались войсковой разведкой и излагались в разведывательных сводках, кстати сказать, поступавших с большим запозданием.
Не лучше, нежели с разведкой, обстояло и с управлением военных сообщений. Сведения о военных сообщениях, необходимые для расчетов по перевозке войск с колчаковского на деникинский и польский фронты, я рассчитывал получить от начальника военных сообщений Аржанова, еженедельно по средам приезжавшего в Полевой штаб с докладом.
Аржанов был человеком особого склада. Офицер инженерных войск, кажется, в чине штабс-капитана, он, выйдя в отставку еще до мировой войны, поступил на железную дорогу. Там он, насколько мне известно, сделался исправным служакой, но больших дел не делал. К революции он быстро приспособился: истово произносил слово «товарищ», все еще трудное для большинства бывших офицеров, опростился в манерах, громогласно ругал прежние порядки и изображал из себя большевика для тех, кто не замечал явного маскарада…
Приезды свои в Полевой штаб Аржанов обставлял большой помпой. Приехав в Серпухов в салон-вагоне, он отправлялся в штаб в сопровождении целой свиты, — многочисленные порученцы несли его роскошный портфель, папки с картами и свернутые в трубку схемы и чертежи. Торжественно, как бы священнодействуя, вся эта компания входила в мои кабинет. Аржанов начинал занимать меня частными разговорами, а порученцы тем временем развешивали по стенам принесенные с собой чертежи и схемы. Закончив развеску, они молча поворачивались на каблуках и исчезали, Аржанов же брал в руки тонкую черную указку и становился в позу слушателя дополнительного курса Академии, — видимо, он считал, что для меня, бывшего ее преподавателя, такая обстановка больше чем приятна…
Проделав всю эту церемонию, Аржанов по моему настоянию отставлял свою указку в сторону и подходил к моему столу. Обычно все его графические приложения оказывались совершенно излишними, да и сам он в своем многословном докладе прибегал лишь к незначительной части развешенных карт и схем.
Военных знаний у него было маловато, доклады он делал слабенькие и путаные, в мощность военных сообщений по отношению к переброске войск не углублялся и на занимавшие меня вопросы был не в состоянии ответить и лишь обещал сделать это к следующему докладу.
Отдельные поручения, впрочем, Аржанов выполнял старательно и вовремя. Но полагая, что с крупными перевозками он не справится, я подыскивал вместо него другого кандидата…
Делать это заставляло меня и неприглядное его поведение. Как только наши войска вытесняли белых из какого-либо города, блестящий салон-вагон Аржанова тотчас же оказывался на освобожденной станции, а сам он принимался за сбор «трофеев», чаще давно исчезнувшего у нас сливочного масла, сала и мяса.
Возвратившись в центр, Аржанов щедро оделял привезенными продуктами всякого рода начальство; он знал, с кем делиться, и после первой же неудачной попытки не делал мне никаких приношений. Но слава о «продовольственной» деятельности Аржанова широко шла по учреждениям Реввоенсовета Республики.
Раздражала меня в Аржанове и его манера «разносить» на железнодорожных станциях и притом обязательно публично своих подчиненных, обычно из бывших офицеров. Делалось это в расчете на безмолвие и покорность «разносимого» офицера и эффекта ради: вот, мол, какой Аржанов, не дает спуску буржуям и всяким золотопогонникам…
Шум и крики при таких разносах перекрывали даже гул паровозных свистков. Но по мере того, как на службу в управление военных сообщений выдвигались пролетарские элементы, отнюдь не намеренные выслушивать этот барский разнос, Аржанов начал несколько успокаиваться… Об ограниченности его и вздорности свидетельствует мелкий, но характерный факт, сохранившийся в моей памяти. В годы гражданской войны в нашей армии не было ни нынешних военных званий, ни орденов, если не считать ордена Красного Знамени, являвшегося высшей воинской наградой и выдаваемого крайне редко и за особые заслуги.
Необходимость поощрения отличной работы военнослужащих ввела в практику как Реввоенсовета Республики, так и Реввоенсоветов фронтов и армий награждение ценными подарками, чаще оружием и именными часами. Реввоенсовет Республики, кроме того, награждал и ценными подарками другого порядка, взятыми из фондов национализированных дворцов.
Так, Раттэль как-то получил осыпанную камнями золотую табакерку Екатерины II со специально выгравированной надписью на внутренней стороне крышки. Бог весть почему Аржанова наградили палкой Петра I. Гигантский рост исконного владельца редкой трости не устраивал начальника военных сообщений, и он, не задумываясь, безжалостно укоротил ее.
Как и можно было ожидать, для доклада, к которому я так тщательно готовился, Аржанов не смог мне ничего дать{75}.
Вопросы материального обеспечения войск, хотя я и должен был осветить их в своем докладе, меня особенно не беспокоили. Судя по представленным в Полевой штаб сведениям, обеспечение это представлялось вполне реальным; надо было только надлежащим образом расположить и организовать тылы армий. Думать же об устройстве тыла следовало лишь после утверждения плана операций, на которое я легковерно рассчитывал…
В Серпухов тем временем начали съезжаться члены Реввоенсовета Республики. Первым приехал Гусев, находившийся на Восточном фронте.
Сергея Ивановича я знал еще по Высшему Военному Совету. Мне нравились его энергия, прямота и убежденность. Обычно мы разговаривали с ним вполне откровенно. Но на этот раз он, касаясь вопроса о возможных переменах и составе высшего командования, чего-то недоговаривал.
Спустя несколько дней в Серпухов приехал и Дзержинский. Он заехал на квартиру, отведенную Гусеву, и меня сразу же вызвали туда.
Характеризуя положение, сложившееся на фронтах, я воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить свои опасения по поводу возможности войны с Польшей. Затем я перевел разговор на другую, давно волновавшую меня тему — о пригодности Полевого штаба для ведения предстоявших Красной Армии операций.
— Даже поверхностное знакомство со штабом, — сказал я внимательно слушавшему Дзержинскому, — говорит о том, что штаты его непомерно раздуты, а личный состав засорен случайными и ненадежными людьми. Еще хуже, что доступ к оперативным предположениям и документам почему-то облегчен и, следовательно, нет гарантий в сохранении военной тайны.
Раскритиковав состояние разведки, я начал настаивать на передаче ее в ведение начальника штаба, — словом, попав на своего любимого конька, я выложил все, что накопилось у меня за время сиденья в Серпухове.
Пока я говорил, Феликс Эдмундович не однажды подчеркивал то кивком головы, то выражением лица, то короткой репликой свое согласие с той резкой критикой, которой я подверг штаб.
— Вы составьте проект реорганизации Полевого штаба и подберите кандидатов на ответственные должности. Я думаю, что все мы вас поддержим, — сказал на прощанье Дзержинский и, сей в автомобиль, вернулся в Москву.
Разговор мой с Дзержинским, вероятно, сыграл свою роль и ускорил созыв Реввоенсовета, которого я так добивался.
Насколько я помню, заседание РВС состоялось в начале второй половины июля. В этот день часа в три дня в Полевой штаб приехали Троцкий, Склянский, Дзержинский и еще несколько широко известных в то время военных работников. Пришли Гусев и кое-кто еще из находившихся в Серпухове членов Революционного Военного Совета.
Заседание началось моим докладом. Доложив по карте положение дел на фронтах, я предложил оттянуть часть сил с колчаковского на польский и отчасти на деникинский фронт.
Я оказался плохим стратегом в той штабной войне, которая еще велась против меня. Едва я кончил докладывать, как был атакован Склянским. Разбирая мое предложение о переброске части войск с колчаковского фронта, заместитель председателя Реввоенсовета не скупился на самые резкие эпитеты и, если и не назвал меня контрреволюционером, то весьма прозрачно говорил о реакционной сущности моего предложения. Кто-то из наименее влиятельных членов Реввоенсовета поддержал его, и оба они начали доказывать, что задачей момента является уничтожение армии Колчака. Все мои доводы о том, что Колчак и без того добит, не возымели действия.
Выступавший вслед за тем Гусев сказал, что не разделяет резких суждений Склянского, но со своей стороны считает необходимым отложить решение вопроса, пока не пройдет реорганизация верховного командования. Троцкий, как всегда, безразличный ко всему, что не касалось его лично, сидел с томиком французского романа в руках и, скучая, лениво разрезал страницы.
Никто из остальных членов Реввоенсовета, присутствовавших на заседании, не поддержал меня, хотя некоторые, должно быть сочувствовали мне,- об этом я мог судить по задаваемым мне вопросам.
Убедившись, что предложение мое не пройдет, я попросил разрешения и вернулся в свой кабинет. О чем говорилось в моем отсутствии — я не знаю, но после заседания стало известно, что по предложению Гусева главнокомандующим всех вооруженных сил Республики вместо отстраненного, хотя и уже освобожденного из-под ареста Вацетиса, решено назначить командующего Восточным фронтом Сергея Сергеевича Каменева.
Новый главнокомандующий и должен был решить все вопросы, обсуждавшиеся на заседании, в том числе и о перегруппировке вооруженных сил и распределении их по театрам военных действий. Польская «проблема» после моего ухода с заседания так на нем и не обсуждалась.
Уверенность в своей правоте побудила меня подать заявление об уходе с занимаемого мною поста. Заставили меня так поступить и другие причины. Я давно и довольно близко знал Каменева и понимал, что не сработаюсь с ним. Его нерешительность, известная флегма, манера недоговаривать и не доводить до конца ни собственных высказываний, ни принятых оперативных решений,- все это было не по мне.
В начале минувшей войны Сергей Сергеевич занимал скромную должность адъютанта оперативного отделения в штабе армии Ренненкампфа. Между тогдашним моим и его положением была огромная разница, но во мне говорило не обиженное самолюбие, а боязнь совместной работы с таким офицером, которого я никак не считал способным руководить давно превысившей миллион бойцов Красной Армией.
Тщательно продумав все это, я отправился к новому главкому и откровенно сказал ему, что не подхожу для занятия должности начальника его штаба. К тому же мне было известно, что выехавший в Москву Гусев усиленно ратует в правительственных кругах за назначение на эту должность сослуживца Каменева по Восточному фронту Лебедева.
Мое заявление об отставке пришлось кстати, и она мне была тут же обещана.
Вступив в должность главнокомандующего, Каменев пожелал, а может быть, ему это было поручено сверху, — объехать фронты, начиная с Западного. И он, и Гусев выразили настоятельное желание, чтобы я принял участие в этом объезде.
23 июля я дал В. И. Ленину следующую телеграмму:
«Согласно желанию главкома и члена Реввоенсовета Гусева сегодня выезжаю Западный фронт для ознакомления положением дел на местах».
В тот же день мой вагон был прицеплен к поезду нового главнокомандующего; в хвосте поезда шел и вагон с моим испытанным личным конвоем из 5-го Латышского стрелкового полка.
Штаб Западного фронта неприятно поразил всех нас, приехавших с главкомом, своей крайней многочисленностью, достигавшей нескольких тысяч сотрудников, обилием не оправдавших себя управлений, отделов, отделений и комиссий, словом, той бюрократической суетой, которая нетерпима на фронте.
Командующий фронтом Егоров как-то тонул в этом малолюдном потоке и не столько командовал, сколько играл роль своеобразного прокурора, возражавшего и противодействовавшего сыпавшимся на него оперативным «прожектам». Создавалось впечатление, что войсками пытаются управлять в штабе фронта все, кому только не лень заняться этим делом…
В Калуге, где в это время находился штаб Западного фронта, мы пробыли всего четыре часа. Главком, насколько успел, дал Егорову свои указания, относившиеся к делам второстепенным; по основным же вопросам приказано было ждать последующих директив…
Вместе с главкомом поздно вечером мы вернулись в поезд и ночью двинулись в Симбирск, где стоял штаб Восточного фронта. Между станциями Рузаевка и Инза наш поезд только чудом избежал крушения. На одном из разъездов, где никакой остановки не предполагалось, идущий полным ходом состав был пущен почему-то на запасный боковой путь. Рельсы этого пути оказались едва закрепленными, и вдруг мой вагон сделал какой-то прыжок, с силой накренился сначала в одну, потом в другую сторону и, неожиданно выправившись, проскочил на рельсы главного пути.
Опытный конвой, заподозрив диверсию, бросился на площадку и к окнам. Выяснилось, что под тяжестью поезда выломался рельс; но инерция быстрого движения спасла поезд… Остановив состав, я произвел расследование. Начальник разъезда давал путаные объяснения, и трудно было понять, сделал ли он случайную ошибку или действительно хотел вызвать крушение поезда главкома. Арестовать его было нельзя — остался бы оголенным разъезд, и я ограничился тем, что записал фамилию подозрительного железнодорожника и телеграфировал о происшествии Наркому путей сообщения.
В Симбирск наш поезд пришел рано утром. К этому времени должен был подойти и пароход с командующим Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе. Пароход запоздал, и мы с Каменевым прошли в штаб.
Штаб здесь производил впечатление намного лучшее, нежели в Калуге, но, подобно Западному фронту, явно был перенасыщен сотрудниками.
Положенный доклад о положении на фронте сделал Лебедев, занимавший должность начальника штаба. Сергей Сергеевич объявил ему о новом назначении и предложил переехать в наш поезд.
Примерно в час дня в штаб прибыл Фрунзе. Михаила Васильевича я видел впервые, и он сразу привлек меня своим открытым взглядом и обросшим курчавящейся бородой простым русским лицом. Командующего Туркестанским фронтом сопровождал конвой, почему-то одетый в ярко-красные шелковые рубахи при черных штанах.
Эта наивная пышность никак не вязалась ни со скромными манерами Фрунзе, ни со всем его обликом профессионального революционера, и я отнес ее за счет необходимости хоть чем-нибудь удовлетворить восточную тягу к парадности и украшениям.
С отозванием Каменева Михаил Васильевич принимал Восточный фронт. Деловые разговоры, однако, были непродолжительны, и очень скоро Лебедев пригласил нас на необычно обильный по тому времени обед в занятой под постой чьей-то буржуазной квартире.
После обеда по предложению Каменева я выехал с ним для осмотра расположенных в казармах пехотных частей гарнизона. Порядок в казармах оказался на должной высоте, дежурные всюду подходили с рапортом, что было еще диковинкой в Красной Армии…
Вечером мы оставили Симбирск и только на третьи сутки прибыли в Петроград. В Смольный, куда мы отправились с вокзала, было вызвано командование Северного фронта и 6-й армии, действовавшей на архангельском направлении.
По приезде в Москву я вернулся в Высшее Геодезическое управление и очень скоро убедился, что в нем царит полный хаос. Выдвинутый мною на пост руководителя профессор Соловьев оказался никудышным администратором, перессорился со всеми сотрудниками, завел никому не нужную, но по своим размерам чудовищную склоку и только и делал, что разваливал ВГУ.
Я вынужден был отправиться к председателю ВСНХ и в получасовой беседе рассказать ему о положении дел на этом еще одном моем фронте — геодезическом.
— Понимаю! Маленькие людишки мешают творить большое дело,- сказал председатель ВСНХ, внимательно выслушав меня.
По распоряжению ВСНХ было произведено обстоятельное обследование Высшего Геодезического управления, и в результате этой около месяца продолжавшейся ревизии Соловьев был освобожден от занимаемой должности, а новую коллегию возглавил я, продолжавший даже во время моего пребывания в Красной Армии по-прежнему числиться заместителем председателя ВГУ.
Так возобновилась продолжавшаяся потом не один год моя работа на этом все еще новом, но очень благодарном поприще. Связь же моя с Красной Армией продолжалась, хотя и принимала самые разные формы, и я много лет еще состоял на действительной службе, если верить справкам, выдаваемым мне Народным комиссариатом по военным и морским делам.
Но независимо от штатного расписания и справок сердце мое так и осталось в армии, и именно поэтому, подходя к концу моей долгой жизни, я и написал эти непритязательные записки, единственная цель которых не столько рассказать о своей жизни, сколько передать моему читателю ту любовь к высокому званию воина, которую я пронес через весь свой жизненный путь.
Москва. Май 1956 г.
Примечания
{73} А. Егоров. Львов — Варшава. 1929 г.
{74} Автор упускает из виду, что, если бы эти достаточные силы были переброшены на запад осенью 1919 г., разгром Деникина был бы крайне затруднен, и как бы сложилась обстановка год спустя — совершенно неизвестно (Ред.}.
{75} Характеристика, данная автором Аржанову, носит субъективный характер и не соответствует той положительной оценке, которую давал Аржанову Реввоенсовет Республики (Ред.).
Источник: https://leninism.su/books/3612-vsya-vlast-sovetam25.html?showall=1
Просмотров: 718
4. КАКИМ БЫТЬ НОВОМУ МОСТУ В КИЕВЕ?
Работы в то время у меня и у моих студентов-дипломантов было очень много. И все же мы ни на один день не забывали о своей заветной мечте: создать проект восстановления Цепного моста в Киеве. Это была увлекательная и интересная задача.
Цепной шоссейный мост через Днепр в Киеве был построен в 1854 году английским инженером Виньолем. Четыре больших и два малых пролета перекрывались двумя неразрезными цепями, к которым были подвешены поперечные балки проезжей части. Это был единственный в мире мост с шестипролетными неразрезными цепями.
Белополяки взорвали эти цепи только в одном месте, после чего все четыре больших пролета обрушились на дно реки. Видимо, они гордились этим своим злодеянием: очевидцы рассказывали мне потом, что белополяки сфотографировали момент, когда пролетное строение погружалось в Днепр.
В первые же дни восстановления нормальной жизни на Советской Украине после изгнания последних интервентов встал вопрос о создании хотя бы временного перехода через Днепр на том же месте, где раньше находился Цепной мост. Предлагались всевозможные варианты. Несколько дипломантов-выпускников Киевского политехнического института — Федоров, Москаленко и другие — под моим руководством разработали эскизные проекты различных способов перекрытия пролетов бывшего Цепного моста. Мы хотели выяснить, можно ли ограничиться оставшимися каменными быками или придется добавлять новые деревянные опоры временного типа. Эта работа велась нами по собственному почину в качестве дипломных проектов студентов. Проекты эти рассматривались в управлении шоссейных дорог юго-западных районов, где я тогда работал консультантом.
Выяснилось, что постройка железного моста на каменных быках бывшего Цепного моста без устройства дополнительных промежуточных опор из дерева обойдется всего на 25–30 процентов дороже, но зато имеет решающее преимущество в отношении судоходства, сплава плотов, пропуска ледохода, а также прочности и солидности самого моста.
Раз вопрос решался в таком смысле, сама собой напрашивалась мысль восстановить мост в таком же виде, каким он был до разрушения, то есть цепной системы, пользуясь прежним материалом, который предстояло поднять из воды.
Эта идея занимала вначале и меня. Еще летом 1920 года, тотчас после разрушения моста, по моей схеме был разработан эскизный проект Цепного моста уменьшенной ширины и для облегченной нагрузки. Число цепей предполагалось сократить вдвое в сравнении с бывшим мостом. В последующие годы— в 1921–1922 — появилось еще три проекта. И мне и авторам других проектов представлялась заманчивой идея восстановить мост, пользуясь старыми цепями. И все же пришлось отказаться от этой мысли. Все эти проекты, разработанные в предположении облегченных технических условий, были отвергнуты. Более того, я сам стал серьезным противником идеи, которая вначале казалась мне такой привлекательной.
Какие на это были причины?
Прежде всего вставал вопрос о металле, необходимом для строительства моста. Страна была еще очень бедна металлом. На юге действовала только одна енакиевская домна, потом вошло в строй еще несколько печей, но надеяться на получение нужных сортов стали для Цепного моста не приходилось. У государства имелись более срочные и неотложные нужды. Это понимали все. Часто, входя в чертежную института, я видел тревожно-вопросительные взгляды студентов. Они ведь хорошо знали, что не проходило месяца, чтобы я не побывал где-нибудь «наверху», не поднимал снова вопрос о строительстве моста.
— Может быть, мы работаем впустую, может быть, наши проекты не нужны? — спрашивал я. Меня успокаивали, ободряли, настойчиво советовали продолжать работу.
Вернувшись после такого очередного визита в институт и встретив вопросительные взгляды дипломантов, я молча отворачивался. А сам в такие минуты думал:
«Не теряют ли мои питомцы веру в то, что занимаются реальным делом? Не начинает ли им этот мост казаться навязчивой идеей упрямого профессора? Ведь сотня гвоздей еще так недавно стоила миллионы рублей, а тут потребуются тысячи тонн металла…»
Сторонники восстановления Цепного моста в его прежнем виде утверждали: металл есть, он лежит на дне Днепра, нужно его только поднять. Это — затонувшее после взрыва железо.
К тому времени удалось извлечь только сорок шесть тысяч пудов. Но главная его масса — сто тридцать тысяч пудов! — находилась под водой.
Для меня становилось все более очевидным, что извлечение его представляет очень трудную и дорогую работу. Задача усложнялась еще тем, что затонувшие части моста не представляли собой жесткой системы, которую можно поднять как одно целое. Металл пришлось бы сначала под водой резать на части и лишь потом извлекать на поверхность. В зависимости от капризов реки, от ледохода и паводков работы эти могли легко затянуться, и в годичный срок их не удалось бы закончить.
И, наконец, не было никакой уверенности в том, что успех этого предприятия обеспечен. В недавнем прошлом мы знали случаи, когда, несмотря на затрату солидных средств и на проведение большой подготовки, попытки извлечь из Волги и Аму-Дарьи даже жесткие фермы не увенчались удачей.
Короче говоря, вся эта затея мне представлялась более чем рискованной. Имелась еще и экономическая сторона дела. Работы по подъему и расклепке железа сами по себе очень дороги. При помощи водолазов было проведено обследование пригодности затонувшего железа. Оно дало весьма неутешительные результаты. Большая часть затонувшего железа сильно деформировалась и в дело пойти не могла. Достаточно сказать, что материал ферм жесткости можно было считать годным не более чем на одну треть и то лишь при возрождении моста в прежнем виде.
Поэтому для меня было очевидно, что из-за таких непомерных «отходов» стоимость пригодной части железа оказалась бы крайне высокой.
Но и это еще не все: мы подсчитали, что если постройку моста связать с извлечением железа, то срок проведения работ удлинится по крайней мере на семь-восемь месяцев. Ни одна из восстановительных организаций НКПС не располагала в то время столь мощными подъемными приспособлениями, чтобы вести эту работу одновременно в нескольких пролетах. Значит, пришлось бы вести ее в последовательном порядке, пролет за пролетом, а на каждый из них для подъемки и разборки железа ушло бы не менее двух с половиной месяцев. Отсюда следовал вывод: сборку всего пролетного строения не удастся закончить в один строительный сезон.
Шоссейными дорогами Украины и мостами на этих дорогах ведало специальное управление, которое сокращенно называлось «УкрУМТ». Под его началом находился и бывший Цепной мост через Днепр.
Мне не раз доводилось встречаться с начальником этого управления товарищем Щербиной. В начале 1923 года, в один из своих приездов в Киев, Щербина пригласил меня к себе. Лицо начальника было невозмутимо спокойным, но мне показалось, что в его глазах играют веселые искорки. Он в упор взглянул на меня.
— Насколько я понимаю, Евгений Оскарович, вы решительный противник восстановления Цепного моста в прежнем его виде?
— Самый непримиримый! И свои доводы считаю вполне обоснованными.
— Совершенно верно. Мы у себя в управлении также пришли к выводу, что надеяться на затонувшее железо — дело нереальное. Фантазия и больше ничего!
Я молча кивнул головой.
— Н-да. А с металлом все еще худо, — продолжал Щербина. — Мы стали немного богаче, но все привилегии — железнодорожным мостам.
Я пожал плечами. К чему же было вызывать меня и снова вселять надежду? Я сам проектировал в то время железнодорожные мосты и прекрасно знал, что металл отпускают в первую очередь для них.
— И все же, сдается мне, вам скоро придется засесть за проект моста, — лукаво улыбнулся Щербина. — Только…
— Строительство моста разрешено? — не дослушав, вскочил я с места и от волнения снял и снова надел очки.
— Только, — невозмутимо продолжал Щербина, нового металла нам все равно не дадут. Не дадут, не могут дать. Весь фокус в том, чтобы найти его самим. Да вы садитесь!
Но я уже потерял покой.
— Позвольте, — наконец проговорил я, — но ведь мы с вами не изготовляем металл?
— Увы… Но мы можем кое-что использовать и, на мой взгляд, удачно выйти из положения. — Начальник управления протянул мне несколько листков бумаги. — Просмотрите вот это и скажите свое мнение.
Как я уже упоминал, во время мировой войны на Днепре было построено семь деревянных стратегических мостов с железными судоходными пролетами. После окончания войны эти мосты разобрали. Бумаги, которые я сейчас просматривал, представляли собой опись железных двутавровых балок, оставшихся после разборки. В описи были названы прибрежные пункты на Днепре в районе Киева и ниже его, где хранились балки. Внизу стояла подпись подрядчика Виткевича, который заключил впоследствии договор с управлением на розыск этих балок и извлечение их из песка.
Щербина выжидательно смотрел на меня. Видимо, мое молчание начало беспокоить его.
— Что же вы на это скажете, Евгений Оскарович?
— По-моему, идея очень интересная. Насколько мне известно, постройка постоянных больших мостов из такого материала до сих пор не практиковалась. Интересно, очень интересно… И привлекательно. Нужно только крепко подумать, возможно ли это и как это сделать.
Начальник управления понимал, что вопрос слишком серьезен.
— Хорошо, не требую от вас немедленного ответа. Подумайте, уверуйте, так сказать, и тогда приходите. Хотелось бы, чтобы вы поддержали эту идею и не затянули с ответом. Добро?
Я, конечно, согласился.
Взволнованным вышел я на улицу. Прохожим приходилось сворачивать первыми, чтобы не столкнуться со мной. Я шагал, ничего не видя, погруженный в свои мысли. Значит, не напрасными были наши упорные труды! Мне вспомнилось, как еще совсем недавно один из профессоров института издевался над тем, что я верю в работу по восстановлению мостов. «Блеф», — сказал тогда этот пренеприятный тип. Нет, не блеф, почтенные господа! От учебных проектов шоссейного моста мы теперь перейдем к проектам настоящим, реальным.
Однако куда это меня занесло? Я удивленно огляделся вокруг. Киево-Печерская лавра… Ведь я решил направиться совсем в другую сторону, к Брест-Литовскому шоссе, чтобы скорее поделиться новостью со своими студентами, посоветоваться с ними, а ноги сами несли меня к Днепру, туда, куда влекли все мысли.
С вершины зеленой, изрезанной оврагами кручи я смотрел вниз на реку. Сколько раз я уже посещал это свое излюбленное место! Отсюда открывался взору широкий, казалось, бескрайный вид на Днепр, на необозримые голубые дали Левобережья, на горестные обломки Цепного моста.
Взбивая лопастями пену, мимо проплывали белоснежные пассажирские пароходы. Буксиры, издавая сиплые гудки, влекли за собой огромные плоты с игрушечными фанерными домиками или втягивали за собой в порт груженые баржи. Река жила своей шумной, веселой и хлопотливой жизнью. Гремя, проносились над ней поезда. И только шоссейный Цепной мост лежал на песчаном днепровском дне.
Не впервые представлял я себе четыре больших пролета, затонувших и занесенных до половины песком. Говорят, их можно поднять в целости. Но чем? Когда появятся у нас такие механизмы? А тащить их из воды примитивными кустарными средствами — невероятно долгая, тяжелая и опасная задача. И потом, кто поручится, что железо, исковерканное взрывом и падением, пролежав несколько лет в воде, может быть использовано? Теперь уже не хотелось больше думать об этом. Идея использовать двутавровые балки все больше нравилась мне. Отныне проектирование киевского шоссейного моста могло стать вполне реальным делом. Конечно, все это не просто. Я предвидел большие трудности при использовании двутавровых балок, но надеялся, что мы сумеем преодолеть их. Увлекала и необычность, новизна задачи. Чем труднее, тем интереснее!
Хруст ветки под чьей-то ногой заставил меня оторваться от моих мыслей. Выйдя из кустов, в нескольких шагах от меня остановился мой студент-дипломант Николай Галузинский.
— Здравствуйте, профессор, — смущенно проговорил он, — захотелось, знаете, немного поразмяться.
— Будет вам сочинять, — засмеялся я, — прекрасно знаю, что вас сюда привело. Заболели мостом, батенька, заболели. И не отрицайте!
— Заболел, — широко улыбнулся студент, и смущение его сразу исчезло.
— А заболели, так слушайте, молодой человек. — Я сел на большой камень и усадил юношу рядом с собой. — Помните, я как-то на лекции рассказывал о разборных стратегических мостах через Днепр?
Галузинский поспешно кивнул головой.
— А известно ли вам, где находятся железные балки, оставшиеся после разборки мостов? Неизвестно?
Нет, ему неизвестно было, где эти балки. Он даже невольно съежился под моим взглядом, словно был повинен в возможной пропаже этого добра.
— Так вот, лежат себе эти балки преспокойно на берегах Днепра и ждут, пока мы сообразим, как распорядиться ими для восстановления моста. Поняли что-нибудь?
— Да это же просто здорово! — простодушно выпалил студент. — Гора сама идет к Магомету, Евгений Оскарович. Значит, теперь есть мост?!
— Торопитесь, батенька, торопитесь, — охладил я его. — Пока еще будет мост, не одну неделю придется нам потрудиться.
— Ничего, теперь только задавайте нам работу!
В город мы вернулись вместе. Это был один из моих самых способных, знающих и толковых студентов. И когда его первое радостное возбуждение прошло, мы со всей основательностью обсудили, что может получиться из идеи использовать двутавровые балки. Я нарочно выдвигал всякие возражения и сомнения, и мы совместно разбивали их. В итоге получалось, что идея здравая, деловая и заслуживает поддержки. Потом этот разговор имел продолжение в институте, и на этот раз в нем уже участвовала большая группа студентов-выпускников. Все они единодушно высказывались за то, чтобы идею Щербины поддержать и составление проекта взять на себя.
Через два или три дня я снова вошел в кабинет Щербины.
— Я с ответом, — объявил я еще на пороге.
— Слушаю.
— Я всецело «за». Думаю, что с этим делом мы справимся.
— Вот и отлично! — просиял Щербина. — Довольно вам и вашим студентам работать, так сказать, в любительском порядке. Мы предлагаем вам заключить договор с управлением на проектирование нового шоссейного моста через Днепр, моста балочной системы. Что вы скажете на это?
— Мы готовы хоть сегодня приступить к работе.
Щербина протянул мне руку.
— Вместе будем драться за этот проект. Ну, поздравляю вас, Евгений Оскарович. Правительство дает нам средства, людей, механизмы, выделит заводы для изготовления пролетов. Остальное будет зависеть от нас самих, от нас с вами.
Прощаясь, мы пожали друг другу руки. Это крепкое; рукопожатие означало не только взаимное доверие, но и заключение прочного союза.
Итак, управление стояло за мост балочной системы. И все же борьба вокруг способа восстановления шоссейного моста продолжалась и принимала все более острый характер. Сторонники старого моста преобладали среди киевских инженеров-мостостроителей и архитекторов. Нас, противников восстановления моста в прежнем виде, было гораздо меньше. На протяжении последних двух лет мы тщательно изучили состояние Цепного моста до его разрушения и всю его историю. Убедившись в его ненадежности, мы окончательно пришли к выводу, что единственно правильным решением является постройка нового пролетного строения из имеющихся двутавровых балок.
Мы упорно защищали свою точку зрения потому, что были против вредного расточительства, против затягивания сроков постройки, против работы на авось и ненужного, ничем не оправданного риска. Наши соперники опирались на так называемые традиции, на привязанность к старине и опасались неизведанного пути, которым являлась постройка такого крупного моста из имеющегося под рукой готового материала. Правота была на нашей стороне. Но сторонники старого моста не сдавались. Они отвергали наше предложение, ссылаясь на то, что тогда придется отказаться от моста цепной системы, славящегося своей красотой, от исторического памятника, дорогого сердцу каждого киевлянина.
Мы, конечно, тоже были патриотами своего города, тоже дорожили красотой его сооружений, но не намеревались идеализировать старину только потому, что это старина.
Прежний Цепной мост имел весьма существенные недостатки, на которые никак нельзя было закрывать глаза и тем более незачем было повторять их сейчас при восстановлении моста.
В связи с этим мне вспоминается один любопытный эпизод этой борьбы. В 1923 году в кинотеатре Шанцера киевское научно-техническое общество устроило открытую дискуссию о способе восстановления бывшего Цепного моста, в которой принимали участие видные инженеры и техники двух группировок. Инженер Н. А. Прокофьев, ратовавший, как и большинство присутствующих, в особенности архитекторы, за восстановление моста в прежнем виде, демонстрировал фотографии моста до его разрушения, чтобы показать, насколько он был красив.
Этим он пытался соблазнить слушателей. Я в своем выступлении, между прочим, указал, что своей демонстрацией фото Прокофьев неправильно ориентировал аудиторию и ввел ее в заблуждение: «Фокус» заключался в том, что эти фото были сделаны задолго до того, как мост в 1898 году изуродовали капитальными переделками. Тогда полотно моста было значительно приподнято, и в двух средних пролетах цепи опустились ниже проезжей части. Это в большой степени обезобразило первоначальный, действительно красивый вид моста.
Получалось, что от былой красоты не так много осталось, а переделки, испортившие мост, все равно не обеспечивали нужд судоходства. Известны были случаи, когда пароходы не могли пройти под ним.
Мы провели все необходимые расчеты и убедились, что в случае восстановления Цепного моста в прежнем виде и теперь не удастся придать ему возвышение в 5,85 метра над горизонтом самых высоких вод, как это требовалось утвержденными техническими условиями.
Патриоты старого моста любовались его цепями. Но при этом они игнорировали прозаическую, но весьма существенную «деталь»: ненадежность неразрезной цепной системы. История трагической гибели моста в 1920 году, как ни странно, ничему не научила их. Между тем сравнительно слабого взрыва в одном или двух местах было достаточно, чтобы сразу уничтожить пять пролетов Цепного моста. На месте остался только один небольшой пролет у левого берега. Это грандиозное разрушение было вызвано ничтожными средствами, достаточными для разрыва цепей в одном или двух местах. Такое же полное крушение многопролетного моста цепной системы могло быть достигнуто разрушением хотя бы одного быка при взрыве или подмыве его основания.
Столь полюбившиеся некоторым инженерам цепи имели и другое уязвимое место. Заделка цепей в каменной кладке опор — слабое место и общий недостаток всех цепных мостов. Цепи бывшего киевского шоссейного моста были пропущены по каналам через толщу опор и проякорены посредством железных чек в ребристых чугунных плитах. В этих местах цепи сильно поржавели. Еще в 1911 году был возбужден вопрос о необходимости капитального ремонта заделки цепей моста. В 1914 году было решено над существующими удерживающими цепями устроить новые такие же цепи и заделать их концы в добавочные кладки. На это намечалось истратить 180 тысяч рублей золотом! Вскоре приступили к выполнению этих дорогих работ, но помешала война.
В случае сохранения цепной системы и для нового моста нельзя будет воспользоваться прежней заделкой цепей, придется сделать то, что не успели в 1915 году, а эти расходы составят одну седьмую полной стоимости моста! История моста показывает также, что его каменные быки причиняли много хлопот, неоднократно ремонтировались, но так и остались слабыми и сохранили много дефектов.
Нужно сказать, что в последние годы своей жизни Цепной мост в Киеве считался ненадежным и не удовлетворяющим условиям движения даже того времени. Об этом говорят те суровые ограничения и тот порядок, который был установлен для движения еще в 1913 году.
Из всего рассказанного мной читателю должно быть ясно, почему я и мои ученики так активно выступали против механического копирования старого моста. Выступали мы во всеоружии, оперируя большим количеством различных сделанных нами расчетов и исследований, а также выводов из заключений многих комиссий.
Опираясь на факты и расчеты, мы доказывали превосходство проекта восстановления моста балочной системы из имеющихся двутавровых балок и с разборкой каменных порталов на быках.
В чем же заключались основные преимущества нашего проекта?
Во-первых, удобство для судоходства. Без всякого затруднения можно было поднять пролетное строение на высоту над горизонтом высоких вод даже на 10 метров. Облегчение быков вследствие удаления каменных порталов. Затем сокращение сроков постройки моста, не связанной с извлечением затонувшего железа. Ведь удлинение срока постройки моста только на один год вызвало бы необходимость весь этот срок содержать слабый деревянный Наводницкий мост, что обошлось бы в 200 тысяч рублей! Далее — жесткость ферм большая, чем у цепной системы. Взрыв в одном из пролетов моста не вызвал бы падения ферм в остальных пролетах. Наконец мост балочной системы обошелся бы примерно на треть дешевле моста цепной системы.
Как обстояло дело с ссылками на красоту бывшего моста, я уже писал. Что же касается мысли восстановить его как исторический памятник, то невольно возникал следующий вопрос. Речь шла о постройке временного моста на пятнадцать лет. Какой же смысл восстанавливать «памятник» на столь краткий срок, по прошествии которого придется разрушить этот памятник? Если же мосту суждено будет простоять дольше, то, как уже говорилось, цепная система, не позволяющая поднять пролетное строение даже на 5,85 метра над горизонтом высоких вод, явилась бы на продолжительное время стеснительной для судоходства. Трудно было представить, чтобы киевский Цепной мост, считавшийся до его разрушения зыбким и слабым, после восстановления превратился в солидное и жесткое сооружение. Скорее следовало опасаться, что он сохранит и потом зыбкость, присущую цепной системе, и движение по мосту снова придется подвергнуть значительным ограничениям.
Сразу же после заключения договора с управлением мы приступили к работе. Если бы я взялся за дело один, создание рабочего проекта могло бы затянуться, а его нужно было выполнить в очень короткий срок. Кроме того, я считал работу над таким заданием необычайно полезной для моих питомцев из Киевского политехнического института. Они охотно отозвались на мое предложение, и вскоре была создана группа из пяти молодых инженеров — моих недавних учеников Г. М. Тубянского, Н. М. Галузинского, Г. М. Ковельмана, И. 3. Маракина и Дунаева и десятка студентов пятого курса Киевского политехнического института. Институт пошел нам навстречу и выделил для работы большую чертежную.
Окончательная схема нового моста получилась не сразу. Пришлось искать, пробовать разные пути, составить несколько эскизных проектов с различными системами ферм из двутавровых балок, например фермы консольной системы (Н. М. Галузинский), фермы с параллельными поясами и с усилением цепями (Г. М. Тубянский).
Эти проекты, составленные под моим руководством молодыми инженерами, посылались в научно-технический комитет НКПС. Мы надеялись, получив оттуда одобрение и практические советы, быстро завершить работу и передать окончательный рабочий проект заказчику.
Но все сложилось по-другому. Наши эскизные проекты были отвергнуты. В отделе пути наркомата возникла сильная оппозиция самой идее нашего проекта. Снова обсуждался вопрос о необходимости поднятия затонувшего железа и восстановления Цепного моста в прежнем его виде. Эту мысль, против которой мы в Киеве боролись больше двух лет, отстаивала теперь сильная группировка из нескольких работников НКПС, профессоров и архитекторов. Одна из мостовосстановительных организаций представила свой проект в этом духе и хотела взять на себя всю постройку.
Возникала угроза, что живое дело снова будет утоплено в дискуссиях и бесконечных спорах. Пока что так и получалось. Прошел 1923 год, начался 1924-й, а упорным и бесплодным спорам не видно было конца. Мы тяжело переживали все это. Нужно было найти какой-то выход, принять решительные меры.
Как-то в феврале 1924 года я поделился своими невеселыми мыслями с женой, обрисовал ей всю картину. Возникал какой-то замкнутый круг: одержали верх над своими противниками в Киеве, работали, трудились, создали, наконец, нечто реальное, и вот снова оказались у разбитого корыта.
— Что же ты думаешь дальше? С кем можно посоветоваться? — спросила Наталья Викторовна.
— Есть у меня одна мысль. Хочу сходить в губисполком.
— В губисполком? — удивленно переспросила жена. — А что от него зависит?
— Попытка не пытка. Может быть, и зависит что-нибудь. Знаешь что? Не буду откладывать, сейчас прямо и отправлюсь туда.
— Но о чем ты там будешь говорить?
— Расскажу все как есть, да они и сами почти всю эту историю знают. Попрошу их вмешаться со всей энергией и положить конец этой канители. Что ты скажешь?
— Иди, — коротко ответила Наталья Викторовна.
Я вышел из дому с твердым решением привести в исполнение свой план. Да, это правильный шаг!
Но на улице мной снова овладели сомнения. Они родились еще в ту минуту, когда в голову впервые пришла мысль об этом визите, и то исчезали, то возникали с новой силой. Как там расценят мое появление? Принято ли это? Ведь я не только беспартийный, но еще и старый «спец». И не усмотрят ли в моем шаге желание выслужиться, обратить на себя внимание? Это было бы для меня весьма неприятно.
Правда, мне уже не раз приходилось встречаться с коммунистами в управлении шоссейных дорог, в железнодорожных организациях, наконец были они и среди моих студентов. Но общался я с ними, как правило, так сказать, по долгу службы. А сейчас я иду по своей инициативе, иду жаловаться на транспортные верхушки. Может быть, это даже неприлично по их понятиям?
— При чем тут приличие?! — тут же ожесточился я против самого себя. — А когда больше чем полгода маринуют наш проект и пытаются его провалить — это прилично?
Перед большим серым домом с таблицами на русском и украинском языках я остановился в нерешительности. Но в ту же минуту широкая массивная дверь дома растворилась и пропустила на улицу несколько молодых людей.
Вот так сюрприз!
Это были мои ученики, члены партийной ячейки. После смерти Владимира Ильича Ленина и после ленинского призыва в партию коммунистов стало в институте вдвое больше. Я нисколько не сомневался: они заметили меня, но дипломатически притворились, что не узнали. Очень может быть, что они приходили сюда за тем же, за чем направлялся и я. Чувствуя на своей спине их пытливые взгляды, я поспешно взялся за медную ручку двери.
В губисполкоме меня принял один из его ответственных работников.
— Давно ждем вашего визита, — сказал он, здороваясь со мной.
Я подготовил себя к чему угодно, но только не к такой фразе. И от этих простых сердечных слов мне сразу показалось, что рядом со мной старый добрый знакомый, которому должны быть близки все мои волнения.
— Если вы ждали меня, то вам, наверное, понятна и цель моего посещения, — начал я. — Позвольте сразу перейти к делу. Как вы хорошо знаете, мы предлагаем строить шоссейный мост через Днепр из того, что у нас есть сейчас под руками. Ждать нового металла пришлось бы слишком долго, он больше нужен для других целей. Как видите, мы подходим к делу практически.
Хозяин кабинета одобрительно кивнул головой.
— Может быть, и даже наверное, — продолжал я, — наш мост не получится таким красивым, как хотелось бы, зато уже к будущему паводку можно будет справиться с постройкой.
А сам подумал: «Не слишком ли скупо я обрисовал суть дела?»
— А хватит ли этих балок?
— Наши студенты вместе с подрядчиком Виткевичем побывали на месте и составили тщательную опись. Взята на учет каждая балка. Хватит с избытком.
— Но если я не ошибаюсь, — наклонился ко мне работник исполкома, — двутавровые балки по своему профилю не совсем удобны для соединения в узлах?
Я с нескрываемым удивлением взглянул на собеседника. Однако он кое-что смыслит в мостостроении и сразу нащупывает слабые места!
— Мы подумали и об этом, — быстро отозвался я. — Правда, подобную задачу приходится решать впервые. Балки мы соединим шарнирами, — и, опережая возражения, я сам поставил вопрос. — Вы скажете, для этого нужен металл. Но мы ничего не просим, шарниры можно изготовить из старых вагонных осей.
Мой собеседник удовлетворенно откинулся в кресле, словно с его плеч сняли большую тяжесть.
— Прекрасно. Почему же все-таки на вас нападают некоторые товарищи из наркомата?
В этом человеке я интуитивно уже чувствовал союзника, но союзника такого, который все же не хочет доверяться одной лишь симпатии к идее и первым впечатлениям.
— Посудите сами. Они, как и их киевские единомышленники, предлагают поднять исковерканное железо, со дна реки и восстановить мост в прежнем виде. Внешне соблазнительно? Но эти наши критики витают в облаках. Резать на куски затонувшее железо? Это значит, сдать его на слом. А в целости поднять части моста невозможно. Отсюда вывод…
— На бумаге красиво, на деле — мыльный пузырь?
— Вот именно! Странно, однако, вы — не мостовик, а понимаете.
— А нам, большевикам, дорогой Евгений Оскарович, все полагается понимать. Вот и учимся понимать. Кстати, сколько длится эта канитель с утверждением проекта? Восемь месяцев? Нет, такой роскоши мы себе не можем позволить.
Он помолчал.
— А знаете, профессор, в одном они все-таки правы, ваши критики. Скучновато как-то выглядят ваши фермы, монотонно. Нельзя ли сделать их изящнее, как этого требует архитектор Щусев? Хотелось бы, чтобы мост радовал глаз. А? Народ наш заслужил это.
Я сознавал, что упрек, высказанный в такой мягкой форме, справедлив. Неловко было в этом сознаться, но амбиция — не в моем характере.
— Должен покаяться, это наше слабое место. Но пусть только нам скажут «да», а красоту мы уже наведем!
Я поднялся.
— Что же вы мне скажете на прощанье?
— Еще раз от души поблагодарю за то, что поверили в нас и пришли, и пожелаю отработать проект так, чтобы ни один ученый комар носа не подточил.
В дверях я задержался:
— А как же все-таки?..
— Позвольте нам вместе с губкомом партии еще подумать, посоветоваться, все взвесить. Даете нам такую возможность?
Я невольно засмеялся от такой перемены ролей.
Возвращаясь домой, я напряженно размышлял. Почему во мне все словно поет? Что, собственно, случилось? Меня внимательно выслушали, проявили интерес и понимание, даже явное сочувствие, а в сущности ничего не обещали. Но меня не обманывала внешняя сдержанность и скупость высказываний. Глаза коммуниста, с которым я беседовал, выражали гораздо больше, чем его слова. И это замечание о внешнем виде моста. «Народ заслужил!»
Поднимаясь по лестнице к своей квартире, я заранее предвкушал эффект, который произведет мой рассказ.
— Ну, Наташа, побывал я в губисполкоме у одного славного человека.
— Ну и что?
— За час стал старым знакомым.
Наталья Викторовна так взглянула на меня, словно я сообщил ей, что в бушевавшую за окнами февральскую метель зацвели деревья в институтском парке.
— Может, ты и в коммунисты там записался?
— Как раз наоборот, он — в мостовики.
Я невольно рассмеялся, взглянув на изумленное лицо жены, и подробно рассказал ей о своем визите. Потом, через много лет, она призналась, что тогда особым чутьем, которое присуще только близким людям, поняла, что случилось нечто очень важное во всей моей жизни и что тут дело не только в судьбе Цепного моста.
…В мае этого же 1924 года меня пригласили в губисполком. Чтобы не испытать потом разочарования, я готовил себя к самому худшему. Ведь наши противники упорно добиваются своего и до сих пор не сдаются. Неужели последнее слово останется за ними?
С острой тревогой в сердце входил я в уже знакомое здание.
Мне сразу же предложили ознакомиться с одним документом. Я начал читать и мгновенно просиял. Это было постановление губисполкома и губкома партии. Городские организации в самой категорической форме настаивали на том, чтобы мост восстанавливался по нашему проекту и чтобы строительство началось безотлагательно.
— Ну, а что же наши противники? — только и спросил я.
Передо мною положили другую бумагу. Авторитетные правительственные органы признают правильным мнение губисполкома и губкома партии и одобряют их решение.
Итак, ожесточенный спор, на который ушло столько времени, был закончен в нашу пользу, а главное — в интересах дела.
Это был полный успех!
— Ну что, довольны, Евгений Оскарович? — спросили меня. — Теперь соединим днепровские берега, город и село?
Мне захотелось быть чистосердечным до конца:
— Я нашел союзников не совсем там, где ожидал когда-то.
— Знаем. А мы вот там, где ожидали. Теперь — самый важный вопрос: кому же поручить изготовление пролетных строений?
Я, конечно, давно был готов к этому вопросу.
— Выбирать не из чего. Мостовому заводу в Екатеринославе.
— Н-да… Возить туда балки, потом обратно готовые элементы? И далеко от нашего глаза.
Ничего не поделаешь.
— А что, если поручить это дело Киеву?
С этим я никак не мог согласиться.
— Когда же на киевских заводах строили мосты, да еще такие?
Удар был тотчас же отпарирован:
— А пытался ли кто-либо в прошлом строить постоянные мосты из таких вот балок?
Я настаивал на своем:
— К сожалению, ничего не выйдет. Спросите у заводов, они вам сами скажут.
— Уже сказали. Делегации «Арсенала», «Большевика» и «Ленкузницы» побывали у нас и в губкоме и объявили, что этого заказа из города не выпустят. Киевский мост должен родиться в Киеве — так говорят рабочие и инженеры. Для них это не просто очередной заказ. А что скажет автор проекта?
Автор проекта угрюмо молчал. Эта идея казалась мне. благородной, патриотической, но технически более чем рискованной.
Я не хотел и не мог лукавить:
— Простите меня, вы верите в них, в наших киевлян?
— Мы — да. И всем сердцем. А вы?
— Не знаю, не знаю, — пробурчал я.
Праздник был явно, испорчен. Только что я видел
себя у цели и вдруг такие осложнения…

Википедия нам сообщает о нём: «…русский и советский хирург, уролог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской премии 1 степени. Пионер фаллопластики и имплантационной хирургии полового члена».
Впервые услышал о профессоре Богоразе от своего шефа, руководителя детской хирургической клиники, будучи ещё студентом-старшекурсником, и уже тогда преисполнился к нему почтением. Помню, был потрясён рассказом о поведении Богораза во время полученной им травмы в 1920 году. Николай Алексеевич жил тогда в Ростове-на-Дону. Пытался ехать на переполненном трамвае, прицепившись на его подножку, и, сорвавшись, угодил ногами под колёса второго прицепного вагона, и Богораз с ампутированными трамвайными колёсами ногами сидел у трамвайного рельса, пережав кулаками свои бедренные артерии, пока не увидел бегущих к нему из скорой помощи людей в белых халатах. Потом эту историю слышал и от многих своих коллег старшего поколения. Рассказывали, что потерял свои ноги на уровне бёдер, что оперировал, сидя на специально изготовленном для него высоком стуле.
Неоднократно пытался найти в Сети информацию о нём, но ещё до недавнего времени она была невероятно скудна. И вот теперь прорвало. Появилась статья, посвящённая Богоразу в Википедии, вывесили на разных сайтах биографические очерки, воспоминания о легендарном профессоре.
И оказалось, что среди послевоенного поколения врачей всё-таки ходили приукрашенные легенды, которые ничуть не умаляют подвига этого мужественного человека, талантливого хирурга, плодовитого учёного. Судя по появившейся в интернете фотографии и по воспоминаниям его современников и учеников, Николаю Алексеевичу трамвай отрезал ноги ниже бёдер, на уровне голеней, ибо ходил он на протезах и за операционным столом чаще тоже стоял на протезах.
Богораз Н.А. в Главном военном госпитале. Москва, 1944 г.
Ростовский хирург Г.С. Будагов вспоминал: «Николай Алексеевич мыл руки сидя, и после того как был одет в стерильный халат, к нему подходили два одетых в стерильное ассистента, и он, опираясь на их предплечья, шёл, раскачиваясь, выбрасывая вперёд ноги. Стена из трёх человек медленно продвигалась к операционному столу. Этот вынужденный ритуал производил впечатление. В аудитории воцарялась абсолютная тишина. Слышен были лишь скрип протезов. Николай Алексеевич чаще оперировал стоя, расставив ноги и опираясь животом на высоко поднятый операционный стол».
Выяснилось, что трамвайная трагедия случилась с Богоразом, когда он ехал в клинику не один, а с профессором Н.В.Парийским, который и оказывал ему первую помощь, пытаясь остановить кровотечение.
«Как очевидец событий могу сказать, что Николай Алексеевич упал головой по направлению к рельсам, но затем инстинктивно отбросил голову вместе с верхней частью туловища назад, причём ноги попали на рельсы. Всё время он находился в полном сознании и обнаружил удивительное самообладание и мужество. Когда я схватил его левую ногу и сжал её, чтобы остановить кровотечение, он сказал мне: «Возьмите повыше, так как я через платье взял слишком низкое место».
Сам став инвалидом, Богораз проникся к своим собратьям по несчастью и всё больше и глубже погружался в проблемы их хирургической реабилитации и восстановления, в результате чего оказался у истоков восстановительной хирургии и, можно смело утверждать, её создателем. Следует понимать, что в те годы у хирургов выбор шовных нитей был весьма беден, только намечались попытки механизации труда хирургов в виде хирургической сшивающей аппаратуры, не существовало многих современных технологий восстановления и исправления дефектов костей, никто не ведал о микрохирургической технике и всё зиждилось исключительно на рукоделии хирургов. Тем не менее, в 1940 году Богораз подвёл черту под своим накопленным опытом, издав руководство «Восстановительная хирургия». После Великой Отечественной войны, переработав и расширив свой труд, в 1949 году переиздал это трёхтомное руководство.
Ясен пень, что на войне воинов калечит не только путём отрывания рук, ног, выбиванием глаз, достаётся и интимному мужскому месту, лишая, как правило, молодых мужчин, а порой и совсем юных их мужского достоинства. И было таких мужчин в России, переживших германскую, гражданскую, польскую войны, длившиеся с 1914 до 1923 года, надо полагать, не мало. А ведь ещё и в Средней Азии с басмачами воевали до 1932 года.
Да, что далеко ходить, уже в новейшей истории во время боёв на Донбассе прибалтийские сучки снайперши целенаправленно стреляли бойцам ополчения в причинное место.
И Николай Алексеевич, увлёкшись этой темой в 1936 году, осуществил прорыв в этом урологическом направлении хирургии. Богораз разработал операцию, имевшую мировой резонанс. Он разработал методику полного пластического восстановления мужского полового члена, способного к совокуплению, с использованием рёберного хряща. Невероятно важной эта его разработка стала во время и после Великой Отечественной войны. Ведь сколько мальчишек ушло на фронт прямо со школьной скамьи, не успев попробовать женщины, а вернувшись с неё им пробовать их было уже нечем.
Во время Великой Отечественной войны огнестрельные ранения висячей и мошоночной части мочеиспускательного канала совместно с огнестрельными ранениями полового члена, мошонки и органов мошонки составляли 14,6%.
(Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – М.: Медгиз, 1955. – Т. 13, «Огнестрельные ранения и повреждения мочеполовых органов, костей таза и внебрюшинного отдела прямой кишки» – с. 37).
Рассказывали, что к Богоразу бедняги ехали со всей страны, на этапе обследования жарко спорили с профессором, упрашивая его воссоздать их мужскую гордость потолще и подлиннее, а Николай Алексеевич отбивался от них уговаривая на более скромные размеры, ведь его задача заключалась не во внешнем виде восстановленного органа, а в возобновлении его функции, дескать, не беда, что маленький, главное, чтобы был удаленьким. И после восстановительных операций его пациенты женились и их любимые женщины рожали им детей.
Эта разработка Богораза имела далекоидущие последствия и послужила базой для последующих её усовершенствований. Виктор Константинович Калнберз, советский и латвийский хирург, ортопед-травматолог, учёный, академик АМН СССР (ныне РАН), академик АН Латвийской ССР, благодаря более современным возможностям, прежде всего, пластической хирургии поднял методику фаллопротезирования на новую высоту. Дело в том, что изменить пол мужской в женский в техническом плане, что плюнуть. Отправил выступающие ниже живота части мужского тела в таз, сделал из кожи внутренней поверхности бедра или из кишки искусственное влагалище, поселил на груди силиконовые сиськи и пожалуйте под венец. А вот провернуть обратный трюк, изменить женский пол в мужской, задача потрясающей сложности. И Калнберз был первым в мире, кто успешно с ней справился. В 1970-72 годах он превратил молодую женщину, не желавшую жить в женской оболочке, в мужчину.
И ещё о Богоразе, в 1937 году Николай Алексеевич, как и булгаковский профессор Преображенский, выполнил уникальную работу – пересадку гипофиза трупа карлику.
Открытием для меня стало и участие Богораза в молодости в революционном движении.
Николай Богораз родился в семье учителя Менделя (Максимилиана Марковича) Богораза, из овруческой (Житомирская область Украины) раввинской семьи, и Анны Абрамовны Богораз, из купеческой семьи городка Бар Подольской губернии (теперь Винницкая область). В семье была дочь и четыре сына (Николай Алексеевич был третьим). Старшая сестра и все его братья стали бунтарями, связав свою жизнь с «Народной волей».
Сестра Прасковья Фёдоровна (Перл Максимовна) Богораз (в замужестве Шебалина, 1860-1884), вместе с мужем проходила по «Процессу 14» в Киеве. Николай Алексеевич тоже не остался в стороне, попытавшись двинуться другим путём, стал членом социал-демократического кружка студентов Петербургской военно-медицинской академии, где он учился, затем вошёл в Колпинский марксистский кружок, повязанный с Ленинским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Очевидно, несколько пережитых арестов, погружение в хирургию и инвалидность, к счастью, угомонили нигилизм Николая Алексеевича. Его старший брат Владимир Германович Богораз (до крещения – Натан Менделевич; 1865-1936), помимо борьбы за народную волю, прославился в этнографии, изучал народы Севера и Дальнего востока, а остальные братья тоже были врачами. Один из братьев-народовольцев Лазарь Максимилианович Богораз (Сергей Максимович Губкин, 1868-?), после не тех результатов революции и гражданской войны эмигрировал во Францию).
Оказывается, известная антисоветчица-диссидентша Лариса Богораз, двоюродная племянница Николая Алексеевича, дочь его двоюродного брата, Иосифа Ароновича Богораза (1896-1985), который в 1936 году был осуждён по статье КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность). Интересно получается, отцы боролись с царизмом, ввергли страну в кошмар революции и гражданской войны, привели страну к социализму, но социализм им показался не в струю и уже их дети начали борьбу с социализмом. Возьму грех на душу, предположу, что не устраивала их не система государственного обустройства России, а существование самой России.
Да, и ещё, случай с потерей ног Богоразом, потрясающее его самообладание в момент травмы, мужество по преодолению результатов жуткой трагедии, сила воли, мобилизованная для возвращения к хирургической деятельности, послужили посылом режиссёру Геннадию Казанскому, снявшему художественный фильм «И снова утро», вышедший на экраны страны в 1960 году с Владимиром Самойловым в главной роли.
По мотивам своей памяти, а также на просторах интернета: источники здесь, тут и Википедия
Копирование авторских материалов с сайта возможно только в случае
указания прямой открытой активной ссылки на источник!
Copyright © 2020 larichev.org